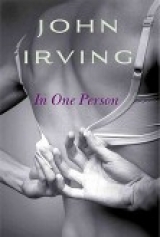
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
– А-а.
– Уильям, тебе нужно подождать, – сказала мисс Фрост. – Время читать «Госпожу Бовари» наступает, когда твои романтические надежды и желания рухнули, и тебе кажется, что все твои отношения в будущем принесут только разочарование – и даже опустошение.
– Тогда я подожду такого случая, – сказал я ей.
В ее спальне и ванной – бывшем угольном погребе – горела только лампа для чтения, прикрепленная к изголовью старомодной латунной кровати. Мисс Фрост зажгла свечу с ароматом корицы на ночном столике и погасила лампу. Затем она велела мне раздеться.
– Раздеться – значит снять всю одежду, Уильям, – и носки, пожалуйста, тоже.
Я повиновался, повернувшись к ней спиной; она попросила «минутку уединения». Мисс Фрост быстро воспользовалась унитазом с деревянным сиденьем – кажется, я слышал, как она помочилась и спустила воду – а затем по звуку льющейся воды я заключил, что она быстро умывается и чистит зубы над маленькой раковиной.
Я лежал обнаженным на ее латунной кровати; в неровном свете свечи я прочел, что «Комната Джованни» была издана в 1956 году. Из вложенной в нее библиотечной карточки я узнал, что лишь один посетитель городской библиотеки брал этот роман – за четыре года – и подумал, не была ли единственной читательницей мистера Болдуина сама мисс Фрост. Я не успел прочесть и двух абзацев, когда мисс Фрост сказала:
– Пожалуйста, Уильям, не читай его сейчас. Это очень грустный роман, он тебя расстроит.
– Чем расстроит? – спросил я ее. Я слышал, как она развешивает вещи в шкафу; мысль о ней без одежды отвлекала, но я продолжал читать.
– Невозможно «пытаться сдерживать» влюбленность в Киттреджа, Уильям, – «пытаться» не работает, – сказала мисс Фрост.
И тут я дошел до предпоследнего предложения во втором абзаце; я просто захлопнул книгу и закрыл глаза.
– Я же велела тебе перестать читать, – сказала мисс Фрост.
Предложение начиналось так: «А напротив меня непременно усядется девушка, и мое нежелание ухаживать за ней удивит ее»[7], – и на этом месте я остановился, не зная, осмелюсь ли продолжать.
– Этот роман не стоит показывать твоей маме, – продолжала мисс Фрост. – И если ты не готов обсудить свою влюбленность в Киттреджа с Ричардом, то на твоем месте я и Ричарду не показывала бы, что ты читаешь.
Я почувствовал, как она легла на кровать позади меня; ее голая кожа касалась моей спины, но разделась она не полностью. Она нежно взяла мой член в свою большую ладонь.
– Есть такая птица – веретенник, – сказала мисс Фрост.
– Веретенник? – переспросил я; мой член начал твердеть.
– Теперь скажи это по слогам, Уильям.
– Ве-ре-тень-ник, – повторил я.
– А теперь только третий слог, – велела она.
– Тень, – сказал я, не раздумывая; большая часть моего внимания была сосредоточена на ее руке, державшей мой член.
– Как в «тени Лира»? – спросила она меня.
– Тень Лира, – произнес я. – Я все равно не хотел играть в этой пьесе, – сказал я ей.
– Ну, ты хотя бы не сказал «веретень Лира», – сказала мисс Фрост.
– Тень Лира, – повторил я.
– А что это у меня в руке? – спросила она.
– Мой пениф, – ответил я.
– Я бы ни на что не променяла этот пениф, Уильям, – сказала мисс Фрост. – Я считаю, ты можешь произносить это слово как тебе в голову взбредет.
То, что произошло дальше, открыло мне дверь в недостижимое; то, что сделала мисс Фрост, оказалось непревзойденным. Неожиданно она притянула меня к себе – я лежал на спине – и поцеловала меня в губы. На ней был лифчик – не с поролоном, как у Элейн, а прозрачный, с чашками несколько большего размера, чем я ожидал. Легкий шелковистый материал был совсем не таким, как мягкий хлопок лифчика Элейн, – лифчик мисс Фрост явно не попадал в разряд тренировочных, если судить по гораздо более утилитарным моделям в маминых каталогах – он был более искусно сшитым и более сексуальным. На ней была также обтягивающая нижняя юбка бежевого цвета – такие надеваются под верхнюю юбку, – и когда мисс Фрост оседлала меня, она поддернула эту юбку выше середины бедра. Она плотно сжала меня ногами и так придавила меня своим весом, что я впечатался в кровать.
Одной рукой я схватил ее маленькую мягкую грудь, другой попытался дотронуться до нее под юбкой, но мисс Фрост сказала:
– Нет, Уильям. Пожалуйста, не трогай меня там.
Она взяла мою заплутавшую руку и положила себе на другую грудь.
Зато мой член она направила прямо под свою нижнюю юбку. Я никогда прежде не входил в кого-либо, и, ощутив восхитительное трение, конечно же, решил, что это и есть проникновение. Было ощущение скольжения – безболезненное, но никогда еще мой член не сжимали так крепко – и, кончая, я закричал, уткнувшись в ее маленькую мягкую грудь. Я был удивлен, обнаружив, что прижимаюсь лицом к ее шелковому лифчику, потому что совершенно не заметил, когда мисс Фрост перестала целовать меня. (Она ведь сказала: «Нет, Уильям. Пожалуйста, не трогай меня там». Очевидно, что она не могла целовать меня и говорить одновременно.)
Мне столько хотелось ей сказать, столько спросить, но мисс Фрост не была расположена к разговорам. Возможно, дело было в этом странном чувстве нехватки времени; по крайней мере, я убедил себя в этом.
Она набрала для меня ванну; я надеялся, что она снимет остальную одежду и присоединится ко мне, но этого не произошло. Она встала на колени рядом со старомодной ванной на львиных лапах и с кранами в виде львиных голов и нежно вымыла меня – особенно осторожно обращаясь с моим членом. (Она даже говорила о нем с любовью, нежно называя его пениф, и мы оба смеялись.)
Но мисс Фрост продолжала поглядывать на часы.
– Опоздание в общежитие означает взыскание. А это может повлечь за собой ранний отбой. И никаких посещений городской библиотеки после закрытия – нам ведь этого не хотелось бы, правда?
Взглянув на ее часы, я увидел, что нет еще и половины десятого. Мы были всего лишь в нескольких минутах ходьбы от Бэнкрофт-холла, на что я и указал мисс Фрост.
– Ну, ты ведь можешь наткнуться на Киттреджа, и тебе придется обсуждать с ним немецкий, – только и сказала она.
Я запомнил то влажное, шелковистое ощущение, и когда – перед тем как войти в ванну – я дотронулся до своего члена, на моих пальцах остался легкий аромат. Может, мисс Фрост использовала какую-то смазку, подумал я, – годы спустя я вспомнил этот запах, когда впервые понюхал жидкое мыло, которое делают из масла миндаля или авокадо. Но что бы это ни было, вода смыла этот запах.
– Никаких посещений комнаты с ежегодниками – не сегодня, Уильям, – сказала мисс Фрост; она помогала мне одеться, будто я был школьником, собирающимся в первый класс. Она даже выдавила себе на палец немного зубной пасты и сунула мне в рот.
– Иди прополощи рот в раковине, – сказала она. – Полагаю, ты сможешь найти выход – я закрою библиотеку, когда буду уходить.
Потом она поцеловала меня – долгим, медленным поцелуем, который заставил меня положить руки ей на бедра.
Мисс Фрост быстро перехватила мои руки, сняв их со своей обтягивающей нижней юбки и положив себе на грудь, где (у меня создалось четкое ощущение) им, по ее мнению, и было самое место. Или же она просто считала, что моим рукам не место ниже ее талии – что мне не следует или запрещено трогать ее «там».
Пока я поднимался по темной подвальной лестнице к слабому свету в фойе библиотеки, мне вспомнилось идиотское предостережение, услышанное на одном давнем утреннем собрании, – доктор Харлоу традиционно произнес умопомрачительную речь по случаю воскресных танцев, которые устраивала академия совместно с одним женским интернатом.
– Не трогайте ваших партнерш ниже талии, – заклинал наш несравненный доктор. – И вам, и вашим партнершам будет лучше!
Но это не может быть правдой, размышлял я, когда мисс Фрост крикнула мне – я был еще на лестнице:
– Иди сразу домой, Уильям – и поскорее приходи меня проведать!
У нас так мало времени! – почти крикнул я ей – позднее мне вспомнится это внезапное предчувствие, хотя в тот момент я хотел произнести эти слова, просто чтобы услышать, что она скажет в ответ. Это ведь мисс Фрост почему-то считала, что у нас осталось мало времени.
Когда я вышел наружу, у меня в голове промелькнула мысль о бедном Аткинсе – бедном Томе. Я пожалел, что был с ним груб, и одновременно посмеялся над собой, вспомнив, как воображал, будто он влюблен в мисс Фрост. Забавно было представить их вместе: Аткинс со своим речевым расстройством, совершенно неспособный выговорить слово «время», и мисс Фрост, которая произносила его то и дело!
Я прошел мимо зеркала в тускло освещенном фойе, едва взглянув в него, но – возвращаясь домой в звездной сентябрьской ночи – я решил, что мое отражение выглядело намного более взрослым (чем до встречи с мисс Фрост, я имею в виду.) Однако, шагая по Ривер-стрит к кампусу академии, я подумал, что по своему отражению не мог бы сказать, что я только что занимался сексом впервые в жизни.
За этой мыслью последовала другая, более тревожная – внезапно мне пришло в голову, что, может, я и не занимался сексом. (Настоящим сексом – то есть с проникновением.) И сразу вслед за тем: да как я вообще могу думать о таком в самую чудесную ночь моей юной жизни?
Тогда я еще понятия не имел, что можно не заниматься сексом (с проникновением) и все же испытать непревзойденное сексуальное удовольствие – равного которому я не переживал и по сей день.
Да и что я вообще знал тогда? Мне было всего восемнадцать; тем вечером, когда я вернулся домой с «Комнатой Джованни» Джеймса Болдуина в сумке, мои влюбленности в неподходящих людей только начинались.
Общая комната в Бэнкрофт-холле, как и в других общежитиях, называлась курилкой; курящим старшеклассникам разрешалось находиться там в часы для самостоятельных занятий. Многие некурящие старшеклассники считали, что это слишком большая привилегия, чтобы упустить ее; даже они предпочитали заниматься в курилке.
В те бесстрашные годы никто не предупреждал нас о вреде пассивного курения – и уж, конечно, не этот придурок, наш школьный врач. Не помню ни одного утреннего собрания, которое касалось бы такого недомогания, как курение! Доктор Харлоу тратил свое время и талант на лечение излишней плаксивости у мальчиков – пребывая в стойком убеждении, что существует средство от гомосексуальных склонностей у юношей, которыми мы постепенно становились.
Я пришел за пятнадцать минут до отбоя; стоило мне войти в знакомую серо-голубую дымку, постоянно висевшую в курилке Бэнкрофт-холла, как на меня набросился Киттредж. Не знаю, что за борцовский захват он применил ко мне. Позже я попытался описать его Делакорту – который, кстати, не так уж плохо справился с ролью шута, как я узнал позднее. В перерыве между полосканием и сплевыванием Делакорт предположил: «Похоже на рычаг локтя. Киттредж этим приемом всех уделывает».
Как бы этот захват ни назывался, больно мне не было. Я просто понимал, что не могу освободиться, и даже не пытался. Честно говоря, оказаться так близко к Киттреджу сразу после объятий мисс Фрост было просто запредельно.
– Привет, Нимфа, – сказал Киттредж. – Где ты был?
– В библиотеке, – ответил я.
– А я слышал, ты давно ушел из библиотеки, – сказал Киттредж.
– Я пошел в другую библиотеку, – сказал я ему. – Есть еще публичная, городская библиотека.
– Видать, одной библиотеки недостаточно для такого деятельного парнишки, как ты, Нимфа. Герр Штайнер дает нам завтра тест – я думаю, там будет скорее Рильке, чем Гёте, а ты что скажешь?
Герр Штайнер преподавал у меня на втором курсе немецкого – это был один из австрийских лыжников. Он был неплохим преподавателем, но довольно-таки предсказуемым. Киттредж верно угадал: в тесте будет больше цитат из Рильке, чем из Гёте. Штайнеру нравился Рильке, но с другой стороны, кому он не нравится? Герру Штайнеру также нравились длинные слова, которые так любил Гёте. Киттредж не мог справиться с немецким, потому что вечно старался угадать. Невозможно угадать слово в иностранном языке, особенно в таком точном, как немецкий. Либо ты его знаешь, либо нет.
– Тебе нужны длинные слова из Гёте, Киттредж. Тест будет не только по Рильке, – сказал я ему.
– Штайнеру нравятся длинные строчки из Рильке, — посетовал Киттредж. – Их трудно запомнить.
– У Рильке есть и короткие фразы. Они всем нравятся – не только Штайнеру, – предупредил его я. – «Musik: Atem der Statuen».
– Черт! – заорал Киттредж. – Я это знаю, что это?
– «Музыка: дыхание статуй», – перевел я ему, но думал я о рычаге локтя, если так назывался этот захват; я надеялся, что он никогда меня не отпустит. – И вот еще: «Du, fat noch Kind» – эту знаешь?
– Вся эта херня про детство! – закричал Киттредж. – Что, этот сраный Рильке так и не вышел из детства?
– «Ты, почти дитя» – я гарантирую, что это будет в тесте, Киттредж.
– И еще «reine Übersteigung»! Эта хрень про «чистое стремленье»! – крикнул Киттредж, сжимая меня крепче. – Вот она точно будет!
– Что-то из Рильке про детство будет точно, – пообещал я.
– «Lange Nachmittage der Kindheit», – пропел Киттредж мне в ухо. – «Долгие полдни детства». Разве тебя не впечатляет, что я это помню, а, Нимфа?
– Если тебя беспокоят длинные фразы, не забудь еще вот эту: «Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger» – «Ни детство мое, ни грядущее – нет, не становятся меньше»[8]. Эту помнишь? – спросил его я.
– Твою мать! – заорал Киттредж. – Я думал, это Гёте!
– Это же про детство, так? Это Рильке, – сказал я ему. «Dass ich dich fassen möcht» – если бы я мог заключить тебя в объятия – думал я (вот это был Гёте). Но вслух я произнес только: «Schöpfungskraft».
– Дважды твою мать! – сказал Китредж. – Вот это Гёте, я точно знаю.
– Однако переводится не как «дважды твою мать», – сообщил ему я. Не знаю, что он сделал со своим захватом, но теперь стало больно. – Это значит «сила творения» или что-то вроде того, – сказал я, и боль прекратилась; она была почти приятной. – Наверняка ты не знаешь «Stoßgebet» – это ты пропустил в прошлом году, – напомнил ему я. Боль вернулась; мне она начинала нравиться.
– А ты у нас сегодня бесстрашный, а, Нимфа? Две библиотеки, похоже, прибавили тебе самоуверенности, – сказал мне Киттредж.
– Как там Делакорт справляется с «тенью Лира» и всем остальным? – спросил я.
Он ослабил захват; теперь он держал меня почти нежно.
– Что такое этот долбаный «Stoßgebet», Нимфа? – спросил он меня.
– «Быстрая молитва», – сказал я.
– Трижды твою мать, – сказал он неожиданно кротко. – Мудацкий Гёте.
– С «überschlechter» у тебя в том году тоже была проблема – на случай, если Штайнер решит схитрить и подсунуть прилагательное. Я просто стараюсь тебе помочь, – сказал я ему.
Киттредж отпустил меня.
– Это я вроде знаю – оно значит «очень плохой», правильно? – спросил он. (Учтите, что все это время мы не то чтобы боролись – и не то чтобы беседовали, — а обитатели курилки увлеченно наблюдали за нами. Киттредж всегда притягивал взгляды, в любой толпе, и вот появился я – на первый взгляд казалось, что я могу противостоять ему.)
– И не ошибись с «Demut», ладно? – сказал я. – Это короткое слово, но это Гёте.
– Это я знаю, Нимфа, – ответил Киттредж, улыбаясь. – Это «смирение», да?
– Да, – ответил я. Я был удивлен, что ему на родном-то языке это слово известно. – Просто запомни: если звучит как пословица или поучение, это, скорее всего, Гёте.
– Старость – вежливый господин, ты о всякой такой херне, – к моему дальнейшему изумлению, Киттредж знал даже фразу на немецком и продекламировал ее: «Das Alter ist ein höflich’ Mann».
– Есть еще один, похожий на Рильке, но это Гёте, – предупредил его я.
– Это который про долбаный поцелуй, – сказал Киттредж. – Скажи на немецком, Нимфа, – скомандовал он мне.
– «Der Kuß, der letzte, grausam süß», – произнес я, вспоминая искренние поцелуи мисс Фрост. Но я не мог не думать и о том, чтобы поцеловать Киттреджа; меня снова начала бить дрожь.
– «Поцелуй, последний, жестоко сладкий», – перевел Киттредж.
– Верно, или можно еще перевести «самый последний», – сказал я. – «Die Leidenschaft bringt Leiden», – произнес я, вкладывая душу в каждое слово.
– Долбаный Гёте! – заорал Киттредж. Я видел, что эту фразу он не знает – и угадать ее значение тоже не может.
– «Страсть приносит боль», – перевел я ему.
– Ага, – сказал он. – Много боли.
– Эй, ребята, – сказал один из курильщиков. – Уже почти отбой.
– Четырежды твою мать, – сказал Киттредж. Я знал, что он успевает промчаться через двор к Тилли – и уж Киттредж-то мог придумать безупречное оправдание, даже если опоздает.
– «Ein jeder Engel ist schrecklich», – сказал я ему вслед.
– Рильке, да? – спросил он.
– Ага, Рильке. Это известная фраза, – сказал я ему. – «Каждый ангел ужасен».
Киттредж замер в дверях курилки. Прежде чем сорваться с места, он посмотрел на меня; этот взгляд испугал меня: мне показалось, что на его красивом лице одновременно читаются абсолютное понимание и глубокое презрение. Как будто Киттредж внезапно узнал обо мне все – не только кто я и что скрываю, но и все, что ожидает меня в будущем. (В моем зловещем Zukunft, как сказал бы Рильке.)
– А ты особенный парнишка, а, Нимфа? – быстро спросил меня Киттредж. Он убежал, не дожидаясь ответа, но успел еще крикнуть мне на бегу: – Каждый из твоих долбаных ангелов наверняка будет ужасен!
Я знал, что под «каждым ангелом» Рильке подразумевал совсем другое, но все же мысленно я причислил Киттреджа и мисс Фрост, и, пожалуй, бедного Тома Аткинса – и как знать, кто еще ждет меня в будущем? – к моим ужасным ангелам.
И что там сказала мисс Фрост, когда посоветовала мне подождать с чтением «Госпожи Бовари»? А вдруг все мои ужасные ангелы, начиная с мисс Фрост и Жака Киттреджа (мои «отношения в будущем», как сказала мисс Фрост), принесут с собой «разочарование и даже опустошение»?
– Билл, что с тобой? – спросил меня Ричард Эбботт, когда я вернулся в нашу квартирку. (Мама уже легла; по крайней мере, дверь их спальни была, как всегда, закрыта.) – Ты как будто увидел призрак! – сказал Ричард.
– Не призрак, – сказал я ему. – Похоже, просто мое будущее.
Я решил оставить его размышлять над этой таинственной фразой; я направился прямо в спальню и закрыл за собой дверь.
Вот и подбитый поролоном лифчик Элейн, там же, где и почти всегда – под моей подушкой. Я долго лежал, глядя на него, и видел в нем что-то от моего будущего – или моих ужасных ангелов.
Глава 8. Большой Ал
«Главное, что мне не нравится в Киттредже, – его жестокость», – написал я Элейн той осенью.
«Это у него наследственное», – написала она в ответ. Конечно, здесь я не мог спорить с Элейн, ведь она знала миссис Киттредж куда лучше меня. Элейн была достаточно близка с «этой ужасной женщиной», чтобы с уверенностью заявлять, какие гены передались от матери к сыну. «Киттредж может отрицать, что она его мать, пока не лопнет, Билли, но я тебе говорю: она этого мудака грудью кормила до тех пор, пока он не начал бриться!»
«Ну ладно, – написал я Элейн. – Но почему ты так уверена, что жестокость передается по наследству?»
«А как насчет манеры целоваться? – ответила мне Элейн. – Эти двое целуются одинаково, Билли. А это уж точно генетическое».
В том же письме, после трактата о генетике Киттреджа, Элейн объявила, что собирается стать писателем; даже в том, что касалось этого стремления, самого священного из всех, Элейн была откровеннее со мной, чем я с ней. Уже началось мое приключение с мисс Фрост, о котором я столько мечтал, но я все еще ничего не рассказал Элейн!
Разумеется, я вообще никому об этом не рассказывал. И сопротивлялся желанию снова приняться за «Комнату Джованни», пока не осознал, что хочу снова увидеться с мисс Фрост – и чем скорее, тем лучше, – а ведь не мог я показаться в библиотеке Ферст-Систер, не будучи готовым обсудить с мисс Фрост писательский талант Джеймса Болдуина. И вот я снова погрузился в роман – но ненадолго: вскоре еще одна фраза остановила меня на полном ходу. Я наткнулся на нее в самом начале второй главы и остаток дня не мог заставить себя вернуться к книге.
«Да, я презирал его, но теперь понимаю, что это чувство родилось от презрения к самому себе» – прочел я и тут же подумал о Киттредже – и о том, как одновременно ненавидел его и ненавидел себя за то, что был в него влюблен. Я подумал, что роман Джеймса Болдуина как-то уж слишком правдив, чтобы я мог с ним справиться, но все же на следующий вечер заставил себя читать дальше.
В той же второй главе есть описание «тонких, как лезвие ножа, мальчиков в джинсах», от которого я мысленно отпрянул. Вскоре я сам буду стараться походить на этих мальчиков и начну искать их общества; мысль об изобилии «тонких, как лезвие ножа», мальчиков в моем будущем пугала меня.
Несмотря на страх, я вдруг обнаружил, что добрался уже до середины романа и никак не могу оторваться. Я прочел, как ненависть рассказчика к его любовнику становится такой же сильной, как любовь к нему, и «питается из тех же источников»; прочел, как Джованни все равно вызывал его желание, даже когда рассказчика «чуть не тошнило» от его дыхания – я возненавидел эти отрывки, но лишь потому, что испытывал отвращение и страх к этим чувствам в самом себе.
Да, мое влечение к мальчикам и мужчинам вызывало у меня беспокойство и страх перед «беспощадным хлыстом общественного мнения», но куда страшнее был отрывок, описывающий чувства героя во время секса с женщиной: «Ее полные груди наводили на меня ужас, и когда она лежала подо мной, я вздрагивал при мысли, что живым мне из ее объятий не вырваться».
Почему со мной такого не произошло? – задумался я. Только ли потому, что у мисс Фрост маленькая грудь? Если бы ее грудь была побольше, может, она наводила бы на меня ужас – вместо упоительного возбуждения? И снова вернулась непрошеная мысль: а «входил» ли я нее? И если нет, но в следующий раз мне это удастся, буду ли я чувствовать потом отвращение – вместо полного блаженства?
Вы должны понять, что до «Комнаты Джованни» я никогда прежде не встречал романа, который так потряс бы меня, а я уже прочел (к своим восемнадцати годам) множество романов – и многие из них были превосходными. Джеймс Болдуин написал великолепную и шокирующую книгу – больше всего меня поразили слова Джованни: «Ты хочешь бросить меня потому, что, когда ты со мной, от тебя дурно пахнет. Ты хочешь меня возненавидеть, потому что я не боюсь дурного запаха любви». Эти слова, «дурной запах любви», потрясли меня и заставили почувствовать себя ужасно наивным. А как еще может пахнуть секс с юношей или мужчиной? Правда ли Болдуин имел в виду запах дерьма, ведь именно он останется на члене после секса с мужчиной?
Я был страшно взбудоражен; мне хотелось с кем-то поговорить, и я едва не отправился будить Ричарда, чтобы обсудить все с ним.
Но я вспомнил, что мне сказала мисс Фрост. Я не был готов обсуждать с Ричардом мою влюбленность в Киттреджа. Я остался в постели; как обычно, я надел лифчик Элейн и продолжил читать «Комнату Джованни» – всю ночь напролет.
Я вспомнил запах, оставшийся на моих пальцах, когда я дотронулся до своего члена, прежде чем войти в ванну мисс Фрост; он походил на аромат масла миндаля или авокадо, но уж точно не на запах дерьма. Но, разумеется, мисс Фрост была женщиной, и если я действительно проник в нее, то уж, конечно, не туда!
Миссис Хедли была, как и ожидалось, впечатлена моей победой над словом «тень», но поскольку я не мог (или не хотел) рассказать Марте Хедли о мисс Фрост, было непросто объяснить ей, как мне удалось с ним справиться.
– С чего вдруг ты решил произнести веретенника по слогам, Билли?
– Э-э, ну… – начал я и замолчал – прямо как дедушка Гарри.
Ни я, ни миссис Хедли не придумали, как можно применить «технику веретенника» (как ее назвала Марта Хедли) к остальным моим проблемным словам.
Конечно же, выйдя из кабинета миссис Хедли, я снова столкнулся с Аткинсом.
– А, это ты, Том, – сказал я, стараясь звучать небрежно.
– Значит, теперь я «Том», да? – спросил меня Аткинс.
– Мне просто надоело, что в этой ужасной школе называют всех по фамилиям, – а тебе? – спросил я.
– Ну раз уж ты сам об этом заговорил… – с горечью сказал Том. Я видел, что бедный Том все еще дуется после нашей ссоры в городской библиотеке.
– Слушай, извини за вчерашнее, – сказал я ему. – Я не хотел еще больше тебя расстраивать этим «на посылках». Я прошу прощения.
Аткинс частенько выглядел так, будто вот-вот расплачется. Если бы доктор Харлоу пожелал привести пример «избыточной плаксивости», думаю, ему довольно было бы попросить Тома Аткинса, и тот разрыдался бы на утреннем собрании просто по щелчку пальцев.
– Кажется, я помешал вам с мисс Фрост, – сказал Аткинс, внимательно глядя на меня.
– Мы с мисс Фрост много говорим о писательском мастерстве, – сообщил я ему. – Она советует мне, какие книги читать. Я рассказываю ей, что меня интересует, и она подбирает мне подходящий роман.
– И что за книгу она дала тебе вчера, Билл? – спросил меня Том. – Что тебя интересует?
– Влюбленности в неподходящих людей, – сказал я Аткинсу. Поразительно, как быстро придал мне храбрости мой первый сексуальный опыт. Я чувствовал, что могу – и даже хочу – говорить о вещах, о которых прежде стеснялся сказать, – и не только робкому Тому Аткинсу, но и своей могущественной немезиде и запретной любви, Жаку Киттреджу.
Конечно, быть смелым с Киттреджем на немецком было куда легче; я еще не настолько расхрабрился, чтобы рассказать Киттреджу правду о моих чувствах и мыслях; и даже на немецком я не осмелился бы заикнуться о «влюбленностях в неподходящих людей». (Разве что сделал бы вид, что это строчка из Гёте или Рильке.)
Я увидел, что Аткинс мучительно пытается что-то сказать – вероятно, спросить про время или выговорить какую-то еще фразу с этим словом. Но я оказался неправ; бедный Том не мог совладать со словом «влюбленности».
Неожиданно он выпалил:
– Углубленности не в тех людей – эта тема и меня интересует!
– Я сказал «влюбленности», Том.
– Я не могу это выговорить, – признался Аткинс. – Но эта тема меня очень интересует. Может, когда ты дочитаешь ту книгу, что подобрала тебе мисс Фрост, то дашь и мне почитать. Знаешь, мне нравятся романы.
– Это роман Джеймса Болдуина, – сказал я Аткинсу.
– Там что, про любовь к негру? – спросил он.
– Нет, с чего ты взял, Том?
– Джеймс Болдуин же черный, Билл, разве нет? Или я его путаю с каким-то другим Болдуином?
Джеймс Болдуин, конечно, был чернокожим, но тогда я этого не знал. Я не читал других его книг; я никогда прежде о нем не слышал. А «Комната Джованни» была библиотечной книгой – и у нее не было суперобложки, на которой я мог бы увидеть фото автора.
– Это роман о мужчине, который влюбляется в другого мужчину, – тихо сказал я Тому.
– Ага, – прошептал Аткинс. – Я так и подумал, когда ты сказал про «неподходящих людей».
– Я дам тебе почитать, когда сам закончу, – сказал я. Конечно, я уже дочитал «Комнату Джованни», но я хотел снова перечитать ее и поговорить о ней с мисс Фрост, прежде чем давать ее Аткинсу, хотя я был уверен, что там нигде не говорится, что рассказчик черный – а бедняга Джованни, как я знал, был итальянцем.
Я даже вспомнил строчку ближе к концу романа, где герой глядит на себя в зеркало и говорит о своем теле: «белое, сухое, жалкое». Но на самом деле я просто хотел сразу же прочитать «Комнату Джованни» еще раз; так сильно она меня впечатлила. Это был первый роман после «Больших надежд», который мне захотелось перечесть.
Сейчас, когда мне уже без малого семьдесят, осталось мало романов, которые я перечитываю и они все еще мне нравятся, – я имею в виду, среди тех романов, которые я впервые прочел и полюбил подростком, – но недавно я снова перечел «Большие надежды» и «Комнату Джованни» и восхитился ими ничуть не меньше, чем в первый раз.
Ну ладно, у Диккенса есть слишком затянутые предложения – ну и что с того? А те трансвеститы в Париже, современники мистера Болдуина, – вряд ли они были особенно убедительными. Автору «Комнаты Джованни» они не нравятся. «У меня никак не укладывалось в голове, что эти мальчики были кому-то нужны: ведь мужчина, который хочет женщину, найдет настоящую женщину, а мужчина, которому нужен мужчина, никогда не согласится иметь дело с ними», – пишет Болдуин.
Конечно, мистер Болдуин никогда не встречал крайне убедительных транссексуалок, которых можно увидеть в наши дни. Он не видел таких, как Донна, транссексуалок с грудью и без следа растительности на лице – таких достоверных женщин. Вы бы поклялись, что в такой трансссексуалке, о которой говорю я, нет ничего от мужчины, за исключением полностью рабочего пенифа у нее между ног!
Я также догадываюсь, что мистер Болдуин никогда не искал любовницу с грудью и членом. Но поверьте, я не виню Джеймса Болдуина в том, что его не привлекали тогдашние трансвеститы, «les folles», как он их называл.
Я всего лишь хочу сказать: давайте оставим les folles в покое; пусть живут как им хочется. Не надо осуждать. Вы ничем их не лучше – так не унижайте их.
Перечитав недавно «Комнату Джованни», я убедился, что роман действительно так великолепен, как мне и запомнилось; кроме того, я обнаружил и нечто, что пропустил или проглотил, не заметив, когда мне было восемнадцать. Я говорю об этом отрывке: «Но, к несчастью, людям не дано выбирать себе эти вериги. Любовников и друзей так же не выбирают, как и родителей».
И это правда. Естественно, в восемнадцать лет я непрерывно пытался выбирать; не только в сексуальном смысле. Я понятия не имел, что мне понадобятся какие-то «вериги» – не говоря уже об их количестве и о том, кто ими станет.
Но бедный Том Аткинс отчаянно нуждался в веригах, которые удержали бы его на месте. Уж это я кое-как сообразил, пока мы с Аткинсом беседовали, или пытались беседовать, на тему влюбленностей (или углубленностей) в неподходящих людей. В какой-то момент мне показалось, что мы никогда не сдвинемся со своих мест на ступеньках лестницы музыкального корпуса, и наша беседа (если можно ее так назвать) затянулась навечно.
– Ну что, Билл, есть какие-нибудь прорывы с твоими речевыми проблемами? – неловко спросил меня Аткинс.
– Пока всего один, – ответил я. – Похоже, я осилил слово «тень».
– Здорово, – искренне сказал Аткинс. – Я со своими пока не разобрался.
– Сочувствую, Том, – сказал я ему. – Наверное, тяжело иметь сложности с такими словами, которые то и дело приходится использовать. Как время, например.
– Ага, с ним сложно, – признал Аткинс. – А у тебя какое самое худшее?
– Ну, это самое, – сказал я ему. – Ну ты понимаешь – член, хрен, конец, елда, болт, прибор.
– Ты не можешь сказать пенис? – прошептал Аткинс.








