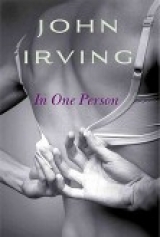
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Элейн редко что-то скрывала от меня, но она знала, как хранить свои немногие секреты; мне же никогда не удавалось сохранить что-либо в тайне, даже если я очень старался.
Я видел, что Элейн понимает, зачем я хочу оставить винтовку. Ларри тоже догадался; он смотрел на меня обиженно, как будто молчаливо упрекал: «Как ты мог замышлять, что не позволишь мне позаботиться о тебе – как ты можешь умереть не у меня на руках, если соберешься умирать? Как ты мог даже подумать о том, чтобы сбежать и застрелиться, если заболеешь?». (Так говорил мне взгляд Ларри.)
Элейн смотрела на меня так же укоризненно, как и Ларри.
– Как скажешь, Билл, – сказал Ричард Эбботт; и он тоже выглядел обиженным – даже миссис Хедли, казалось, была разочарована во мне.
Только Джерри и Хелена перестали обращать на нас внимание; они трогали друг друга под столом. Видимо, обсуждение вагины отвлекло их от завершения нашего праздничного ужина. Корейские девочки снова перешептывались на своем языке; Фуми строчил что-то в блокноте размером не больше ладони. (Вероятно, он записывал слово «Моссберг», чтобы потом блеснуть им в мужском общежитии – к примеру, заметить: «Хотел бы я добраться до ее Моссберга»).
– Не надо, – в свою очередь тихо сказал мне Ларри.
– Билли, надо бы тебе повидать Херма Хойта, пока ты в городе, – сказал дядя Боб – как я вначале подумал, чтобы наконец-то сменить тему. – Я знаю, что тренер хотел бы переговорить с тобой.
– О чем? – спросил я Боба с плохо разыгранным безразличием, но Ракетка был занят; он наливал себе очередное пиво.
Роберту Фримонту, моему дяде Бобу, было шестьдесят восемь лет. В следующем году он должен был уйти на пенсию, но он сказал мне, что собирается продолжать работу в отделе по делам выпускников на добровольной основе, и, среди прочего, будет и дальше писать в журнал для выпускников «Вестник Ривер». Что бы кто ни говорил о «Воплях о помощи из отдела „Куда вы подевались?“», энтузиазм дяди Боба в выслеживании самых неуловимых выпускников академии принес ему популярность среди служащих отдела.
– О чем со мной хочет поговорить тренер Хойт? – предпринял я вторую попытку.
– Наверное, лучше тебе самому его спросить, Билли, – сказал неизменно добродушный Ракетка. – Ты же знаешь Херма, когда дело касается его борцов, он умеет держать рот на замке.
– А-а.
Кажется, это не самая удачная смена темы, подумал я.
В другом месте и в более поздние годы Заведение, предлагавшее «уход и заботу о пожилых», вероятно, носило бы название «Сосны» или (в Вермонте) «Клены». Но не забывайте, что оно было задумано и построено Гарри Маршаллом и Нильсом Боркманом; по иронии судьбы, ни один из них в нем не умер.
Кое-кто, однако, умер в Заведении в тот самый день, когда я пошел навестить Херма Хойта, на выходных после Дня благодарения. На парковке возле здания стояла каталка с завернутым в простыню телом, а рядом несла караул суровая пожилая медсестра.
– Вы не тот человек, которого я жду, – сказала она мне.
– Простите, – ответил я.
– Еще и снег вот-вот пойдет, – сказала пожилая медсестра. – И мне придется закатить его обратно внутрь.
Я попытался перевести тему с покойника к цели моего визита, но – Ферст-Систер был все же маленьким городком – сестра уже знала, к кому я пришел.
– Тренер вас ждет, – сказала она. Объяснив мне, как найти комнату Херма, она прибавила: – Вы не особенно похожи на борца.
Когда я сообщил ей, кто я такой, она сказала:
– О, я знала вашу тетю и мать – и деда, разумеется.
– Разумеется, – сказал я.
– Вы писатель, – добавила она, не сводя взгляда с кончика своей сигареты. Я понял, что она выкатила тело наружу, потому что ей захотелось курить.
В тот год мне исполнилось сорок два; я прикинул, что медсестра по меньшей мере ровесница тети Мюриэл – то есть ей около семидесяти. Я согласился, что я тот самый «писатель», но, прежде чем я вошел внутрь, она спросила:
– Вы учились в Фейворит-Ривер, да?
– Да, я выпустился в шестьдесят первом, – сказал я. Я видел, как она изучает меня; конечно, она слышала обо мне и мисс Фрост – все старожилы Ферст-Систер знали эту историю.
– Тогда его вы, наверное, знаете, – сказала старая медсестра; она провела рукой над телом, привязанным к каталке, но не коснулась его. – Как по мне, он ждет не только здесь! – сказала она, выдыхая здоровенный клуб сигаретного дыма. На ней была лыжная куртка и старая лыжная шапочка, но перчатки она не надела – они помешали бы ей курить. Начинался снегопад – с неба уже сыпались отдельные хлопья, но пока их было слишком мало, чтобы припорошить тело на каталке.
– Он ждет этого придурка из похоронного бюро и одновременно ждет в этом самом! – объявила медсестра.
– Вы имеете в виду чистилище? – спросил я.
– Да – кстати, что это такое? – спросила она меня. – Это ведь вы у нас писатель.
– Но я не верю ни в чистилище, ни во все прочее, – начал я.
– Я вас не прошу в него верить, – сказала она. – Я спрашиваю, что это такое.
– Переходное состояние после смерти, – начал отвечать я, но она прервала меня.
– Вроде как всемогущий Господь решает, послать этого типа в Подземный мир или Туда, Наверх – кажется, что-то в этом духе? – спросила меня медсестра.
– Вроде того, – сказал я. Я с трудом припоминал, для чего предназначалось чистилище – кажется, для какого-то искупительного очищения. Душа в этом вышеупомянутом переходном состоянии после смерти должна искупить что-то, вспомнил я, но вслух этого не сказал.
– Кто это? – спросил я медсестру; повторяя ее жест, я провел рукой над телом на каталке. Она поглядела на меня, прищурившись; быть может, виной тому был дым.
– Доктор Харлоу – помните такого? Вряд ли Всевышнему придется долго раздумывать насчет него! – сказала она.
Я просто улыбнулся в ответ и оставил ее на парковке дожидаться катафалка. Я не верил, что доктору Харлоу удастся искупить все грехи; я считал, что он уже в преисподней, где ему самое место. Я надеялся, что Там, Наверху не найдется места для доктора Харлоу, твердолобого борца с недомоганиями.
Херм Хойт рассказал мне, что после выхода на пенсию доктор Харлоу переехал во Флориду. Но когда он заболел – у него нашли рак простаты, и оказалось, что он, как часто бывает, дал метастазы в кости, – доктор Харлоу попросил перевести его обратно в Ферст-Систер. Он хотел провести свои последние дни в Заведении.
– Не могу понять почему, Билли, – сказал тренер Хойт. – Его тут никто никогда не любил.
(Доктор Харлоу умер в семьдесят девять; я не видел лысого совоеба с тех пор, как ему было пятьдесят с чем-то.)
Но Херм Хойт просил меня прийти не затем, чтобы поведать мне о судьбе доктора Харлоу.
– Я так понимаю, вы получили известие от мисс Фрост, – сказал я старому тренеру. – С ней все хорошо?
– Забавно, то же самое она спрашивала о тебе, – сказал Херм.
– Можете передать ей, что я в полном порядке, – поспешно сказал я.
– Я никогда не просил ее рассказать мне интимные подробности – на самом деле мне вообще не хотелось бы ничего знать об этих делах, Билли, – продолжил тренер. – Но она сказала, что кое-что ты должен знать, чтобы ты не волновался за нее.
– Скажите мисс Фрост, что я актив, – сказал я ему. – И я пользуюсь презервативами с шестьдесят восьмого года. Может быть, она будет поменьше обо мне волноваться, если узнает об этом, – прибавил я.
– Господи, Билли, я слишком стар, хватит с меня подробностей! Просто дай мне договорить, – сказал Херм. Ему был девяносто один год, он был почти ровесником дедушки Гарри, но у Херма была болезнь Паркинсона, и дядя Боб рассказал мне, что у тренера какие-то сложности с одним из лекарств; вроде бы Херм должен был принимать его для сердца, как понял Боб. (Именно из-за Паркинсона тренер Хойт перебрался в Заведение.)
– Билли, я даже не буду делать вид, будто что-то понимаю, но Ал хотел – прости, она хотела, – чтобы ты кое-что знал. Она не занимается настоящим сексом, – сказал Херм Хойт. – Ни с кем, Билли, – она просто в принципе им не занимается. Она пережила кучу неприятностей, чтобы стать женщиной, но она не занимается сексом, ни с мужчинами, ни с женщинами, понимаешь, вообще. Она делает какую-то греческую штуку – она сказала, что ты поймешь.
– Интеркрурально, – сказал я старому тренеру.
– Точно, так она это назвала! – вскричал Херм Хойт. – Это когда ты просто трешься своей штуковиной между бедер другого парня – просто трешься и все, правильно? – спросил меня старый тренер.
– Я уверен, что СПИДом так нельзя заразиться, – сказал я ему.
– Но она всегда так делала, Билли, – она хочет, чтобы ты это знал, – сказал Херм. – Она стала женщиной, но перейти черту она так и не смогла.
– Перейти черту, – повторил я. Двадцать три года я думал, что мисс Фрост защищала меня; ни разу мне не пришло в голову, что по каким-то причинам, может быть, даже бессознательно или против своей воли, она защищала себя.
– Никакого проникновения, только трение, – повторил тренер Хойт. – Ал сказал – извини, Билли, она сказала: «Дальше я зайти не могу, Херм. Это все, что я могу сделать, и все, что я буду делать. Мне просто нравится выглядеть подходяще для роли, но я не могу перейти черту». Она велела мне передать это тебе, Билли.
– Так она в безопасности, – сказал я. – С ней правда все в порядке, и все будет в порядке.
– Ей шестьдесят семь лет, Билли. Что ты хочешь сказать этим «в безопасности», что значит «будет в порядке»? Никто не будет в порядке вечно, Билли! Старение не безопасно! – воскликнул тренер Хойт. – Я просто говорю тебе, что СПИДа у нее нет. Она не хотела, чтобы ты волновался, что она заразится СПИДом, Билли.
– А-а.
– Билли, Ал Фрост – извини, для тебя мисс Фрост – никогда не делала ничего безопасного. Черт подери, – сказал старый тренер. – Может, она и выглядит как женщина – я знаю, что свои приемы она выучила как следует, – но она все еще мыслит как долбаный борец. Небезопасно выглядеть и вести себя как женщина, если все еще веришь, что можешь бороться, Билли, – совсем небезопасно.
Долбаные борцы! – подумал я. Все они такие же, как Херм: стоит тебе подумать, что наконец-то он сменил тему, как он снова возвращается к сраной борьбе: все они такие! Вот уж в этом смысле по Нью-Йоркскому спортивному клубу я не скучал, скажу я вам. Но мисс Фрост была не такой, как другие; она уже переболела борьбой – по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
– Вы что хотите сказать? – спросил я старого тренера. – Что мисс Фрост подцепит какого-нибудь парня и решит с ним побороться? Что она затеет драку?
– Ты не думаешь, что некоторым парням трения может оказаться маловато? – сказал Херм. – Она не затеет драку сама – она вообще не затевает драк, Билли, – но я знаю Ала. Она не станет уклоняться от боя, если какой-нибудь полудурок, которому мало будет одного трения, полезет к ней сам.
Я не хотел об этом думать. Я все еще старался переварить информацию об интеркруральном сексе; я почувствовал облегчение, узнав, что у мисс Фрост нет СПИДа – и она не может им заразиться. На тот момент этого было более чем достаточно, чтобы занять мне голову.
Да, я задумался на мгновение, счастлива ли мисс Фрост. Разочарована ли она в себе из-за того, что не смогла перейти черту? «Мне нравится просто выглядеть подходяще для роли», – сказала мисс Фрост своему старому тренеру. Звучит театрально, не правда ли? (Может, она выразилась так, чтобы Херм немного расслабился.) Разве она не подразумевала, что межбедренный секс ее устраивает? Тут тоже было над чем подумать.
– Как твой нырок, Билли? – спросил тренер Хойт.
– А, ну я его отрабатывал, – сказал я ему. Невинная ложь, согласитесь. Херм Хойт выглядел совсем слабым; он весь дрожал. Может, дело было в Паркинсоне, а может, в одном из лекарств – если дядя Боб не ошибся, в том, что он принимал для сердца.
Мы обнялись на прощание; больше мне не довелось его увидеть. Херм Хойт умер в Заведении от сердечного приступа; об этом мне сообщил дядя Боб. «Тренера больше нет, Билли, – теперь ты со своими нырками сам по себе». (Это случится всего через несколько лет; Херм Хойт умер в девяносто пять, если мне не изменяет память.)
Когда я вышел наружу, пожилая медсестра все так же курила, а завернутое в простыню тело доктора Харлоу все так же лежало на каталке.
– Все еще ждем, – сказала она, увидев меня. Теперь снег уже немного присыпал тело. – Я решила не завозить его обратно, – сообщила мне медсестра. – Он не чувствует, что на него падает снег.
– Вот что я вам скажу, – ответил я медсестре. – Сейчас он точно такой же, каким был всегда, – мертвый как бревно.
Она глубоко затянулась, и клуб дыма поплыл над телом доктора Харлоу.
– Не буду спорить с вами насчет выражений, – сказала она мне. – Вы же у нас писатель.
Снежным декабрьским вечером вскоре после того Дня благодарения я стоял на Седьмой авеню в районе Вест-Виллидж, глядя на север. Я находился возле здания, ставшего конечной станцией для многих, – больницы Святого Винсента – и пытался заставить себя войти внутрь. Там, где Седьмая авеню упиралась в Центральный парк, – прямо на том далеком перекрестке – возвышался бастион мужчин в пиджаках и галстуках, Нью-Йоркский спортивный клуб, но он был слишком далеко к северу от меня, и отсюда его не было видно.
Ноги отказывались мне повиноваться. Я не чувствовал в себе сил доковылять даже до Западной Двенадцатой или Западной Одиннадцатой; если бы на перекрестке Гринвич-авеню и Седьмой авеню вдруг произошла авария, я не смог бы даже отскочить от разлетающихся обломков.
Падающий снег вызвал у меня тоску по Вермонту, но мысль о переезде «домой» вгоняла меня в ступор – а Элейн предложила мне пожить вместе, но не в Нью-Йорке. Еще сильнее меня парализовала мысль о жизни где-либо вместе с Элейн; эта перспектива одновременно привлекала и пугала меня. (К сожалению, я подозревал, что Элейн хочет жить со мной, потому что ошибочно полагает, будто это «спасет» меня от секса с мужчинами, а значит, и от СПИДа, – но я знал, что никто не способен спасти меня от желания заниматься сексом с мужчинами и с женщинами.)
Я стоял как вкопанный на тротуаре Седьмой авеню, потому что вдобавок ко всем этим мыслям испытывал жуткий стыд. Мне снова предстояло пройти по этим скорбным коридорам, но не затем, чтобы утешить умирающего друга или бывшего любовника, а, как ни странно, в поисках Киттреджа.
На носу было Рождество 1984 года, а мы с Элейн все еще обыскивали эту больницу – и всевозможные хосписы – в поисках жестокого мальчишки, изводившего нас в годы юности.
Мы искали Киттреджа уже три года. «Отпустите его, – сказал нам обоим Ларри. – Если вы его найдете, он вас просто разочарует – или снова причинит боль. Вам обоим уже за сорок. Вам не кажется, что вы немного староваты, чтобы призывать демона ваших несчастных подростковых лет?» (Слово подростки в устах Лоуренса Аптона неизменно звучало пренебрежительно.)
Вероятно, это тоже была одна из причин моего оцепенения на Седьмой авеню тем снежным декабрьским вечером, но заплакал я от осознания того, что мы с Элейн до сих пор ведем себя как подростки – в том, что касается Киттреджа. (Подростком я часто плакал.) Я стоял и плакал рядом с больницей Святого Винсента, когда ко мне подошла женщина в дорогой шубе, немолодая, лет шестидесяти, но, несомненно, красивая; может быть, я сразу узнал бы ее, будь она одета в платье без рукавов и соломенную шляпу, которые были на ней в нашу первую встречу, когда она отказалась пожать мне руку. Представляя меня своей матери на нашем выпускном, Делакорт сказал ей: «Это тот парень, который должен был играть шута Лира».
Конечно, Делакорт рассказал матери и о том, что я занимался сексом с транссексуальной библиотекаршей, что и заставило миссис Делакорт произнести – и она повторила свои слова зимним вечером на Седьмой авеню – «Сочувствую вашим бедам».
У меня отнялся язык. Я знал, что мы знакомы, но прошло двадцать три года; я не помнил, откуда знаю ее, когда и как мы познакомились. Но теперь она без колебаний дотронулась до меня; она схватила меня за обе руки и сказала:
– Я знаю, как трудно туда войти, но это так много значит для того, кого вы навещаете. Я пойду с вами, я помогу вам – если вы поможете мне. Знаете, и мне тоже нелегко. Мой сын умирает там, – сказала мне миссис Делакорт. – И хотела бы я поменяться с ним. Лучше бы он остался жить. Я не хочу жить дальше без него! – зарыдала она.
– Миссис Делакорт? – догадался я: что-то в ее искаженном мукой лице напомнило мне медленное умирание Делакорта на борцовском мате.
– Ах, это вы! – воскликнула она. – Вы тот писатель – Карлтон говорил о вас. Вы школьный друг Карлтона. Вы ведь его пришли повидать, да? Ах, он так рад будет вас видеть – вам обязательно нужно зайти!
И меня поволокли к смертному одру Делакорта, в больницу, где множество юных мужчин лежали в своих кроватях, ожидая смерти.
– Карлтон, погляди, кто у нас тут, смотри, кто пришел тебя навестить! – объявила с порога миссис Делакорт, входя в палату, где царила такая же безнадежность, как и во многих других палатах больницы Святого Винсента. Я даже не знал Делакорта по имени; в Фейворит-Ривер никто не называл его Карлтоном. Он был просто Делакортом. (Только Киттредж однажды назвал его «Два стакана», потому что бумажные стаканчики сопутствовали ему повсюду – когда-то Делакорт был известен тем, что непрерывно полоскал и сплевывал, прикладывая невероятные усилия, чтобы удержаться в своей весовой категории.)
Конечно, я видел Делакорта, когда он сушился для соревнований – и выглядел так, словно умирает от голода, – но теперь он умирал от голода на самом деле. (Я уже знал, для чего нужен катетер Хикмана, торчащий из груди Делакорта, больше напоминавшей птичью клетку.) Раньше его держали на аппарате ИВЛ, рассказала мне миссис Делакорт по пути к его палате, но теперь сняли. Врачи пробуют давать ему морфин под язык, вместо раствора, объяснила миссис Делакорт; так или иначе, Делакорт сидел на морфине.
– На этом этапе очень важно использовать отсасыватель слюны – чтобы убрать лишние выделения, – сказала миссис Делакорт.
– Да, на этом этапе, – повторил я как дурак. Я застыл на месте; я чувствовал, что коченею, словно все еще стоял на Седьмой авеню под падающим снегом.
– Этот тот парень, который должен был играть Шута Лира, – с усилием сказал Делакорт своей матери.
– Да-да, милый, я знаю, знаю, – сказала ему маленькая женщина.
– Ты принесла еще стаканчиков? – спросил он ее. Я увидел у него в руках два бумажных стаканчика; как потом сказала мне его мать, стаканчики были пустыми. Она каждый раз приносила новые стаканчики, но полоскать и сплевывать теперь не было нужды; вообще-то, раз Делакорту давали морфин под язык, ему просто нельзя было полоскать или сплевывать – так, по крайней мере, сказала миссис Делакорт. По какой-то дурацкой причине ему просто хочется держать эти стаканчики, сказала она.
Среди прочего Делакорт страдал от криптококкового менингита, и его мозг уже был поражен – по словам матери, его мучили головные боли, и сознание часто мутилось. «Этот парень был Ариэлем в „Буре“, – сказал Делакорт своей матери, когда я впервые вошел к нему в палату – и повторял это при каждом моем посещении. – Он был Себастьяном в „Двенадцатой ночи“, – говорил Делакорт матери. – Но из-за слова „тень“ он не смог сыграть шута Лира, и роль досталась мне», – твердил Делакорт в бреду.
Потом, когда я пришел навестить Делакорта вместе с Элейн, он и ей повторил хронологию моих выступлений. «Он не пришел посмотреть на мою смерть, когда я был шутом Лира, – конечно, я все понимаю, – очень прочувствованно сказал Делакорт Элейн. – Я правда благодарен, что теперь он пришел посмотреть, как я умираю – теперь вы оба пришли, и я вам искренне признателен!» – сказал он нам.
Делакорт ни разу не назвал меня по имени, и я не смог припомнить, звал ли он меня по имени хоть когда-нибудь; не помню, чтобы он хоть раз обратился ко мне «Билл» или «Билли», когда мы учились в школе. Но какая разница? Я-то и вовсе не знал, как его зовут! Поскольку в роли шута я его не видел, в памяти у меня остался образ Делакорта в «Двенадцатой ночи» – он играл сэра Эндрю Эгьючика и заявлял сэру Тоби Белчу (дяде Бобу): «Зря я не занимался своим развитием!».
Делакорт умер после нескольких дней почти полного молчания, сжимая в трясущихся руках два чистых бумажных стаканчика. Элейн в тот день пришла в больницу вместе со мной и миссис Делакорт – и, по совпадению, там же оказался и Ларри. Он заметил нас с Элейн, проходя мимо палаты Делакорта, и сунул голову внутрь.
– Это не тот, кого вы искали, или как? – спросил Ларри.
Мы с Элейн покачали головами. Измученная миссис Делакорт дремала, когда ее сын ушел. Не было смысла представлять Ларри Делакорту; судя по его молчанию, Делакорт был уже где-то далеко или двигался в этом направлении – и мы не стали беспокоить миссис Делакорт, чтобы познакомить ее с Ларри. (Маленькая женщина не смыкала глаз уже бог знает сколько времени.)
Разумеется, в том, что касалось СПИДа, Ларри был главным авторитетом в палате.
– Вашему другу недолго осталось, – прошептал он нам с Элейн; затем он покинул нас. Элейн повела миссис Делакорт в женский туалет: изможденная мать выглядела так, словно может упасть или заблудиться, если не присматривать за ней.
Я на минуту остался вдвоем с Делакортом. Я так привык к его молчанию, что в первую секунду мне показалось, что заговорил кто-то другой.
– Ты его видел? – послышался слабый шепот. – Надо отдать ему должное – ему всегда было мало просто приспособиться! – почти беззвучно воскликнул Делакорт.
– Кого? – прошептал я на ухо умирающему, но я знал, о ком он говорит. О ком еще мог вспомнить Делакорт в помрачении рассудка на пороге смерти или в нескольких шагах от нее? Через несколько минут Делакорт умер, пока миссис Делакорт держала его измученное лицо в своих ладонях. Она попросила нас с Элейн оставить ее на несколько минут наедине с сыном; конечно же, мы подчинились.
Именно Ларри сказал нам потом, что не надо было оставлять миссис Делакорт одну с телом сына.
– Одинокая мать – и единственный ребенок, правильно? – сказал Ларри. – А когда у больного стоит катетер Хикмана, Билл, не следует оставлять любого близкого человека наедине с телом.
– Я не знал, Ларри, я о таком в жизни не слышал! – сказал я ему.
– Конечно, ты о таком не слышал, Билл, – ты же не в теме! Как бы ты мог об этом узнать? И ты точно такая же, как он, Элейн, – сказал ей Ларри. – Вы оба так сторонитесь болезни – вы едва на зрителей тянете!
– Прекрати на нас давить, Ларри, – сказала Элейн.
– Ларри всегда давит авторитетом, так или иначе, – сказал я.
– Знаешь, Билл, ты не просто бисексуал. Ты би-что-угодно! – сообщил мне Ларри.
– И что это значит? – спросил я его.
– Ты пилот-одиночка, разве не так, Билл? – спросил меня Ларри. – Летаешь себе один, без всяких вторых пилотов, никто тебе не указ.
(Я все еще не понимал, о чем он говорит.)
– Хватит давить авторитетом, мистер Флоренс, мать твою, Найтингейл, – сказала ему Элейн.
Мы с Элейн стояли в коридоре возле палаты Делакорта, когда одна из медсестер, проходя мимо, остановилась и спросила:
– А Карлтон?..
– Да, он умер – там с ним его мать, – сказала Элейн.
– О господи, – сказала медсестра, быстро входя в палату, но она опоздала. Миссис Делакорт сделала то, что собиралась, – то, что, вероятно, спланировала, когда поняла, что ее сын умирает. По-видимому, игла и шприц были у нее в сумочке. Она ввела иглу в отверстие катетера и вытянула некоторое количество крови, но первый шприц она опустошила в мусорное ведро. Первый шприц был заполнен в основном гепарином. Миссис Делакорт хорошо подготовилась; она знала, что второй шприц будет почти целиком наполнен кровью Карлтона, кишащей вирусом. Она вколола себе, глубоко в ягодичную мышцу, почти пять миллилитров крови сына. (В 1989 году миссис Делакорт умерла от СПИДа в своей квартире в Нью-Йорке.)
По настоянию Элейн я отвез миссис Делакорт домой на такси – после того, как она ввела себе смертельную дозу крови своего дорогого Карлтона. У нее была квартира на десятом этаже в одном из этих скучных образцовых зданий с навесом и швейцаром, на углу Парк-авеню и Восточной Семидесятой или Восьмидесятой с чем-то улицы.
– Не знаю, как вы, но я собираюсь выпить, – сказала она мне. – Заходите, пожалуйста.
И я вошел.
Сложно было догадаться, почему Делакорт умер в больнице Святого Винсента, хотя миссис Делакорт явно могла обеспечить ему куда лучший уход в собственной квартире на Парк-авеню.
– Карлтон всегда возражал против привилегий, – объяснила миссис Делакорт. – Он хотел умереть «как все» – так он сказал. Он не дал мне устроить его здесь, даже несмотря на то, что больнице пригодилась бы свободная палата – как я ему много раз говорила.
Без сомнения, больнице не помешала бы лишняя палата, если не тогда, то чуть позже. (Некоторые пациенты уже ожидали смерти в коридорах.)
– Хотите посмотреть комнату Карлтона? – спросила меня миссис Делакорт, когда мы оба взяли в руки стаканы; а я не пью ничего, кроме пива. С миссис Делакорт я выпил виски; наверное, это был бурбон. Я готов был выполнить любое желание этой маленькой женщины. Я даже пошел с ней в бывшую комнату Делакорта.
Я очутился в музее того, что было привилегированной жизнью Карлтона Делакорта в Нью-Йорке перед тем, как его «отослали» в академию Фейворит-Ривер; как это нередко бывает, отъезд Делакорта совпал с разводом его родителей, о чем мне чистосердечно рассказала миссис Делакорт.
К моему удивлению, миссис Делакорт не стала скрывать и причин расставания с отцом юного Карлтона: ее муж был ярым гомоненавистником. Он называл Карлтона педиком и маленьким гомиком; он бранил миссис Делакорт за то, что она позволяла женственному мальчику переодеваться в мамину одежду и красить губы ее помадой.
– Конечно, я знала – может, даже задолго до того, как узнал сам Карлтон, – сказала мне миссис Делакорт. Она осторожно ступала на правую ногу; такая глубокая внутримышечная инъекция не могла не быть болезненной.
– Матери знают, – сказала она, бессознательно прихрамывая. – Нельзя заставить ребенка быть кем-то другим. Нельзя просто запретить мальчику играть в куклы.
– Нельзя, – повторил я; я рассматривал все эти фотографии в комнате – фотографии беспечного Делакорта задолго до нашего знакомства. Когда-то он был просто маленьким мальчиком – который больше всего на свете любил переодеваться и краситься, как маленькая девочка.
– Ой, вы только посмотрите, – неожиданно сказала маленькая женщина; кубики льда звякнули в ее почти пустом стакане, когда она потянулась, чтобы снять одну из фотографий с пробковой доски, висевшей на стене комнаты ее покойного сына. – Смотрите, какой он счастливый! – воскликнула миссис Делакорт, подавая мне фото.
На этой фотографии Делакорту было лет одиннадцать-двенадцать; я без труда узнал его проказливую мордочку. Из-за помады его улыбка казалась еще шире. На нем был дурацкий лиловый парик с розовыми локонами; такие дешевые парики продаются в магазинах костюмов для Хеллоуина. Разумеется, платье миссис Делакорт было ему велико, но смотрелось все это умилительно – если только вы не были мистером Делакортом. Рядом с Делакортом стояла девочка постарше на вид и повыше ростом – очень хорошенькая, но с короткой, под мальчика, стрижкой и с поразительно уверенной улыбкой, однако губы у нее были плотно сжаты.
– В тот день все закончилось плохо. Отец Карлтона вернулся домой и пришел в ярость, когда увидел его таким, – говорила миссис Делакорт, а я все внимательнее вглядывался в фотографию. – Мальчики так чудно развлекались, а этот тиран все испортил!
– Мальчики, – повторил я. Хорошенькая девочка на фотографии была Жаком Киттреджем.
– А, да вы его знаете – вы ведь знакомы, я помню! – воскликнула миссис Делакорт, указывая на переодетого Киттреджа. Он накрасил губы куда более умело, чем Делакорт, и одно из красивых, но старомодных платьев миссис Делакорт сидело на нем идеально.
– Это парнишка Киттреджей, – сказала маленькая женщина. – Он тоже ходил в Фейворит-Ривер и тоже был борцом. Карлтон всегда его боготворил, как мне помнится, но это был не мальчик, а какое-то дьявольское отродье. Он умел быть обаятельным, когда нужно, но все-таки он был сущим чертенком.
– Что вы хотите сказать? – спросил я миссис Делакорт.
– Я знаю, что он крал у меня одежду, – сказала она. – Я отдавала ему некоторые старые вещи, которые уже не носила, – он вечно клянчил у меня что-нибудь из одежды! «Ну пожалуйста, миссис Делакорт, – упрашивал он, – мамина одежда огромная, и она не разрешает мне ее примерять, она говорит, что я все мну!» Он все ныл и ныл, пока я не соглашалась. А потом мои вещи начали пропадать – те вещи, которые я сама ни за что бы ему не отдала!
– А-а.
– Не знаю, как вы, – сказала миссис Делакорт, – а я выпью еще стаканчик.
Она ушла налить себе еще виски; я принялся разглядывать остальные фотографии на пробковой доске в детской спальне Делакорта. На трех или четырех снова обнаружился Киттредж – всегда в виде девочки. Когда миссис Делакорт вернулась в комнату своего умершего сына, я все еще держал в руке фотографию, которую она дала мне.
– Возьмите ее себе, прошу вас, – сказала она мне. – Не люблю вспоминать, как закончился тот день.
– Хорошо, – сказал я. Эта фотография все еще у меня, хоть я и не люблю вспоминать тот день, когда умер Карлтон Делакорт.
Рассказал ли я Элейн о Киттредже и платьях миссис Делакорт? Показал ли я Элейн то фото, на котором Киттредж переодет в девочку? Конечно же, нет – Элейн ведь тоже кое-что от меня скрывала, разве не так?
Какой-то знакомый Элейн получил стипендию Гуггенхайма; он тоже был писателем и сообщил Элейн, что его потрепанная квартирка на восьмом этаже дома на Пост-стрит – просто идеальное жилище для двух писателей.
– Где эта Пост-стрит? – спросил я Элейн.
– Возле Юнион-сквер, как он сказал, – это в Сан-Франциско, Билли, – ответила Элейн.
Я не знал ровным счетом ничего о Сан-Франциско; разве только о том, что там полно геев. Конечно, я знал, что и в Сан-Франциско геи массово умирают, но у меня не было там близких друзей или бывших любовников, и там не будет Ларри, чтобы упрекать меня за то, что я не в теме. Был и еще один аргумент: мы с Элейн больше не сможем (и не будем) искать Киттреджа в Сан-Франциско – так мы думали.
– И куда едет твой приятель на своего Гуггенхайма? – спросил я Элейн.
– Куда-то в Европу, – сказала она.
– Может, стоило бы попробовать пожить вместе в Европе, – предложил я.
– Квартира в Сан-Франциско уже свободна, Билли, – сказала мне Элейн. – И для места, подходящего для двоих писателей, она сдается очень дешево.








