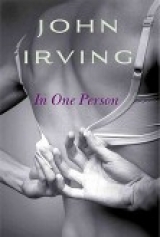
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Мужчина, которого напомнил мне Чарльз, был татуированным качком с белой, как слоновая кость, кожей; у него был бритый череп, черный пучок волос на подбородке и две бриллиантовые серьги в ухе. Он носил черный кожаный жилет и трусы-бандаж, а также пару начищенных мотоциклетных ботинок, и его работа в «Майншафт» заключалась в том, чтобы сопровождать к выходу тех, кто в этом нуждался. Прозвище у него было Мефистофель; свои «выходные» вечера он проводил в гей-баре для черных «У Келлера». Кажется, этот бар находился на Вест-стрит, на углу с Барроу, возле пирса Кристофер-стрит, но я туда никогда не ходил – никто из моих знакомых белых не заходил туда. (В «Майншафт» говорили, что Мефистофель ходит к «Келлеру», чтобы трахать черных парней или нарываться на драки, и что ему все равно, что его ждет сегодня: секс и драка были для него равнозначны, так что «Майншафт», без сомнения, был подходящим для него местом.)
Однако медбрат, так заботливо склонившийся над моим умершим другом, не был Мефистофелем – и в том, как он хлопотал над останками бедного Тома, не было ничего сексуального. Чарльз возился с катетером Хикмана, свисающим с неподвижной груди Аткинса.
– Бедный Томми – вообще-то удалять катетер не моя обязанность, – объяснил медбрат нам с Элейн. – В похоронном бюро его вытащат. Видите, тут есть манжета – вроде липучки – вокруг трубки, прямо там, где она входит под кожу. Клетки Томми, клетки его кожи и тела, вросли в липучку. Поэтому катетер держится на месте, не выпадает и не расшатывается. Нужно будет просто резко дернуть, чтобы освободить его, – сказал нам Чарльз; Элейн отвернулась.
– Наверное, не надо было оставлять Тома одного, – сказал я ему.
– Многие хотят умереть в одиночестве, – сказал он. – Я знаю, что Томми хотел вас видеть, он собирался вам что-то сказать. И, видимо, он все сказал, так? – спросил меня Чарльз. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Это был сильный, красивый мужчина со стрижкой ежиком и серебряным колечком в верхнем хрящике левого уха. Чарльз был чисто выбрит, и когда он улыбался, то вовсе не походил на вышибалу из «Майншафт», которого я знал под кличкой «Мефистофель».
– Да, мне кажется, Том сказал все, что хотел, – ответил я Чарльзу. – Он просил меня присмотреть за Питером.
– Ну что ж, желаю удачи. Полагаю, это будет решать сам Питер, – сказал Чарльз. (Я не так уж ошибся, приняв его за вышибалу из «Майншафт»; определенная бесцеремонность в Чарльзе действительно была.)
– Нет, нет, нет! – услышали мы рыдания Питера из кухни. Девочка, Эмили, перестала кричать; ее мама тоже.
Чарльз был одет не по погоде для декабря в Нью-Джерси, он был в обтягивающей черной футболке, не скрывающей его мускулы и татуировки.
– Похоже, кислород уже не помогал, – сказал я Чарльзу.
– Разве что совсем немного. Проблема с ПЦП в том, что она распространяется и захватывает оба легких, и кислороду становится труднее проникать в кровеносные сосуды – то есть в тело, – объяснил медбрат.
– У Тома были такие холодные руки, – сказала Элейн.
– Томми не хотел переходить на искусственную вентиляцию, – продолжил Чарльз; похоже, он закончил с катетером. Теперь он смывал корочку Candida с губ Аткинса. – Хочу привести его в порядок, прежде чем Сью и дети его увидят, – сказал Чарльз.
– А как насчет кашля миссис Аткинс? – спросил я. – Он будет становиться все сильнее, да?
– У нее сухой кашель – а у некоторых вообще не бывает кашля. Ему придают слишком большое значение. А вот одышка становится сильнее, – сказал он мне. – Томми просто не хватило воздуха.
– Чарльз, мы хотим его видеть! – позвала миссис Аткинс.
– Нет, нет, нет! – продолжал рыдать Питер.
– Я тебя ненавижу, Чарльз! – прокричала с кухни Эмили.
– Я знаю, милая! – крикнул в ответ Чарльз. – Дайте мне еще минутку!
Я склонился над Аткинсом и поцеловал его в холодный влажный лоб.
– Я его недооценивал, – сказал я Элейн.
– Только не плачь сейчас, Билли, – сказала мне Элейн.
Неожиданно я напрягся: мне показалось, что Чарльз сейчас меня обнимет или поцелует – или просто столкнет с кровати, – но он всего лишь протянул мне свою визитку.
– Позвоните мне, Уильям Эбботт, – дайте знать, как Питеру связаться с вами, если он этого захочет.
– Если он этого захочет, – повторил я, взяв у него карточку.
Обычно, когда меня называли «Уильям Эбботт», я понимал, что имею дело с читателем и что он (или она) по крайней мере знает, что я «тот самый писатель». Но я мог с уверенностью сказать только то, что Чарльз гей, насчет читателя я не был столь уверен.
– Чарльз! – задыхаясь, крикнула Сью Аткинс.
Все мы – я, Элейн и Чарльз – смотрели на бедного Тома. Не могу сказать, что Том Аткинс выглядел «умиротворенным», но теперь он мог хотя бы отдохнуть от своих мучительных стараний дышать.
– Нет, нет, нет, – рыдал его любимый сын, теперь уже не так громко, как раньше.
Мы с Элейн заметили, как Чарльз неожиданно бросил взгляд на дверь.
– А, это ты, Жак, – сказал он. – Все в порядке, тебе можно войти. Заходи.
Мы с Элейн одновременно дернулись, и оба заметили это. Невозможно было скрыть, о каком Жаке мы оба подумали. Но в дверях стоял не тот Жак, которого мы ждали. Возможно ли, чтобы и спустя двадцать лет мы все еще мечтали увидеть Киттреджа?
В дверном проеме стоял старый пес, сомневаясь, стоит ли сделать очередной артритический шаг.
– Заходи, приятель, – сказал Чарльз, и Жак прохромал в бывший кабинет своего бывшего хозяина. Чарльз опустил холодную руку Тома с кровати, и старый лабрадор прижался к ней холодным носом.
Теперь в проеме появились и остальные, стремясь втиснуться вместе с нами с маленькую комнатку, и мы с Элейн отступили от постели бедного Тома. Сью Аткинс бледно улыбнулась мне.
– Приятно было наконец с вами познакомиться, – сказала мне умирающая женщина. – Пожалуйста, будьте на связи.
Как и отец Тома двадцать лет назад, она не пожала мне руку.
Мальчик, Питер, даже не взглянул на меня; он ринулся к отцу и обнял съежившееся тело. Девочка, Эмили бросила (хоть и мимолетный) взгляд на Элейн; затем она посмотрела на Чарльза и снова начала кричать. Старый пес просто продолжал сидеть, как перед этим сидел – уже ничего не ожидая – на кухне.
На протяжении нашего долгого пути по коридору, через прихожую (где я только сейчас заметил ненаряженную рождественскую елку) и вон из этого пораженного болезнью дома Элейн что-то бормотала, но я не мог ее расслышать. На подъездной дорожке стояло такси со станции – мы попросили водителя дождаться нас. (К моему изумлению, мы пробыли в доме Аткинсов не больше часа; нам с Элейн показалось, что мы провели там полжизни.)
– Я тебя не расслышал, – сказал я Элейн, когда мы сели в такси.
– Что будет с уткой, Билли? – повторила Элейн, на сей раз достаточно громко, чтобы я услышал.
Ну вот и еще один эпилог, подумал я.
«Мы сами созданы из сновидений, / И эту нашу маленькую жизнь / Сон окружает», – произносит Просперо в первой сцене четвертого акта. Когда-то я и правда считал, что «Буря» могла и должна была закончиться этими словами.
Как там начинается эпилог Просперо? Я попытался вспомнить. Конечно, Ричард Эбботт мог бы мне сказать, но даже когда мы с Элейн вернулись в Нью-Йорк, я знал, что не хочу звонить Ричарду. (Я не был готов рассказать миссис Хедли об Аткинсе.)
– Первая строчка эпилога «Бури», – сказал я Элейн в том похоронном такси, изо всех сил стараясь звучать безразлично. – Ну помнишь, в конце, последняя реплика Просперо – как она начинается?
– «Теперь власть чар моих пропала», – процитировала Элейн. – Ты про эту строчку, Билли?
– Точно, – сказал я своей дорогой подруге. Именно так я себя и чувствовал.
– Ну, ну, – сказала Элейн, обнимая меня. – Теперь можешь плакать, Билли, теперь нам обоим можно плакать. Ну, ну.
Я старался не думать о той строчке из «Госпожи Бовари», которую так ненавидел Аткинс. Помните, после того, как Эмма отдалась недостойному Родольфу, она почувствовала, как сердце ее бьется, и «теплая волна крови прошла по ее телу». Какое отвращение вызывал этот образ у Тома Аткинса!
Да, как бы мне ни было трудно это вообразить – после того, как я увидел девяносто с небольшим фунтов Аткинса на смертном одре и его обреченную жену, чья кровь уже не разливалась «теплой волной» в ее зараженном теле, – наверное, Том и Сью Аткинс тоже, хоть раз или два в жизни, испытали подобные ощущения.
– Ты же не хочешь сказать, будто Том Аткинс сообщил тебе, что Киттредж гей — ты ведь не это мне пытаешься сказать? – спросила меня Элейн в поезде, как я и предвидел.
– Нет, этого я не говорил – вообще-то Том и кивнул, и помотал головой при слове «гей». Аткинс выразился как-то неясно. Он не сказал точно, кто сейчас Киттредж или кем он был, просто сообщил, что он его «видел» и что Киттредж «прекрасен». И вот еще что: Том сказал, что Киттредж вовсе не тот, кем мы его себе представляли, Элейн, – и больше я ничего не знаю, – сказал я ей.
– Ладно. Спроси Ларри, не слышал ли он чего-нибудь о Киттредже. А я проверю кое-какие хосписы, если ты возьмешь на себя Святого Винсента, Билли, – сказала Элейн.
– Том не говорил, что Киттредж болен, Элейн.
– Если Том видел его, то вполне вероятно, что Киттредж болен, Билли. Кто знает, где бывал Том? Очевидно, что и Киттредж бывал там же.
– Ладно, ладно – я спрошу Ларри и поищу в Святом Винсенте, – сказал я. Я немного помолчал, глядя на Нью-Джерси, проплывающий за окном. – Ты от меня что-то скрываешь, Элейн, – снова заговорил я. – Почему ты думаешь, что Киттредж мог заболеть? Чего я не знаю о миссис Киттредж?
– Киттредж любил экспериментировать, разве не так, Билли? – спросила меня Элейн. – Вот и все, к чему я веду. Он трахнул бы кого угодно, просто чтобы попробовать, каково это.
Но я прекрасно знал Элейн; я чувствовал, когда она лжет – или просто о чем-то умалчивает, – и понимал, что должен проявить к ней такое же терпение, какое она когда-то (многие годы) проявляла ко мне. Элейн была такой выдумщицей.
– Я не знаю, что такое или кто такой Киттредж, Билли, – сказала мне Элейн. (И это было похоже на правду.)
– Я тоже не знаю, – сказал я.
Такие дела: Том Аткинс умер, но даже тогда мы с Элейн продолжали думать о Киттредже.
Глава 13. Не по естественным причинам
И по сей день я поражаюсь, вспоминая, какие невероятные надежды возлагал Том Аткинс на нашу юношескую романтическую связь много лет назад. И в отчаянии своих предсмертных дней бедный Том снова принял желаемое за действительное. Том надеялся, что из меня выйдет подходящий приемный отец для Питера – но даже сам пятнадцатилетний мальчик понимал, что этому не бывать.
Я поддерживал связь с Чарльзом, семейным медбратом Аткинсов, еще лет пять или шесть, не больше. Именно Чарльз сообщил мне, что Питера зачислили в Лоуренсвилль, куда до 1987 года – а Питер закончил его в восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом – принимали только мальчиков. По сравнению со многими средними школами Новой Англии – включая академию Фейворит-Ривер – Лоуренсвилль сильно запоздал со введением совместного обучения.
Господи, как я надеялся, что Питер Аткинс не окажется — говоря словами бедного Тома – «таким, как мы».
Питер поступил в Принстонский университет, находящийся примерно в пяти милях к северо-востоку от Лоуренсвилля. Когда наша с Элейн попытка совместной жизни потерпела крах, мы оба вернулись из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Элейн преподавала в Принстоне в 1987–1988 годах, как раз когда там учился Питер Аткинс. Он объявился на ее курсе писательского мастерства весной восемьдесят восьмого, когда ему было уже двадцать с небольшим. Как припоминала Элейн, Питер вроде бы изучал экономику, но Элейн никогда не интересовала основная специальность слушателей ее курса.
– Писатель из него был так себе, – сказала она мне. – Но и иллюзий на этот счет он не строил.
Все сюжеты Питера строились вокруг самоубийства его младшей сестры Эмили – она покончила с собой, когда ей было семнадцать или восемнадцать.
Я узнал о самоубийстве от Чарльза, сразу после того, как это произошло; девочка всегда была «очень тревожной», писал мне Чарльз. Что касается жены Тома, Сью, она умерла спустя долгих восемнадцать месяцев после кончины Аткинса; сразу после смерти Тома она нашла Чарльзу замену.
– Можно понять, почему Сью не захотела, чтобы за ней ухаживал гей, – только и сказал по этому поводу Чарльз.
Я спросил Элейн, гомосексуал ли Питер Аткинс, по ее мнению. «Нет, – сказала она. – Определенно нет». И действительно, в конце девяностых, в Нью-Йорке, – через пару лет после пика эпидемии СПИДа – когда я подписывал книги после чтений, ко мне подошел румяный рыжеволосый молодой мужчина (в компании симпатичной девушки). Питеру Аткинсу тогда должно было быть немного за тридцать, но я сразу узнал его. Он все еще был очень похож на Тома.
– Ради такого случая мы пригласили няню – а мы это делаем нечасто, – сказала его жена, улыбаясь мне.
– Как поживаешь, Питер? – спросил я.
– Я прочел все ваши книги, – серьезно сказал мне молодой человек. – Ваши романы были для меня in loco parentis, – он медленно выговорил латинские слова. – Ну то есть «вместо родителя», что-то вроде того, – сказал юный Аткинс.
Мы оба просто улыбнулись; больше нам нечего было сказать друг другу. Это он удачно выразился, подумал я. Его отец был бы счастлив, если бы видел, каким вырос его сын – в той мере, в какой бедный Том вообще умел быть счастливым. Мы с Томом Аткинсом выросли в другое время и ненавидели себя за то, что отличаемся от остальных, потому что нам в головы втемяшили, что с нами что-то не так. Теперь, оглядываясь назад, я стыжусь, что пожелал Питеру Аткинсу не стать таким, как Том – и как я. Может быть, в случае с поколением Питера мне как раз следовало бы надеяться, что он станет «таким, как мы», – но только будет гордиться этим. Однако если вспомнить, что произошло с его отцом и матерью, – в общем, довольно будет сказать, что Питер Аткинс, по-моему, и так нес достаточное бремя.
Следует почтить память «Актеров Ферст-Систер», неизменно любительского театра моего родного городка. После того, как умер Нильс – а также погибла суфлер нашего маленького театра (моя мать, Мэри Маршалл Эбботт), не говоря уже о Мюриэл Маршалл Фримонт, снискавшей большой успех в ролях крикливых и большегрудых дам, – «Актеры Ферст-Систер» просто угасли. К началу восьмидесятых даже в маленьких городках старые театры стали переделывать в кинотеатры; теперь люди хотели смотреть кино.
– Все больше народу сидит по домам и смотрит телевизор, – прокомментировал дедушка Гарри. Гарри и сам сидел дома; дни его на сцене в женских ролях давно прошли.
Ричард позвонил мне, когда Эльмира обнаружила тело дедушки Гарри.
«Довольно химчистки, Эльмира», – сказал Гарри незадолго до смерти, увидев, как сиделка развешивает чистые вещи бабушки Виктории у него в шкафу.
– Наверное, я недослышала, – объясняла потом Ричарду Эльмира. – Мне показалось, что он спросил «Довольна химчисткой?», как будто поддразнивал меня, понимаете? Но теперь я уверена, что он сказал «довольно химчистки», как будто уже тогда знал, что собирается сделать.
Ради своей сиделки дедушка Гарри оделся, как и положено старому дровосеку, в джинсы и фланелевую рубашку, «без причуд», как сказала Эльмира, – и, свернувшись калачиком в ванной, как засыпающий ребенок, Гарри ухитрился каким-то образом выстрелить себе в висок из винтовки Моссберга калибра .30-30 так, что большая часть крови попала в ванну, а немногие брызги оказались на кафеле в тех местах, где оттереть их Эльмире не составило большого труда.
Сообщение от дедушки Гарри на моем автоответчике предыдущим вечером было, как всегда, коротким и деловым. «Не надо перезванивать, Билл – я отвалюсь пораньше. Просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке».
Тем же вечером – в ноябре 1984-го, незадолго до Дня благодарения – Ричард получил похожее сообщение на свой автоответчик; по крайней мере, там тоже была фраза «отвалюсь пораньше». В тот вечер Ричард повел Марту Хедли в кинотеатр, открывшийся в бывшем здании «Актеров Ферст-Систер». Но конец сообщения на автоответчике Ричарда был немного другим. «Я скучаю по моим девочкам, Ричард», – сказал дедушка Гарри. (После чего забрался в ванну и спустил курок.) Гарольду Маршаллу был почти девяносто один год – он отвалился самую малость пораньше.
Ричард Эбботт и дядя Боб решили устроить на День благодарения что-то вроде поминок по дедушке Гарри, но все ровесники Гарри – те, что еще были живы, – обитали в Заведении. (Они не присоединились к нам за ужином в доме дедушки Гарри на Ривер-стрит.)
Мы с Элейн вместе приехали из Нью-Йорка; Ларри мы тоже пригласили поехать с нами. Ларри было шестьдесят шесть лет; на тот момент у него не было постоянного любовника, и мы с Элейн беспокоились за него. Ларри не был болен. Он не подхватил вирус, но совершенно вымотался; мы с Элейн уже говорили об этом между собой. Элейн даже сказала, что вирус СПИДа убивает и Ларри – просто «иным образом».
Я был рад, что Ларри поехал с нами. Его присутствие мешало Элейн сочинять истории о моих текущих пассиях обоего пола. Так что в этот раз никто не был обвинен в том, что якобы насрал в постель.
Ричард пригласил на праздничный ужин нескольких иностранных студентов из академии Фейворит-Ривер; им было слишком далеко ехать домой на такие короткие каникулы – и в результате к нам присоединились две корейские девочки и неприкаянного вида мальчик из Японии. Все остальные были знакомы друг с другом – не считая Ларри, который никогда прежде не бывал в Вермонте.
Хотя дом дедушки Гарри стоял практически в центре города – и в двух шагах от кампуса академии, – Ларри все равно охарактеризовал Ферст-Систер как «глухомань». Бог знает, что подумал Ларри об окружающих город лесах и полях; начался сезон охоты на оленей с огнестрельным оружием, и повсюду слышались выстрелы. («Варварская глухомань» – так окрестил Ларри весь штат Вермонт в целом.)
Миссис Хедли и Ричард с помощью Джерри и Хелены взяли на себя готовку; Хелена, новая подружка Джерри, была жизнерадостной болтушкой; совсем недавно она бросила мужа и объявила, что ей нравятся женщины, при том что она была ровесницей Джерри (то есть ей было сорок пять) и матерью двоих взрослых детей. «Малышам» Хелены было уже по двадцать с лишним лет; они проводили праздники с ее бывшим мужем.
Загадочным образом Ларри и дядя Боб сразу нашли общий язык – может, потому, что Ларри было столько же, сколько было бы тете Мюриэл, если бы она не попала в ту автокатастрофу, в которой погибла и моя мама. Вдобавок Ларри страшно понравилось беседовать с Ричардом о Шекспире. А я с удовольствием слушал их разговор; таким образом я как будто подслушивал свою юность в Клубе драмы и наблюдал за тем, как проходит мимо часть моего детства.
Поскольку теперь в Фейворит-Ривер принимают и девочек, объяснял Ричард Эбботт, подбор ролей в Клубе драмы существенно отличается от тех времен, когда академия была мужским интернатом. Ричард рассказал, что раньше ему страшно не нравилось брать мальчиков на женские роли, за исключением дедушки Гарри, давно уже не мальчика и восхитительного в виде женщины (а вдобавок у него была Элейн и еще горстка преподавательских дочек). Но теперь, когда в распоряжении Ричарда оказались мальчики и девочки, его беспокоило то же, что и многих других режиссеров школьных театров, с которыми мне впоследствии предстояло познакомиться. Девочкам чаще нравится театр, и девочек всегда больше. На все мужские роли вечно не хватает мальчиков; приходится подбирать пьесы с большим количеством женских ролей, поскольку девочек почти всегда набирается больше, чем ролей для них.
– Шекспир никогда не возражал против перестановки полов, Ричард, – намекнул Ларри. – Почему бы тебе не сказать своим актерам, что в тех пьесах, где преобладают мужские роли, ты будешь брать на мужские роли девочек, а на женские мальчиков? По-моему, Шекспир был бы в восторге!
(Несомненно, сам Ларри точно был бы в восторге. Он смотрел на мир, включая и Шекспира, через призму пола.)
– Очень интересная мысль, Ларри, – сказал Ричард Эбботт. – Но речь идет о «Ромео и Джульетте». – (Видимо, это будет следующая пьеса Ричарда, подумал я; я не очень-то внимательно слушал ту часть беседы, где речь шла о расписании постановок.) – В этой пьесе всего четыре женские роли, и только две из них имеют значение.
– Да, да, понимаю, – сказал Ларри; он явно выпендривался. – Ты прав, леди Монтекки и леди Капулетти не имеют значения. По сути, остаются только Джульетта и Кормилица, а мужчин там больше двадцати!
– Вообще идея взять мальчиков на женские роли и наоборот звучит соблазнительно, – признал Ричард. – Но они всего лишь подростки, Ларри. Где я возьму парня, у которого достанет мужества сыграть Джульетту?
– Э-э… – начал Ларри и замолчал. (Даже он не нашелся с ответом.) Помню, как я подумал, что это не моя проблема и мне никогда не придется иметь с ней дела. Пусть Ричард сам с этим разбирается, подумал я; у меня были другие заботы.
Дедушка Гарри завещал мне дом на Ривер-стрит. На что мне сдался дом с пятью спальнями и шестью ванными, в Вермонте?
Ричард велел мне придержать его. «Получишь за него больше, если продашь его потом, Билл», – сказал он мне. (Дедушка Гарри оставил мне и немного денег тоже; я не нуждался в дополнительных деньгах, которые мог бы выручить, продав дом на Ривер-стрит, – по крайней мере, пока что не нуждался.)
Марта Хедли вызвалась организовать аукцион, чтобы избавиться от ненужной мебели. Гарри оставил немного денег дяде Бобу и Ричарду Эбботту; самую большую сумму он завещал Джерри – взамен ее доли в доме.
В этом доме я родился – здесь я рос, пока мама не вышла за Ричарда Эбботта. Дедушка Гарри сказал Ричарду: «Этот дом должен принадлежать Биллу. Мне кажется, писатель не будет возражать против соседства призраков – Билл ведь сможет их использовать, да?».
Я ничего не знал о призраках и о том, смогу ли найти им применение. В тот День благодарения я не мог и представить, при каких обстоятельствах мне когда-либо захочется жить в Ферст-Систер, штат Вермонт. Но я решил не спешить с окончательным решением; я подожду продавать дом.
Призраки вытурили Элейн из ее спальни – в первую же ночь, которую мы провели в доме на Ривер-стрит. Я лежал в своей старой спальне, когда Элейн влетела в дверь и забралась ко мне в кровать.
– Не знаю, что о себе воображают эти женщины, – сказала Элейн. – Но знаю, что они мертвы, и их это жутко бесит.
– Ладно, – сказал я. Мне нравилось спать вместе с Элейн, но на следующую ночь мы переместились в одну из спален, где кровать была побольше. Я не увидел призраков в тот День благодарения – да и вообще никогда не видел призраков в этом доме.
Я выделил Ларри самую большую спальню; раньше она принадлежала деду – шкаф до сих пор был набит одеждой бабушки Виктории. (Миссис Хедли пообещала мне избавиться от нее, когда будет продавать на аукционе ненужную мебель.) Но и Ларри не увидел призраков; его беспокоила только ванна.
– Эм, Билл… Это та самая ванна, где твой дедушка…
– Да, – поспешно ответил я. – А что?
Ларри осмотрел уборную на предмет кровавых пятен, но стены и сама ванна были безупречно чисты. (Наверное, Эльмира драила тут все до посинения!) Однако кое-что Ларри все же обнаружил и показал мне. Эмаль на дне ванны в одном месте была сколота.
– Так всегда было? – спросил меня Ларри.
– Да, так было, когда я был еще маленьким, – соврал я.
– Как скажешь, Билл, как скажешь, – с подозрением сказал Ларри.
Мы оба знали, откуда взялась эта отметина. Пуля из винтовки калибра .30-30, по-видимому, прошила голову дедушки Гарри насквозь, когда он лежал в ванне, свернувшись калачиком. Это пуля сколола эмаль на дне ванны.
– Когда будете продавать мебель, – сказал я Ричарду и Марте с глазу на глаз, – избавьтесь, пожалуйста, от этой ванны.
Мне не пришлось уточнять, от какой именно.
– Билли, ты никогда не будешь жить в этом жутком городке. Если ты хотя бы теоретически представляешь такую возможность, у тебя не все в порядке с головой, – сказала Элейн. Ночью после праздничного ужина мы лежали в постели и не могли заснуть, вероятно, потому что объелись; а может, мы пытались услышать голоса призраков.
– Как думаешь, когда мы жили тут, в этом жутком городке – когда мы ставили Шекспира, – нашелся бы в Фейворит-Ривер мальчик, которому хватило бы мужества сыграть Джульетту? – спросил я Элейн. Я почувствовал, как и она, следом за мной, представляет его в темноте – вот вам и призраки!
– Был только один мальчик, способный на такое, – ответила мне Элейн. – Но он не подошел бы на эту роль.
– Почему нет? – спросил я. Я знал, что она говорит о Киттредже; он был достаточно красивым для роли Джульетты, и мужества у него хватало с избытком.
– Джульетта ничего не стоит, если она не искренна, – сказала Элейн. – Киттредж подошел бы на роль внешне, но в итоге запорол бы ее: искренность — это не про Киттреджа, Билли, – сказала Элейн.
Да, все верно, подумал я. Киттредж мог бы сыграть кого угодно – он подходил для любой роли. Но Киттредж не был искренним; он никогда не снимал маску – он всегда только играл роль.
На праздничном ужине в честь Дня благодарения нашлось место и неловкости, и веселью. Начну с последнего: кореянкам каким-то образом удалось убедить японского мальчика, что мы едим павлина. (Я не знаю, как у них получилось заронить ему в голову эту идею и почему Фуми – так звали мальчика – был так поражен этим открытием.)
– Нет-нет, это индейка, – сказала ему миссис Хедли так, как будто у него были трудности с произношением этого слова.
Поскольку я вырос в доме на Ривер-стрит, я отыскал энциклопедию и показал Фуми, как выглядит индейка. «Не павлин», – сказал я. Девочки, Су Мин и Дон Хи, перешептывались на корейском и хихикали.
Потом, много бокалов вина спустя, жизнерадостная и болтливая мать двоих детей – а теперь подружка Джерри – подняла тост в честь нашего расширенного семейного состава в благодарность за то, что мы пригласили ее на такое «интимное» семейное сборище. По-видимому, именно сочетание выпитого вина со словом «интимный» навело Хелену на мысль произнести краткий экспромт на тему ее вагины; или, может быть, это был панегирик вообще всем вагинам.
– Я хотела бы поблагодарить вас за приглашение, – начала Хелена. А потом ее немного занесло. – Когда-то я ненавидела свою вагину, но теперь я ее обожаю, – сказала она. Похоже, она сразу почувствовала, что выразилась не совсем удачно, поскольку быстро поправилась: – Конечно, и вагину Джерри я обожаю – думаю, это понятно и так! – но именно благодаря Джерри я полюбила свою вагину, а раньше я ее просто ненавидела! – она стояла, чуть покачиваясь, с бокалом в поднятой руке. – Спасибо вам за приглашение, – повторила она, садясь.
Полагаю, дядя Боб слышал больше тостов, чем любой из присутствовавших за столом – с учетом всех застолий, входивших в его служебные обязанности, всех этих дружеских ужинов с подвыпившими выпускниками, – но даже дядя Боб онемел после тоста Хелены в честь по меньшей мере двух вагин.
Я посмотрел на Ларри, зная, что он уже разрывается от желания высказаться; он реагировал совсем не так, как Том Аткинс, у которого слова «вагина» или хотя бы мимолетная мысль о ней вызывала бурный отклик, но, так или иначе, на слово «вагина» Ларри отзывался всегда.
– Не надо, – тихо сказал я ему через стол. Я всегда видел, когда Ларри старался перебороть себя: он начинал пучить глаза и раздувать ноздри.
Но теперь непонимание настигло корейских девочек.
– Что? – спросила Дон Хи.
– Она ненавидит, потом любит свое что? – спросила Су Мин.
Настала очередь Фуми хихикать; недоразумение с павлином осталось позади – японский парнишка явно знал, что такое вагина.
– Ну, понимаете, вагину, – тихо сказала Элейн корейским девочкам, но Су Мин и Дон Хи явно никогда не слышали этого слова, и никто за столом не знал, как оно звучит на корейском.
– Боже – ну откуда появляются дети, – попыталась объяснить миссис Хедли, но неожиданно замолчала (вероятно, вспомнив аборты Элейн).
– Это где все происходит, ну понимаете, внизу, – сказала девочкам Элейн, но ничего не сделала при слове «внизу», не указала рукой на конкретное место.
– Ну уж прошу покорно – не все происходит там, – с улыбкой сказал Ларри; я видел, что он только начинает раскочегариваться.
– Ох, простите, я слишком много выпила и забыла, что тут молодые люди! – выпалила Хелена.
– Не волнуйся, милая, – сказал новой девушке Джерри дядя Боб; я видел, что Бобу нравится Хелена, совсем не похожая ни на кого из длинного списка предыдущих подружек Джерри. – Эти дети из другой страны, другой культуры; те вещи, о которых мы говорим здесь, совсем не обязательно служат темами для обсуждения в Корее, – запинаясь, объяснил Ракетка.
– Да едрить! – взорвалась Джерри, – Попробуйте уже другое долбаное слово!
Она повернулась к Су Мин и Дон Хи, все еще пребывавшим в неведении относительно значения таинственного слова.
– Киска, дырка, скважина, гильза, щель – пизда, господи ты боже мой! – крикнула Джерри; от последнего слова Элейн и даже Ларри поморщились.
– Джерри, прошу тебя – они уже поняли, – сказал дядя Боб.
И правда, лица обеих корейских девочек приобрели цвет чистой простыни или нелинованной бумаги; японский мальчик в целом держался, хотя «скважина» и «гильза» стали сюрпризом и для него.
– Есть где-нибудь в доме фотография – если уж не в энциклопедии? – язвительно спросил Ларри.
– А, Билл, чтоб не забыть, – вмешался Ричард Эбботт (я видел, что он пытается тактично перевести разговор с темы влагалищ). – Что насчет Моссберга?
– Чего? – переспросил Фуми испуганно; если уж «скважина» и «гильза» в качестве обозначений вагины привели его в замешательство, то слова «Моссберг» японец и вовсе никогда не слышал.
– А что насчет нее?
– Продать ее вместе с мебелью, Билл? Тебе же не нужна эта старая винтовка, да?
– Я придержу винтовку, Ричард, – сказал я ему. – И патроны тоже – если я когда-нибудь соберусь здесь жить, ружье на вредителей может пригодиться.
– Ты же в городе, Билли, – заметил дядя Боб. – В городе стрелять не полагается, даже по вредителям.
– Дедушка Гарри любил это ружье, – сказал я.
– Платья своей жены он тоже любил, Билли, – сказала Элейн. – Их ты тоже собираешься оставить?
– Не представляю тебя в роли охотника на оленей, Билл, – сказал Ричард Эбботт. – Даже если ты действительно решишь здесь поселиться.
Но я хотел оставить у себя эту винтовку – и это было очевидно всем.
– На что тебе ружье, Билл? – спросил меня Ларри.
– Билли, я знаю, что ты не против секретов как таковых, – сказала Элейн. – У тебя просто не очень-то получается хранить секреты.








