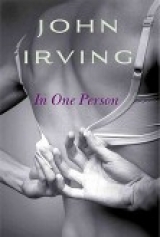
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
– Что это значит? – спросил я Элейн, когда мы лежали в нашей затрапезной квартирке на Пост-стрит.
– Адажио значит нежно, плавно, не спеша, – ответила Элейн.
– А-а.
Пожалуй, так можно описать наши попытки заняться любовью – да, мы пытались; секс оказался не более успешным, чем попытка жить вместе, но мы хотя бы попробовали. «Адажио», – говорили мы друг другу, когда пытались заниматься любовью, и потом, когда старались заснуть. Мы и сейчас иногда вспоминаем это слово; мы сказали друг другу «адажио», когда уезжали из Сан-Франциско, и все еще завершаем им наши письма – электронные и бумажные. Думаю, это и означает для нас любовь – только адажио. (Нежно, плавно, не спеша.) Для друзей, по крайней мере, оно подходит.
– Ну так кто она все-таки – та женщина на фотографиях? – спрашивал я Элейн в нашей просторной спальне, выходящей окнами на неоновую вывеску отеля «Адажио».
– Знаешь, Билли, она все еще приглядывает за мной. Она никогда не перестанет склоняться надо мной, трогать мой лоб, проверять мою прокладку, «нормально» ли идет кровь. Кстати, кровь всегда шла «нормально», но она проверяет до сих пор – она хотела, чтобы я знала, что она никогда не перестанет думать и тревожиться обо мне, – сказала Элейн.
Я лежал, размышляя об этом, – за окном тускло светились фонари на Юнион-Сквер и эта сломанная неоновая вывеска, вертикальное кроваво-красное «Адажио».
– Ты хочешь сказать, что миссис Киттредж все еще…
– Билли! – прервала меня Элейн. – Я никогда ни с кем не была так близка, как с этой ужасной женщиной. И никогда ни с кем не буду так близка.
– А как насчет самого Киттреджа? – спросил я, хотя после всех этих лет мне следовало бы понимать, о чем спрашивать можно, а о чем нет.
– Да на хер Киттреджа! – заорала Элейн. – Это его мать меня отметила! Это ее я никогда не забуду!
– Насколько близки вы были? Как она тебя отметила? – спросил я, но она начала плакать, и я решил просто обнять ее – нежно, плавно, не спеша – и больше ничего не говорить. Я уже расспрашивал ее про аборт; дело было не в этом. Элейн перенесла еще один аборт, уже после того, который она сделала в Европе.
– Не так оно и ужасно, с учетом альтернативы, – вот и все, что сказала Элейн о своих абортах. Как бы ни отметила ее миссис Киттредж, с абортом это точно не было связано. И если Элейн и «экспериментировала» с лесбийским сексом – я имею в виду, с миссис Киттредж, – то эти подробности она собиралась унести с собой в могилу.
Фотографии Элейн, которые я сохранил, были единственным, что давало пищу моим размышлениям о матери Киттреджа и о том, насколько «близки» они были с Элейн. Силуэт и попавшие в кадр фрагменты тела женщины (или женщин) на тех фотографиях для меня живее, чем единственное воспоминание о миссис Киттредж на борцовском матче – в тот первый и последний раз, когда я увидел ее. Я знаю «эту ужасную женщину» по тому, как знакомство с ней отразилось на моей подруге Элейн. Как и себя самого я знаю по постоянным влюбленностям в неподходящих людей. И на мне оставило свой след то, как долго я скрывал свою тайну от тех, кого я любил.
Глава 7. Мои ужасные ангелы
Если нежеланная беременность – это «бездна», поджидающая чересчур смелых девушек, – слово «бездна» я услышал от матери, но наверняка тут не обошлось без этой суки Мюриэл, – то для меня рухнуть в бездну означало уступить своим гомосексуальным влечениям. В этой любви крылось безумие; воплощая свои самые запретные фантазии, я, разумеется, погрузился бы в бездонную пучину страстей. Так, по крайней мере, я думал осенью моего выпускного года, когда решился снова отправиться в городскую библиотеку Ферст-Систер – на этот раз, как я воображал, в поисках спасения. Мне было восемнадцать, но мои сомнения во всем, что касалось секса, были бесчисленны, а ненависть к себе – безмерна.
Если бы вам довелось, подобно мне, оказаться в мужском интернате осенью 1960 года, вы тоже ощутили бы абсолютное одиночество и отвращение к себе – и невозможность довериться кому-либо, и менее всего ровесникам. Я всегда был одинок, но ненависть к себе хуже одиночества.
Элейн начала новую жизнь в Нортфилде, а я все больше времени проводил в комнате с ежегодниками в библиотеке академии. Когда мама или Ричард спрашивали, куда я иду, я всегда отвечал: «В библиотеку». Я не уточнял, в какую именно. И теперь, когда Элейн не отвлекала меня – она никогда не могла устоять перед искушением показать мне очередного симпатичного парня из свежих номеров ежегодника, – я стремительно миновал выпускные классы все менее отдаленного прошлого. Первая мировая осталась позади; я намного опередил свое воображаемое расписание. С такой скоростью я успевал добраться до последних номеров задолго до весны и до моего собственного выпускного.
Я был всего лишь в тридцати годах от своего выпуска; тем сентябрьским вечером, когда я решил навестить мисс Фрост, я начал изучать выпуск тридцать первого года. Очередная фотография невыносимо прекрасного борца заставила меня резко захлопнуть альбом. Просто недопустимо и дальше думать о Киттредже и ему подобных, сказал я себе. Нельзя поддаваться этим чувствам, или я обречен.
Что же удерживало меня на краю бездны? Фантазии о моделях в тренировочных лифчиках с лицом Марты Хедли больше не работали. Мне становилось все труднее мастурбировать даже на самые безупречные образы девушек с лицом Марты Хедли и максимально узкими бедрами. Единственным, что сдерживало мысли о Киттредже (и ему подобных), были мои пылкие фантазии о мисс Фрост.
Ежегодник академии Фейворит-Ривер носил имя «Сова». («Все, кто знал почему, вероятно, уже умерли», – ответил на мои расспросы Ричард Эбботт.) Я отодвинул «Сову» за тридцать первый год в сторону. Я собрал свои записи и тетради по немецкому и затолкал их в сумку.
Я занимался немецким уже четвертый год, хотя для окончания академии это было не обязательно. Я все еще помогал Киттреджу с третьим курсом немецкого, который он волей-неволей вынужден был проходить заново. Теперь, когда мы уже не занимались вместе, мне стало немного легче. По сути, я всего лишь экономил Киттреджу немного времени. Сложным в третьем курсе немецкого было то, что там начинались Гёте и Рильке; их продолжали изучать и на четвертом курсе. Когда Киттредж спотыкался на какой-либо фразе, я ускорял процесс, подсказывая ему примерный перевод. То, что порой одни и те же фразы из Гёте и Рильке повторно ставили Киттреджа в тупик, приводило его в ярость, но, честно говоря, общение посредством записок и коротких замечаний давалось мне куда легче, чем наши прошлые разговоры. Я старался не находиться рядом с Киттреджем ни минутой больше, чем это было необходимо.
По этой же причине я отказался играть в осенней постановке Шекспира – к разочарованию Ричарда, которое он неоднократно мне высказывал. Ричард дал Киттреджу роль Эдгара в «Короле Лире». Вдобавок он промахнулся, выбрав меня на роль шута. Когда я сообщил миссис Хедли, что вообще не хочу играть в пьесе, поскольку Киттреджу дали «героя» – а вдобавок Эдгар появляется еще и под видом Бедного Тома, так что Киттредж, по сути, заполучил двойную роль, – Марта Хедли уточнила, насколько внимательно я просмотрел свои реплики. Учитывая, что список моих речевых ошибок растет, не подумал ли я, что в репликах шута могут встретиться потенциально проблемные слова? Намекала ли миссис Хедли, что я могу отказаться играть, сославшись на проблемы с произношением?
– К чему это вы ведете? – спросил я. – Думаете, я не справлюсь со словом «ростовщик» или «сводня», или беспокоитесь, что я начну заикаться на слове «гульфик» из-за этого самого, что скрывается под гульфиком, раз я не могу произнести это самое?
– Билли, не надо так на меня бросаться, – сказала Марта Хедли.
– А может, вы думаете, что я споткнусь на «хитрой девке»? – спросил я. – Или на «колпаке» – в единственном или множественном числе?
– Успокойся, Билли, – попросила миссис Хедли. – Мы оба расстроены из-за Киттреджа.
– У Киттреджа уже была последняя реплика в «Двенадцатой ночи»! – заорал я. – А теперь Ричард снова дает ему последнюю реплику! И это Киттредж должен будет сказать: «Чем гнет худых времен невыносимей, / Тем строже долг – не гнуться перед ними»[6].
«Отцам пришлось трудней, чем молодым», – продолжает Эдгар-Киттредж.
Если говорить о сюжете «Короля Лира» – учитывая, что случилось с Лиром, не говоря уже об ослеплении Глостера (роль которого Ричард взял себе), – это, безусловно, верно. Но вот что касается последней строчки: «В сравненье с ними наше горе – дым» – не уверен, насколько это универсальная истина.
Оспариваю ли я мудрость, которой завершается великая пьеса, просто потому, что не делаю различия между Эдгаром и Киттреджем? Может ли кто-либо (даже Шекспир) знать заранее, насколько тяжело придется грядущим поколениям?
– Билли, Ричард поступает так, как лучше для пьесы, – сказала мне Марта Хедли. – Это не награда Киттреджу за соблазнение Элейн.
Однако мне все представлялось именно в таком свете. Зачем было отдавать Киттреджу такого выигрышного персонажа, как Эдгар, который потом притворяется Бедным Томом? После того, что произошло в «Двенадцатой ночи», зачем было Ричарду вообще давать Киттреджу роль в «Короле Лире»? Я не собирался играть в этой пьесе – в роли шута или в любой другой.
– Билли, просто скажи Ричарду, что не хочешь находиться в обществе Киттреджа, – сказала мне Марта Хедли. – Ричард поймет.
Я не мог ей сказать, что и в обществе Ричарда мне тоже не хочется находиться. И какой был смысл следить за маминым выражением лица в этой постановке? Дедушка Гарри играл Гонерилью, старшую из дочерей Лира; Гонерилья такая ужасная дочь, что отвращение при взгляде на нее естественно. (Мюриэл была Реганой, средней дочерью; я предполагал, что и на свою сестру мама будет смотреть неодобрительно.)
Но я не хотел иметь ничего общего с этой постановкой «Лира» не только из-за Киттреджа. У меня не было ни малейшего желания смотреть на то, как дядя Боб недотягивает до ведущего актера, ведь добряк Боб – «Мяч для сквоша», как прозвал его Киттредж, – был выбран на роль короля Лира. То, что Бобу явно недоставало трагизма, понимали, кажется, все, кроме Ричарда Эбботта; вероятно, Ричард жалел Боба и считал его трагическим персонажем, рассматривая как трагедию его женитьбу на Мюриэл.
Тело Боба совершенно не подходило его персонажу – или дело было в голове? Боб был крупным и крепко сбитым; голова по сравнению с телом казалась слишком маленькой и почти идеально круглой – как мячик для сквоша, затерявшийся между громадными плечами. Дядя Боб был слишком добродушным и слишком здоровенным для Лира.
Вскоре после начала пьесы (акт 1, сцена 4) король Лир (дядя Боб) взывает: «Скажите мне, кто я теперь?».
Кто может забыть, что отвечает королю шут? Но я забыл; я вообще забыл, что сейчас моя реплика.
– «Скажите мне, кто я теперь», Билл? – повторил Ричард Эбботт.
– Твоя реплика, Нимфа, – прошептал Киттредж. – Я предполагал, что у тебя с ней могут возникнуть небольшие трудности.
Все ждали, пока я найду реплику шута. Сначала я даже не сообразил, что столкнулся с проблемой; я совсем недавно стал испытывать сложности с этим словом, и ни я, ни Марта Хедли не успели этого заметить. Но Киттредж, очевидно, уже предвидел возможное препятствие.
– Ну же, Нимфа, давай послушаем, как ты это скажешь, – подзадоривал меня Киттредж. – По крайней мере, попытаешься.
«Скажите мне, кто я теперь?» – спрашивает Лир.
Шут отвечает: «Тень Лира».
С каких пор слово «тень» стало для меня непроизносимым? С тех пор, как Элейн вернулась из той поездки в Европу прозрачной как тень – по сравнению с прежней Элейн. С тех пор, как Элейн вернулась назад и привезла незнакомую тень, всюду следовавшую за ней по пятам, – тень, имевшую призрачное, едва заметное сходство с самой миссис Киттредж. С тех пор, как Элейн снова уехала, теперь в Нортфилд, и со мной осталась лишь тень – неупокоенная, неотмщенная тень моей лучшей подруги.
– Пень Лира, – сказал я.
– Его пень! – вскричал Киттредж.
– Давай еще раз, Билл, – сказал Ричард.
– Я не могу это произнести, – ответил я.
– Похоже, нам нужен новый шут, – предположил Киттредж.
– Это мне решать, Киттредж, – сказал ему Ричард.
– Или мне, – произнес я.
– Э-э, ну… – начал дедушка Гарри, но дядя Боб перебил его.
– Ричард, мне кажется, что Билли мог бы сказать «отражение Лира» или даже «призрак Лира» – если, по твоему мнению, это соответствует тому, что подразумевает шут, – предложил дядя Боб.
– Это будет уже не Шекспир, – сказал Киттредж.
– Твоя реплика – «Тень Лира», Билли, – сказала моя мать. – Или ты произносишь ее как надо, или нет.
– Золотко, прошу тебя, – начал Ричард, но я прервал его.
– Лиру нужен нормальный шут – который сможет произнести все реплики, – сказал я Ричарду Эбботту.
Уходя, я понимал, что это была моя последняя репетиция в академии Фейворит-Ривер – возможно, последняя для меня пьеса Шекспира. (Как выяснилось, «Король Лир» действительно был последней пьесой Шекспира, в которой мне пришлось играть.)
Дочь кого-то из преподавателей, которую Ричард выбрал на роль Корделии, была и остается настолько незнакомой мне, что я не могу даже вспомнить ее имени.
– Девочка пока не сформировалась, но память у нее что надо, – сказал о ней дедушка Гарри.
– И сейчас не красотка, и никогда ей не будет, – вот и все, что сказала тетя Мюриэл о несчастной Корделии, подразумевая, что на этой Корделии никто в пьесе не женился бы, даже если бы она осталась в живых.
Роль шута в итоге досталась Делакорту. Поскольку Делакорт был борцом, скорее всего, это Киттредж рассказал ему об освободившейся роли. Позднее Киттредж просветил меня, что в этот раз Делакорту не так мешала необходимость поддерживать вес: осенняя постановка вышла до начала борцовских соревнований. Однако легковес, из которого, по словам Киттреджа, в более тяжелом весе сделали бы отбивную, все еще страдал от сухости во рту, даже когда не был обезвожен, – или, может, Делакорт грезил о том, чтобы сбросить еще пару килограммов, даже в перерыве между соревнованиями. В результате Делакорт непрерывно полоскал рот из бумажного стаканчика и постоянно сплевывал воду во второй стаканчик. Если бы Делакорт был жив, я уверен, он и сейчас точно так же проводил бы рукой по волосам. Но Делакорт мертв, как и многие другие. Мне еще предстояло стать свидетелем смерти Делакорта.
Как мудро говорит шут Лира, «Считай то, что тратишь, / Хватай, что ухватишь, / Таи то, что знаешь». Хороший совет, но он не спасет шута, и он не спас Делакорта.
Киттредж странно вел себя с Делакортом: он умудрялся демонстрировать одновременно привязанность и раздражение. Как будто Делакорт был его другом детства, но потом разочаровал его, когда «вырос» не таким, как ожидал Киттредж.
Привычка Делакорта полоскать и сплевывать вызывала у Киттреджа нездоровый восторг; он даже сказал Ричарду, что если бы шут на сцене постоянно полоскал рот и сплевывал, это была бы интересная находка.
– Но это уже не Шекспир, – сказал дедушка Гарри.
– Ричард, я не собираюсь суфлировать бульканье и плевки, – сказала моя мать.
– Делакорт, я прошу тебя полоскать и сплевывать за кулисами, – сказал Ричард незадачливому легковесу.
– Я просто предложил, – сказал Киттредж, пренебрежительно пожав плечами. – Видимо, довольно и того, что у нас есть шут, который может произнести слово «тень».
В разговоре со мной Киттредж пустился в философские рассуждения:
– Ты же понимаешь, Нимфа, не бывает настоящих актеров с ограниченным словарем. Но есть и положительная сторона: ты осознал свои слабости в таком юном возрасте, – уверял меня Киттредж. – На самом деле это даже удача – теперь ты точно знаешь, что тебе никогда не стать актером.
– Ты имеешь в виду, что это не та профессия, которую выбирают, – сказал ему я, как однажды сказала мне мисс Фрост – когда я впервые сообщил ей, что хочу стать писателем.
– Боюсь, что да, Нимфа, – если ты не хочешь лишить себя последнего шанса на успех.
– А-а.
– И было бы мудро с твоей стороны, Нимфа, сделать и другой выбор – прежде чем думать о карьере, я хочу сказать, – сказал Киттредж. Я ничего не ответил; я ждал. Я достаточно хорошо знал Киттреджа и видел, что он пытается вынудить меня подставиться. – Есть еще вопрос твоих сексуальных наклонностей, – продолжил Киттредж.
– Мои сексуальные наклонности предельно ясны, – ответил я, немного удивившись самому себе: я играл, и моя проблема с речью никак не проявляла себя.
– Не знаю, не знаю, Нимфа, – сказал Киттредж, случайно или намеренно напрягая широкие мышцы на сильной шее. – Как по мне, в том, что касается сексуальных наклонностей, ты выглядишь неопределившимся.
– А, это ты! – весело сказала мисс Фрост, увидев меня; казалось, мой визит удивил ее. – А я думала, это твой друг. Он только что был здесь. Я думала, он вернулся.
– Какой друг? – спросил я. (Конечно, я тут же подумал о Киттредже – хотя он был мне не совсем другом.)
– Том, – сказала мисс Фрост. – Том только что заходил. Никак не могу понять, зачем он приходит. Он всегда просит книги, которые, по его словам, не может найти в библиотеке академии, но я отлично знаю, что они там есть. В любом случае у меня никогда не оказывается нужной ему книги. Возможно, он ищет тебя.
– Что за Том? – спросил я. Я не мог припомнить ни одного Тома среди своих знакомых.
– Аткинс – кажется, так? – спросила мисс Фрост. – Я его знаю как Тома.
– Я его знаю как Аткинса, – сказал я.
– Ах, Уильям, сколько же еще в этой ужасной школе будут называть всех по фамилиям! – сказала мисс Фрост.
– Разве тут не полагается шептать? – прошептал я.
В конце концов, мы же были в библиотеке. Я был озадачен тем, как громко говорила мисс Фрост, но меня также привели в восторг ее слова о том, что Фейворит-Ривер – «ужасная школа»; я и сам втайне так думал, но, будучи преподавательским отпрыском, никогда бы не произнес этого вслух, из солидарности с Ричардом Эбботтом и дядей Бобом.
– Тут никого больше нет, Уильям, – прошептала мне мисс Фрост. – Можем говорить так громко, как нам вздумается.
– А-а.
– Полагаю, ты пришел писать, – громко сказала мисс Фрост.
– Нет, мне нужен ваш совет о том, что почитать, – сказал я.
– Все еще на тему влюбленностей в неподходящих людей, Уильям?
– Совсем неподходящих, – прошептал я.
Она наклонилась ко мне; она все еще была настолько выше меня, что мне показалось, будто я совсем не вырос.
– Можем пошептаться об этом, если хочешь, – прошептала она.
– Вы знаете Жака Киттреджа?– спросил я.
– Все знают Киттреджа, – безразлично сказала мисс Фрост; я не мог понять, что она думает о нем.
– Я влюблен в Киттреджа, но я пытаюсь сдерживаться, – сказал я ей. – Бывают романы о чем-то подобном?
Мисс Фрост положила руки мне на плечи. Я знал, что она чувствует, как я дрожу.
– Ах, Уильям, случаются вещи и похуже, знаешь ли, – сказала она. – Да, у меня есть как раз тот роман, который тебе нужно прочесть, – сообщила она мне, снова перейдя на шепот.
– Я знаю, зачем Аткинс сюда ходит, – выпалил я. – Он не меня ищет – он, наверное, влюблен в вас!
– С чего бы? – спросила меня мисс Фрост.
– А почему бы нет? Почему бы любому мальчишке в вас не влюбиться? – спросил ее я.
– Ну, давненько в меня никто не влюблялся, – сказала она. – Но это очень лестно – так мило с твоей стороны сделать такое предположение, Уильям.
– И я в вас влюблен, – сказал я. – С самого начала, и еще сильнее, чем в Киттреджа.
– Милый мой мальчик, ты так ошибаешься! – воскликнула мисс Фрост. – Разве я тебе не сказала, что есть вещи и похуже влюбленности в Жака Киттреджа? Послушай, Уильям: влюбленность в Киттреджа безопаснее!
– Как Киттредж может быть безопаснее вас? — воскликнул я.
Я чувствовал, что опять начинаю дрожать. В этот раз, снова положив ладони мне на плечи, мисс Фрост притянула меня к своей широкой груди. Я начал всхлипывать и не мог ничего с этим поделать.
Я плакал и ненавидел себя за это, но остановиться не мог. Доктор Харлоу сообщил нам на очередном невыносимом утреннем собрании, что излишняя плаксивость у мальчиков – гомосексуальная склонность, которой следует избегать. (Конечно же, этот недоумок не рассказал нам, как избегать чего-то, что не можешь контролировать!) И как-то раз я слышал, как мама сказала Мюриэл: «Честное слово, не знаю, что и делать, когда Билли начинает реветь как девчонка!».
И вот я ревел как девчонка в городской библиотеке Ферст-Систер, в сильных объятиях мисс Фрост, только что признавшись ей, что влюблен в нее сильнее, чем в Жака Киттреджа. Наверное, я казался ей такой размазней!
– Милый мой мальчик, ты не знаешь меня, – говорила мне тем временем мисс Фрост. – Ты не знаешь, кто я, ты не знаешь обо мне ровно ничего – ведь так? Уильям? Не знаешь, правда?
– Не знаю чего? – прорыдал я. – Я не знаю вашего имени, – признался я, все еще всхлипывая.
Я обнимал ее, хотя и не так крепко, как она прижимала меня к себе. Я чувствовал ее силу и снова подумал, как не соответствует этой силе ее маленькая грудь. Я чувствовал, какая она мягкая, и эта мягкая маленькая грудь казалась мне несовместимой с ее широкими плечами и мускулистыми руками.
– Я не об имени, Уильям – это не так важно, – сказала мисс Фрост. – Я имею в виду, что ты не знаешь меня.
– Но как вас все-таки зовут? – спросил я.
Мисс Фрост подчеркнуто громко вздохнула – и театрально разомкнула объятия, почти оттолкнув меня от себя.
– Уильям, я многое поставила на карту, став мисс Фрост, – сказала она. – Обращение мисс досталось мне не случайно.
Я кое-что знал о том, как можно не любить собственное имя: я помнил, как мне не нравилось быть Уильямом Френсисом Дином-младшим.
– Вам не нравится ваше имя? – спросил ее я.
– Можно и так сказать, – ответила она весело. – Тебе пришло бы в голову назвать девочку Альбертой?
– Как канадскую провинцию? – спросил я. Это имя совершенно не вязалось с мисс Фрост!
– Для провинции оно подходит лучше, – сказала мисс Фрост. – Раньше все звали меня Ал.
– Ал, – повторил я.
– Теперь ты понимаешь, почему мне больше нравится мисс, – сказала она, смеясь.
– Мне все в вас нравится, – сказал я.
– Придержи коней, Уильям, – сказала мне мисс Фрост. – Нельзя бросаться во влюбленности в неподходящих людей очертя голову.
Конечно же, я не понял, почему она считает себя «неподходящей» для меня – и как она может думать, что влюбленность в Киттреджа безопаснее? Я решил, что мисс Фрост просто пытается предупредить меня о разнице в возрасте; возможно, она считала непозволительной связь восемнадцатилетнего парня с женщиной за сорок. Я размышлял о том, что с точки зрения закона я уже стал взрослым, хотя и недавно, а если мисс Фрост и правда ровесница тети Мюриэл, то ей, должно быть, года сорок два – сорок три.
– Девушки моего возраста меня не интересуют, – сказал я мисс Фрост. – Похоже, меня привлекают женщины постарше.
– Милый мой мальчик, – повторила она. – Не важно, сколько мне лет – важно, что я такое. Уильям, ты не знаешь, что я такое, правда?
Как будто этот экзистенциальный вопрос не был достаточно странным сам по себе, Аткинс выбрал именно этот момент, чтобы войти в тускло освещенное фойе библиотеки. Мне показалось, что он вздрогнул от испуга. (Потом он рассказал мне, что его напугало собственное отражение в зеркале, молчаливо висевшем в фойе, подобно немому стражу.)
– А, это ты, Том, – сказала мисс Фрост, нисколько не удивившись.
– Видите? Что я вам говорил! – сказал я мисс Фрост, пока Аткинс продолжал опасливо разглядывать себя в зеркале.
– Ты так ошибаешься, – с улыбкой сказала мне мисс Фрост.
– Билл, тебя Киттредж ищет, – сказал Аткинс. – Я заходил в комнату с ежегодниками, но мне сказали, что ты только что ушел.
– Комнату с ежегодниками, – повторила мисс Фрост; в ее голосе было удивление. Я взглянул на нее; на ее лице была написана непривычная тревога.
– Билл проводит исследование ежегодников Фейворит-Ривер от прошлого к настоящему, – сказал ей Аткинс. – Это Элейн мне сказала, – объяснил он мне.
– Господи боже, Аткинс, – ты, похоже, проводишь исследование меня, – ответил я.
– Это Киттредж тебя разыскивает, – угрюмо сказал Аткинс.
– И с каких пор ты у Киттреджа на посылках? – спросил его я.
– Хватит с меня унижений на сегодня! – трагически вскричал Аткинс, воздев тонкие руки. – Одно дело, когда меня оскорбляет Киттредж – он всех оскорбляет. Но когда ты меня оскорбляешь, Билл, – это уже слишком!
Развернувшись к выходу в преувеличенном негодовании, Аткинс снова встретился с тем пугающим зеркалом в фойе и остановился возле него, чтобы напоследок выдать:
– Это Киттредж твоя тень, а не я, Билл.
Он ушел, прежде чем я успел сказать:
– На хер Киттреджа.
– Следи за языком, Уильям, – сказала мне мисс Фрост, прижав пальцы к моим губам. – Мы же все-таки в долбаной библиотеке.
Это слово совершенно не вязалось с ней – как и имя Альберта, – но когда я повернулся к ней, она улыбалась. Она просто подтрунивала надо мной; теперь ее длинные пальцы коснулись моей щеки.
– Интересное замечание о «тени», Уильям, – сказала она. – Случайно не это ли непроизносимое слово вызвало твой неожиданный уход из «Короля Лира»?
– Да, – сказал я. – Похоже, и вы уже слышали. В таком маленьком городке, видимо, все узнают обо всем!
– Может, и не совсем все – и, вероятно, не обо всем, Уильям, – сказала мисс Фрост. – К примеру, мне кажется, что ты слышал не все – по крайней мере, обо мне.
Я знал, что бабушка Виктория недолюбливает мисс Фрост, но не знал почему. Я знал, что тетя Мюриэл не одобряет ее выбор лифчиков, но как мог я заговорить о тренировочных лифчиках, когда только что заявил, что мне нравится в мисс Фрост абсолютно все?
– Моя бабушка, – начал я, – и тетя Мюриэл…
Но мисс Фрост снова коснулась моих губ своими длинными пальцами
– Тс-с-с, Уильям, – прошептала она. – Ни к чему мне знать, что обо мне думают эти дамы. Мне гораздо интереснее послушать про твой проект с ежегодниками
– А, да это не то чтобы проект, – сказал я. – Я просто просматриваю фотографии борцов, по большей части – и тех спектаклей, которые ставили в Клубе драмы.
– Вот как? – спросила мисс Фрост несколько отстраненно. Почему у меня возникло ощущение, что она то начинает играть, то перестает? Что там она сказала, когда Ричард Эбботт спросил, выступала ли она на сцене – играла ли она?
«Только в своем воображении, – ответила она ему почти кокетливо. – В молодости – постоянно».
– И до какого года ты дошел, Уильям – до какого выпуска? – спросила мисс Фрост.
– Тысяча девятьсот тридцать первого, – ответил я. Ее пальцы оставили мои губы; теперь она касалась воротника моей рубашки, как будто что-то в этой рубашке с воротником на пуговицах тронуло ее – возможно, сентиментальные воспоминания.
– Ты уже так близко, – сказала мисс Фрост.
– Близко к чему? — спросил я.
– Просто близко, – ответила она. – У нас мало времени.
– Пора закрывать библиотеку? – спросил я, но мисс Фрост лишь улыбнулась; затем, как будто размышляя, посмотрела на часы.
– А что плохого в том, чтобы сегодня закрыться немного пораньше? – неожиданно сказала она.
– Конечно, почему бы и нет? – сказал я. – Все равно здесь больше никого, кроме нас. Вряд ли Аткинс вернется.
– Бедный Том, – сказала мисс Фрост. – Уильям, он не в меня влюблен – Том Аткинс сохнет по тебе!
В ту же секунду я понял, что это правда. «Бедный Том», как я теперь начал называть про себя Аткинса, вероятно, почувствовал, что мне нравится мисс Фрост; наверное, он ревновал меня к ней.
– Бедный Том просто шпионит за мной и за тобой, – сказала мне мисс Фрост. – А о чем с тобой хочет поговорить Киттредж? – неожиданно спросила она.
– А, ни о чем – это все немецкий. Я помогаю Киттреджу с немецким, – объяснил я.
– Том Аткинс был бы для тебя безопаснее, чем Жак Киттредж, – сказала мисс Фрост. Я знал, что это так, хотя не находил Аткинса привлекательным – разве что совсем немного: человек, который восхищается вами, со временем становится немножко симпатичен. (Но обычно из этого ничего не получается, ведь так?)
Но когда я собрался объяснить мисс Фрост, что меня не особенно привлекает Аткинс – что вообще-то мне нравятся не все мальчики, а лишь немногие, – в этот раз она прижала к моим губам свои губы. Она просто поцеловала меня. Это был крепкий поцелуй, довольно агрессивный; лишь один уверенный толчок, единственный выстрел ее теплого языка. Поверьте мне: мне скоро исполнится семьдесят; в моей жизни было много разных поцелуев, и этот был увереннее, чем любое мужское рукопожатие.
– Я знаю, знаю, – пробормотала она, продолжая прижиматься к моим губам. – У нас так мало времени – давай не будем больше говорить о бедном Томе.
– А-а.
Я пошел за ней следом в фойе, все еще думая, что ее беспокойство о «времени» связано только с закрытием библиотеки, но мисс Фрост сказала:
– Полагаю, отбой у выпускных классов все еще в десять часов – кроме вечера субботы, тогда, вероятно, отбой по-прежнему в одиннадцать. Ничего не меняется в этой ужасной школе, правда?
Меня впечатлило, что мисс Фрост знает о времени отбоя в академии Фейворит-Ривер – не говоря уже о том, что она назвала час с абсолютной точностью.
Я наблюдал, как она закрывает на ключ входную дверь и гасит фонарь снаружи; она оставила лишь тусклую лампочку в фойе и прошлась по остальной библиотеке, выключая свет. Я успел совершенно забыть, что спрашивал у нее совета – относительно моей влюбленности в Киттреджа и о том, как «пытаюсь сдерживать» ее, – когда мисс Фрост вручила мне тонкую книгу. В ней было всего страниц на сорок пять больше, чем в «Короле Лире», который на тот момент был последней моей прочитанной книгой.
Это был роман Джеймса Болдуина под названием «Комната Джованни» – я едва смог прочесть название, поскольку мисс Фрост выключила весь свет в главной комнате. Остался только тусклый свет в фойе – которого едва хватило, чтобы мы с мисс Фрост могли спуститься по ступенькам в подвал.
На темной лестнице, освещенной лишь тем скудным светом, который проникал из фойе библиотеки, – и тусклым сиянием впереди, манившим в комнатку мисс Фрост, – я неожиданно вспомнил, что хотел спросить библиотекаршу еще об одном романе.
Имя Ал уже дрожало на моих губах, но я не мог себя заставить произнести его. Вместо этого я сказал:
– Мисс Фрост, что вы скажете о «Госпоже Бовари»? Как думаете, мне бы понравилась эта книга?
– Когда станешь постарше, Билл, думаю, ты ее полюбишь.
– Ричард тоже так сказал, и дядя Боб, – сказал я.
– Как, твой дядя Боб читал «Госпожу Бовари»? Ты про мужа Мюриэл? Да не может быть! – воскликнула мисс Фрост.
– Боб его не читал, он просто рассказал мне, о чем он, – пояснил я.
– Если человек не читал роман, он не может знать, о чем он, Уильям.








