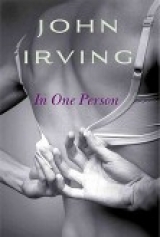
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
– Старый добрый Боб, – сказал я.
Я предложил вызвать им такси; я не знал, что они живут в этом же районе.
– Мы живем прямо за углом от Санто-Мауро, – объяснил сеньор Бовари. На этот раз, когда он протянул мне руку ладонью вниз, я поцеловал ее.
– Спасибо вам за то, что все это случилось, – сказал я Бовари. Мой отец шагнул вперед и неожиданно обнял меня; он быстро и сухо клюнул меня в обе щеки – отец был европейцем до глубины души.
– Может быть, когда я снова приеду в Испанию – когда мою следующую книгу будут переводить на испанский, – может быть, я снова заеду вас повидать, или вы приедете в Барселону, – сказал я. Но было видно, что отцу эта мысль не очень понравилась.
– Может быть, – только и сказал он.
– Я думаю, ближе к делу и стоит об этом поговорить, – предложил мистер Бовари.
– Мой распорядитель, – сказал отец, улыбаясь мне, но указывая на сеньора Бовари.
– И любовь всей твоей жизни! – счастливо завопил Бовари. – Никогда об этом не забывай, Фрэнни!
– Как бы я мог? – сказал нам мой отец. – Я же продолжаю рассказывать эту историю, разве не так?
Я почувствовал, что на этом нам предстоит распрощаться; вряд ли я снова их увижу. (Как сказал мой отец, «мы уже те, кто мы есть, правда?»)
Но слово «прощайте» казалось мне слишком бесповоротным; я не мог заставить себя его произнести.
– Adiós, юный Уильям, – сказал сеньор Бовари.
– Adiós, – ответил я ему. Они уже уходили – разумеется, держась за руки, – когда я крикнул вслед отцу:
– Adiós, папа!
– Он назвал меня папой, я верно расслышал? – спросил мой отец господина Бовари.
– Да, так и сказал, – ответил Бовари.
– Adiós, сын! – ответил мой отец.
– Adiós! – продолжал кричать я своему отцу и любви всей его жизни, пока они не скрылись из виду.
В Центре театральных искусств Уэбстера при академии Фейворит-Ривер помимо основной сцены имелась еще и экспериментальная. Здание Центра было относительно новым, но бестолково построенным – задумка была хороша, но исполнение оставляло желать лучшего.
Времена уже не те: школьники теперь не изучают Шекспира так, как это делали мы. Если бы я решил поставить любую из пьес Шекспира на основной сцене, мне не удалось бы собрать полный зал, даже на «Ромео и Джульетту», даже с бывшим мальчиком в роли Джульетты! Но, так или иначе, экспериментальная сцена больше подходила для обучения актеров, и зрительный зал там был поменьше. Мои актеры чувствовали себя свободнее на такой сцене, однако всем нам досаждали мыши. Может, здание и было сравнительно новым, но – то ли по недосмотру проектировщика, то ли по вине строителей – просвет под зданием Центра был плохо изолирован и служил парадным входом для мышей.
В Вермонте с наступлением холодов мыши наводняют любое плохо построенное здание. Участники нашей экспериментальной постановки «Ромео и Джульетты» называли их сценическими мышами. Не могу объяснить почему, разве что из-за того, что время от времени мыши забредали и на сцену.
Тот ноябрь выдался холодным. До каникул по случаю Дня благодарения оставалась всего неделя, и на земле уже лежал снег – даже для Вермонта было уже слишком холодно. (Неудивительно, что мыши стали перебираться в дома.)
Я только что убедил Ричарда Эбботта переехать ко мне в дом на Ривер-стрит; Ричарду было уже восемьдесят, и вряд ли вермонтская зима в одиночестве пошла бы ему на пользу – теперь, когда Марта переехала в Заведение, он остался один. Я отвел Ричарду свою бывшую спальню и ванную комнату, которую когда-то делил с дедушкой Гарри.
Ричард не жаловался на призраки. Может, он и высказал бы недовольство, если бы встретил призрак бабушки Виктории или тети Мюриэл – или даже мамин, – но единственным призраком, который являлся Ричарду, был дедушка Гарри. Разумеется, призрак Гарри появлялся в той самой, когда-то нашей общей, ванной комнате – но, слава богу, не в той самой ванне.
– Гарри выглядит каким-то растерянным, как будто не может вспомнить, куда положил зубную щетку, – вот и все, что сказал Ричард о призраке дедушки Гарри.
Ванну, в которой Гарри вышиб себе мозги, давно продали. Если бы дедушка Гарри намеревался повторить свое представление, ему пришлось бы устроить его в хозяйской уборной, которой теперь пользовался я, – в уютной новой ванне (как он уже однажды повторил свое представление при Аманде).
Но, как я вам уже сказал, я никогда не видел призраков в доме на Ривер-стрит. Лишь однажды утром я проснулся и обнаружил аккуратную стопку своей одежды в ногах кровати. Вся одежда была выстирана, снизу лежали джинсы, затем тщательно сложенная рубашка, и сверху нижнее белье и носки. Точно в таком же порядке когда-то складывала мою одежду мама, когда я был маленьким. Она делала это каждый вечер, после того как я засыпал. (И перестала, когда я был уже подростком или незадолго до того.) Я совершенно забыл, как она любила меня когда-то. Видимо, ее призрак хотел напомнить мне об этом.
Больше такого не повторялось, но этого случая мне хватило, чтобы вспомнить, как я сам когда-то безоговорочно любил ее. Теперь, спустя столько лет после того, как я лишился ее привязанности и считал, что уже не люблю ее, я наконец смог оплакать ее – как всем нам положено оплакивать родителей, когда они уходят.
Впервые приехав в дом на Ривер-стрит после того, как я решил поселиться в нем, я обнаружил в гостиной на первом этаже дядю Боба, стоящего возле коробки с книгами. тетя Мюриэл собиралась передать мне эти «памятники мировой литературы», как сбивчиво объяснил мне Боб, но не призрак Мюриэл доставил их – Боб сам притащил эти книги. Он с запозданием обнаружил, что Мюриэл намеревалась отдать мне их, но автокатастрофа нарушила ее планы. Сначала дядя Боб не понял, что книги предназначались мне; в коробке лежала записка, но прошло несколько лет, прежде чем Боб прочел ее.
«Это книги твоих предшественников, Билли, – написала тетя Мюриэл своим характерным твердым почерком. – Ты в этой семье писатель – они должны быть твоими».
– Боюсь, что не знаю, когда она собиралась передать их тебе, Билли, – робко сказал Боб.
Слово «предшественники» стоит отметить особо. Сначала я был польщен тем, в какое именитое общество поместила меня Мюриэл; это оказалась подборка по-настоящему классической литературы. Были там две пьесы Гарсиа Лорки – «Кровавая свадьба» и «Дом Бернардо Альбы». (Я не знал, что Мюриэл было известно о моей любви к Лорке – в том числе к его стихам.) Было три пьесы Теннесси Уильямса; может, это Нильс Боркман передал их Мюриэл, сначала подумал я. Были сборники стихов Одена, Уолта Уитмена и лорда Байрона. Были непревзойденные романы Германа Мелвилла и Э. М. Форстера – я говорю о «Моби Дике» и «Говардс-Энд». Был «По направлению к Свану» Марселя Пруста. Но я все еще не понимал, почему тетя Мюриэл собрала именно этих писателей и назвала их моими «предшественниками», – пока не достал со дна коробки две маленькие книжки, лежавшие рядом: «Одно лето в аду» Артюра Рембо и «Комнату Джованни» Джеймса Болдуина.
– А-а, – сказал я дяде Бобу. Мои предшественники-геи, видимо, подразумевала тетя Мюриэл – мои не совсем «нормальные» собратья, догадался я.
– Мне кажется, твоя тетя хотела тебе их подарить в позитивном смысле, Билли, – сказал дядя Боб.
– Думаешь? – спросил я Ракетку. Мы оба стояли в гостиной, пытаясь вообразить, как тетя Мюриэл укладывает эти книги в коробку в позитивном смысле.
Я не стал рассказывать Джерри о подарке ее матери – боясь, что ей Мюриэл не завещала ничего или, наоборот, оставила что-нибудь еще похуже. Я не стал спрашивать Элейн, в позитивном ли смысле, по ее мнению, оставила мне эти книги Мюриэл. (Элейн считала, что моя тетя была жутким призраком с самого рождения.)
Телефонный звонок Элейн, раздавшийся однажды поздно вечером в доме на Ривер-стрит, напомнил мне об Эсмеральде, много лет назад исчезнувшей из моей жизни (но не из мыслей). Элейн рыдала в трубку; очередной никудышный любовник бросил ее и вдобавок отпустил жестокое замечание насчет влагалища моей дорогой подруги. (Я никогда не рассказывал Элейн о моей неудачной характеристике вагины Эсмеральды – вот уж не самый подходящий вечер, чтобы рассказать Элейн эту историю!)
– Ты постоянно рассказываешь мне, как обожаешь мою маленькую грудь, – проговорила Элейн между всхлипами. – Но никогда ничего не говорил о моей вагине.
– Я обожаю твою вагину! – заверил я ее.
– Билли, ты же не просто пытаешься меня утешить?
– Нет! По-моему, твоя вагина идеальна! – сказал я ей.
– Почему? – спросила Элейн; плакать она перестала.
Я был твердо намерен не повторить ту же ошибку в отношении своей ближайшей подруги.
– Э-э, ну… – начал я и сделал паузу. – Я буду с тобой абсолютно честен, Элейн. Некоторые вагины просторные, как бальные залы, а твоя вагина – то что надо. Она идеального размера – для меня, по крайней мере, – сказал я так непринужденно, как только мог.
– То есть не бальная зала – ты это хочешь сказать, Билли?
Ну и как оно опять так вышло? – подумал я.
– Не бальная зала в позитивном смысле! – крикнул я.
Дальнозоркость Элейн осталась в прошлом; она сделала лазерную коррекцию – и видела все как будто впервые в жизни. До операции, занимаясь сексом, она всегда снимала очки – и ни разу как следует не разглядела мужской член. Теперь она обнаружила, что некоторые члены – большинство, по ее словам, – ей не нравятся. Она сообщила мне, что при следующей встрече она хочет хорошенько рассмотреть мой член. Меня немного расстроило, что Элейн не знает никого другого так близко, чтобы спокойно разглядывать его член, но, в конце концов, для чего нужны друзья?
– Так моя вагина «не бальная зала» в позитивном смысле? – сказала в трубку Элейн. – Ну ладно, могло быть и хуже. Не могу дождаться того момента, когда как следует рассмотрю твой член, Билли, – я уверена, что ты воспримешь это в позитивном ключе.
– И я жду не дождусь – сказал я ей.
– И не забывай, у кого тут идеальный для тебя размер, Билли, – сказала Элейн.
– Я тебя люблю, Элейн, – сказал я ей.
– И я тебя люблю, Билли, – ответила она.
Так мой промах с бальной залой был предан забвению – и этот призрак оставил меня. Так отлетело мое худшее воспоминание об Эсмеральде, одной из моих ужасных ангелов.
Была третья неделя ноября 2010-го – этого дня я не забуду, пока жив. Я был по уши занят «Ромео и Джульеттой»; у меня были великолепные актеры и (как вы уже знаете) настолько мужественная Джульетта, насколько может пожелать режиссер.
Сценические мыши беспокоили в основном моих актрис – леди Монтекки, леди Капулетти и Кормилицу. Но Джи не устраивала истерик при виде мыши; она пыталась раздавить назойливого маленького грызуна. Джульетте и моему кровожадному Тибальту удалось расплющить несколько мышей, но Меркуцио и Ромео предпочитали расставлять мышеловки. Я постоянно напоминал им, что надо разрядить мышеловки перед премьерой – не хотелось бы, чтобы жуткий щелкающий звук – или предсмертный писк сценической мыши – раздался во время представления.
Ромео играл мальчик с коровьими глазами, в чьей красоте не было ничего оригинального; зато он обладал исключительной дикцией. Он мог произнести крайне важную строчку из первого акта первой сцены так, чтобы ее услышали на самых последних рядах. «Страшна здесь ненависть; любовь страшнее!»[13] – я об этой строчке.
Для Джи также было важно – как она сама мне сообщила, – что этот Ромео был не в ее вкусе. «Но целоваться с ним я могу без проблем», – прибавила она.
К счастью, и Ромео ничего не имел против поцелуев с Джи – хотя все в школе и знали, что у Джи есть яйца (и член). Потенциальному кавалеру потребовалось бы немало храбрости, чтобы отважиться пригласить Джи на свидание; в Фейворит-Ривер этого так и не произошло. Джи всегда жила в женском общежитии; даже будучи технически парнем, она никогда не стала бы приставать к девочкам, и они это знали. Девочки тоже никогда не беспокоили Джи.
Поселить Джи в мужском общежитии означало бы подвергнуть ее большому риску; Джи нравились мальчики, но поскольку сама Джи была мальчиком, пытающимся стать девочкой, некоторые мальчишки определенно причиняли бы ей неприятности.
Никто и представить себе не мог – и в первую очередь я, – что Джи превратится в такую прелестную юную женщину. Несомненно, некоторые ученики в Фейворит-Ривер были в нее влюблены – гетеросексуалы, поскольку Джи была абсолютно достоверна, и геи, которым Джи нравилась именно потому, что у нее были член и яйца.
Мы с Ричардом Эбботтом по очереди брали Джи с собой в Заведение повидаться с Мартой Хедли. В свои девяносто миссис Хедли была для Джи кем-то вроде мудрой бабушки; она посоветовала ей не встречаться с мальчиками в Фейворит-Ривер.
– Оставь свидания до колледжа, – сказала ей миссис Хедли.
– Я так и делаю – все мои свидания в режиме ожидания, – сказала мне Джи Монтгомери. – Да и все равно мальчишки в Фейворит-Ривер для меня слишком незрелые.
Был, правда, один парень, который мне казался очень зрелым – по крайней мере физически. Как и Джи, он учился в выпускном классе, но он был борцом, поэтому я и взял его на роль вспыльчивого Тибальта из семьи Капулетти, сорвиголовы, по вине которого все и произошло. Да-да, я помню, что это давние раздоры между семействами в итоге стали причиной смерти Ромео и Джульетты, но ведь Тибальт послужил катализатором. (Надеюсь, Херм Хойт и мисс Фрост простили бы мне то, что я взял борца на роль катализатора.)
Мой Тибальт выглядел старше, чем все прочие мальчишки в Фейворит-Ривер, – он родился в Германии и все четыре года учебы входил в состав сборной академии. Манфред боролся в среднем весе; английский у него был правильный и очень отчетливый, но легкий акцент все же оставался. Я велел Манфреду не стараться скрыть свой акцент в «Ромео и Джульетте». Это было жестоко с моей стороны – сделать Тибальта борцом с немецким акцентом. Но, честно говоря, меня немного волновало то, сильно ли Манфред влюблен в Джи. (И я знаю, что Джи он тоже нравился.) Если и был в Фейворит-Ривер парень, храбрый настолько, чтобы встречаться с Джи Монтгомери – или хотя бы пригласить ее на свидание, – этим парнем, уже выросшим в молодого мужчину, был мой пылкий Тибальт.
В ту среду мы уже репетировали без подглядывания в текст – настало время для шлифовки и полировки. Репетиция началась позже, чем обычно; мы собрались в восемь вечера, потому что Манфред не успевал прийти раньше: он был на предсезонном матче где-то в Массачусетсе.
Я пришел в театр ближе к нашему обычному времени репетиций, примерно к семи часам – и, как я и ожидал, большинство моих актеров тоже явились раньше. К восьми часам мы все ждали только Манфреда – моего воинственного Тибальта.
Мы болтали о политике с Бенволио, одним из моих гомосексуальных актеров. Он был активистом школьного ЛГБТК-сообщества, и мы обсуждали нового губернатора Вермонта, демократа, «нашего защитника прав гомосексуалов», как раз говорил мой Бенволио.
Неожиданно он оборвал себя:
– Совсем забыл сказать вам, мистер Эй. Там какой-то парень вас ищет. Он спрашивал о вас в столовой.
Тем вечером я как раз заходил в столовую, чтобы наскоро перекусить, и там мне тоже сообщили, что какой-то парень спрашивал, где меня найти. Мне сказала об этом юная женщина с английского отделения – чем-то похожая на Аманду, но все же не Аманда. (К моему облегчению, Аманда покинула академию.)
– Какого примерно возраста? – спросил я молодую преподавательницу. – Как он выглядел?
– Моего возраста или чуть постарше – симпатичный, – сказала она мне. Ей на вид было лет двадцать-двадцать пять.
– Сколько, по-твоему, ему лет? – спросил я моего юного Бенволио. – Как он выглядел?
– Под тридцать, вроде того, – ответил он. – Очень красивый – как по мне, очень привлекательный, – сказал он, улыбаясь. (Я подумал, что это отличный Бенволио в пару к моему Ромео с коровьими глазами.)
Мои актеры подтягивались к сцене – некоторые поодиночке, другие по двое и по трое. Если бы Манфред вернулся с матча пораньше, мы могли бы уже начать репетицию; большинству ребят надо было еще сделать уроки – им придется засидеться допоздна.
Вот пришли и монахи, брат Лоренцо и брат Джованни, и мой услужливый Аптекарь. А вот и две мои болтушки – леди Монтекки и леди Капулетти. И мой Меркуцио – всего дишь десятиклассник, но длинноногий и талантливый. Этот мальчик обладал всем необходимым обаянием и отвагой для роли славного, но обреченного Меркуцио.
В зал входили Маски, Стражники, Часовые, мальчик с барабаном (крохотный девятиклассник, который мог бы играть лилипута), несколько Слуг (включая пажа Тибальта), всевозможные Мужчины и Женщины, мой Парис, мой герцог Эскал и остальные. Последней явилась Кормилица, подгоняя пинками Пьетро и Бальтазара. Кормилица Джульетты была рослой девицей, игравшей в хоккей на траве, и одной из самых открытых лесбиянок в сообществе ЛГБТК. Что бы ни делали мужчины – включая геев и бисексуалов, – у моей Кормилицы их действия вызывали лишь недовольство. Я ее просто обожал. Случись со мной беда – битва едой в столовой или вооруженное нападение ученика, – я знал, что могу рассчитывать на помощь Кормилицы. Она питала к Джи уважение с оттенком зависти, но я знал, что они не подруги.
Но куда подевалась сама Джи? – забеспокоился я. Моя Джульетта обычно являлась на репетиции первой.
– Там какой-то парень вас ищет, мистер Эй, – на вид довольно мерзкий тип, и много о себе думает, – сказала мне Кормилица. – Кажется, он пытается подкатить к Джи, хотя, может, и просто с ней разговаривает. В общем, они идут сюда.
Но сначала я не заметил незнакомца; когда я увидел Джи, она была одна. Я обсуждал сцену смерти Меркуцио с моим длинноногим актером. Я согласился с ним, что в ней есть, как выразился мой талантливый десятиклассник, некоторый черный юмор, например, когда Меркуцио впервые описывает свою рану Ромео: «Да, она не так глубока, как колодезь, и не так широка, как церковные ворота. Но и этого хватит: она свое дело сделает. Приходи завтра, и ты найдешь меня спокойным человеком». Но я предупредил своего Меркуцио, что проклятие в адрес обоих семейств: «Чума на оба ваших дома!» – не должно быть ни капельки смешным.
– Простите, что опоздала, мистер Эй, меня немного задержали, – сказала Джи; она порозовела, даже, пожалуй, раскраснелась, но на улице было холодно. С ней никого не было.
– Говорят, какой-то парень к тебе привязался, – сказал я ей.
– Он не ко мне привязался, он от вас чего-то хочет, – сказала мне моя Джульетта.
– А было похоже, что он к тебе клеится, – сказала ей моя здоровенная Кормилица.
– Я никому не дам ко мне клеиться, пока не поступлю в колледж, – ответила ей Джи.
– Он сказал, чего хочет? – спросил я Джи; она помотала головой.
– Кажется, он по личному делу, мистер Эй, – он чем-то расстроен, – сказала она.
Мы все стояли на ярко освещенной сцене; мой помощник режиссера уже приглушил свет в зале. В нашем экспериментальном театре зрителей можно размещать так, как требует постановка, – стулья можно расставить как угодно. Иногда зал полностью окружает сцену, или ряды стульев располагаются с двух сторон от сцены, лицом друг к другу. Для «Ромео и Джульетты» мы расставили стулья в форме неглубокой подковы. С приглушенным освещением в зале я мог наблюдать за репетицией с любого места и при этом видеть свои записи и делать новые пометки.
Мой гомосексуальный Бенволио первым предупредил меня, пока все мы ждали, когда же Манфред (мой забияка Тибальт) вернется со своего матча.
– Мистер Эй, я его вижу, – прошептал мне на ухо Бенволио. – Тот парень, что искал вас, – вон он сидит в зале.
С приглушенным светом я не мог различить его лицо; он сидел в середине подковы, на четвертом или пятом ряду – как раз там, где свет со сцены его не доставал.
– Позвать охрану, мистер Эй? – спросила меня Джи.
– Нет-нет, я только узнаю, что ему нужно, – сказал я ей. – Если будет заметно, что разговор принимает неприятный оборот, просто подойди и прерви нас – притворись, что тебе надо что-нибудь у меня спросить насчет пьесы. Придумай что угодно, – сказал я.
– Хотите, я пойду с вами? – спросила моя храбрая Кормилица.
– Не стоит, – сказал я бесстрашной девчонке, которая так и рвалась в бой. – Просто сообщите мне, когда придет Манфред.
Мы были на той стадии репетиций, когда я предпочитал последовательно гонять актеров по репликам; я не хотел репетировать куски по отдельности или вразнобой. Мой Тибальт появляется в первой же сцене первого акта. («Входит Тибальт, доставая меч», как сказано в ремарке.) Единственная сцена, которую я согласен был репетировать без Манфреда, была в прологе, где выступает Хор.
– Слушайте, Хор, – сказал я. – Пройдите пару раз пролог. Обратите внимание, что самая важная строчка кончается не запятой, а точкой с запятой; учитывайте это. «Из чресл враждебных, под звездой злосчастной, / Любовников чета произошла;». Пожалуйста, сделайте паузу после точки с запятой.
– Мистер Эй, мы здесь, если мы вам понадобимся, – услышал я голос Джи, поднимаясь по тускло освещенному проходу к четвертому или пятому ряду стульев.
– Привет, Учитель, – сказал сидящий человек всего за мгновение до того, как я разглядел его. Он мог бы с тем же успехом сказать «Привет, Нимфа», – так знаком мне был этот голос, хотя прошло почти пятьдесят лет с того момента, как я слышал его в последний раз. Его красивое лицо, борцовское сложение, лукавая и уверенная усмешка – все это было мне знакомо.
Но ты же умер, подумал я, и единственным, что вызывало сомнение, были «естественные причины». Но этот Киттредж, конечно, не мог быть моим Киттреджем. Этому Киттреджу было чуть больше половины моих лет; если он родился в начале семидесятых, как я предполагал, ему было всего под сорок – тридцать семь или тридцать восемь, прикинул я, разглядывая единственного сына Киттреджа.
– Просто поразительно, как ты похож на отца, – сказал я молодому Киттреджу, протягивая ему руку; он отказался ее пожать. – Ну, то есть я хочу сказать, если бы я видел твоего отца в твоем возрасте – ты выглядишь так, как он, наверное, выглядел в свои сорок.
– Когда моему отцу было столько же, сколько мне сейчас, он выглядел совсем не так, как я, – сказал молодой человек. – Ему было уже за тридцать, когда я родился; к тому моменту, как я достаточно вырос, чтобы запомнить, как он выглядит, он уже выглядел как женщина. Он еще не сделал операцию, но смотрелся он очень убедительно. У меня не было отца. У меня было две матери – одна из них большую часть времени истерила, а у второй был член. После операции, как я понимаю, у него появилось какое-то подобие вагины. Он умер от СПИДа – странно, что вы не умерли. Я прочел все ваши романы, – прибавил молодой Киттредж, как будто каждое слово в моих книгах говорило, что я с легкостью мог умереть от СПИДа – или должен был.
– Мне жаль, – что еще я мог ему сказать; как и заметила Джи, он был расстроен. Как заметил я сам, он был еще и зол. Я попытался завести беседу. Я спросил его, чем занимался его отец и как Киттредж познакомился с Ирмгард, своей женой и матерью этого рассерженного молодого человека.
Они познакомились на лыжном курорте – кажется, в Давосе или, может быть, в Клостерсе. Жена Киттреджа была швейцаркой, но бабушка ее была немкой; отсюда имя Ирмгард. Киттредж и Ирмгард жили то в курортном городке, то в Цюрихе, где оба работали в Шаушпильхаусе. (Это довольно известный театр.) Я подумал, что Киттреджу, наверное, нравилось жить в Европе; конечно, он привык там жить, ведь его мать была оттуда. И, вероятно, операцию по перемене пола в Европе сделать проще – хотя, честно говоря, об этом я мало что знал.
Миссис Киттредж – его мать, не жена – покончила с собой после смерти Киттреджа. (Несомненно, она была его настоящей матерью.) «Таблетки», – только и сказал ее внук; ему явно не хотелось говорить со мной о чем-либо кроме того, как его отец стал женщиной. У меня возникло ощущение, что, по мнению юного Киттреджа, я как-то связан с этим позорным (с его точки зрения) поступком.
– Он хорошо говорил по-немецки? – спросил я сына Киттреджа, но это не интересовало раздраженного молодого человека.
– Вполне сносно, но не настолько хорошо, как ему удавалось быть женщиной. Он не старался улучшить свой немецкий, – сказал мне сын Киттреджа. – Единственное, над чем мой отец работал в поте лица, – это над превращением в женщину.
– А-а.
– Перед смертью он сказал мне, что здесь что-то произошло – в то время, когда вы учились вместе, – сказал мне сын Киттреджа. – Что-то началось здесь. Он восхищался вами, считал вас храбрецом. Вы сделали что-то «вдохновляющее», по крайней мере, как он мне сказал. И еще была какая-то транссексуалка – старше вас, кажется. Возможно, вы оба были с ней знакомы. Может, мой отец и ей тоже восхищался – может, это она его вдохновила.
– Я видел фотографию твоего отца в детстве – до того, как он приехал сюда, – сказал я юному Киттреджу. – Он был одет и накрашен, как очень хорошенькая девочка. Я думаю, что-то началось, как ты говоришь, еще до того, как он встретил меня и так далее. Могу показать тебе эту фотографию, если…
– Да видел я эти фотографии – зачем мне еще одна! – сердито сказал сын Киттреджа. – А что там с транссексуалкой? Как вы с ней вдохновили моего отца?
– Странно слышать, что он мной «восхищался», не могу представить, чтобы я сделал что-нибудь «вдохновляющее», с его точки зрения. Я никогда не думал, что хотя бы нравлюсь ему. Вообще-то твой отец всегда был довольно жесток ко мне, – сказал я сыну Киттреджа.
– Так что там с транссексуалкой? – снова спросил он.
– Я был с ней знаком, а твоей отец видел ее всего однажды. Я был влюблен в эту транссексуалку. Все, что связано с ней, происходило со мной! – воскликнул я. – Я не знаю, что случилось с твоим отцом!
– Что-то тут произошло – вот и все, что я знаю, – горько сказал сын Киттреджа. – Мой отец читал все ваши книги, как одержимый. Что он искал в ваших романах? Я прочел их – там нет ничего о моем отце, хотя я мог и не узнать его в вашем описании.
Я подумал о своем отце и сказал так мягко, как мог:
– Мы уже те, кто мы есть, правда? Я не могу сделать твоего отца понятным тебе, но ты ведь можешь отыскать в себе сочувствие к нему, верно?
(Никогда не думал, что буду просить кого-то проявить сочувствие к Киттреджу.)
Когда-то я считал, что если Киттредж гей, то он наверняка актив. Теперь я уже не был так уверен. Когда Киттредж встретился с мисс Фрост, я увидел, как буквально за десять секунд он сменил доминирующую роль на подчиненную.
И тут на следующем ряду, позади нас, появилась Джи. Разумеется, мои актеры услыхали, что разговор идет на повышенных тонах; вероятно, они беспокоились за меня. Несомненно, они слышали, как злится молодой Киттредж. Я же был в нем разочарован: я видел в нем лишь незрелую копию его отца.
– Привет, Джи, – сказал я. – Манфред пришел? Мы готовы?
– Нет, нашего Тибальта все еще нет, – сказала мне Джи. – Но у меня есть вопрос. Про самую первую фразу, которую я произношу в пятой сцене первого акта, когда Кормилица сообщает мне, что Ромео из семьи Монтекки. Ну, когда я понимаю, что влюблена в сына врага – вот эти строчки.
– Что там с ними? – спросил я; она тянула время, и я это видел. Мы оба ждали, когда же появится Манфред. Где же мой необузданный Тибальт, когда он так нужен?
– По-моему, я не должна звучать так, будто жалею себя, – продолжила Джи. – Мне Джульетта не кажется нытиком.
– Нет, она не нытик, – ответил я. – Джульетта может порой звучать как фаталистка, но жалеть себя она не должна.
– Ладно, давайте я попробую, – сказала Джи. – Кажется, я поняла: мне надо просто сказать это как есть, не жалуясь.
– Это моя Джульетта, – сказал я молодому Киттреджу. – Джи – лучшая из моих девчонок. Хорошо, – сказал я ей. – Давай послушаем.
– «Одна лишь в сердце ненависть была – и жизнь любви единственной дала. Не зная, слишком рано увидала. И слишком поздно я, увы, узнала!» – произнесла моя Джульетта.
– Лучше и не скажешь, Джи, – сказал я ей, но молодой Киттредж просто таращился на нее; я не мог понять, восхищается он ей или что-то подозревает.
– Что за имя такое – Джи? – спросил ее сын Киттреджа. Я видел, что уверенность моей лучшей девочки немного пошатнулась; перед ней был красивый, опытный на вид мужчина – не из академии Фейворит-Ривер, где Джи завоевала наше уважение и развила уверенность в себе как в женщине. Я видел, что Джи сомневается в себе. Я знал, о чем она думает, стоя рядом с молодым Киттреджем, под его испытующим взглядом. «Выгляжу ли я достоверно?» – гадала Джи.
– Джи – просто выдуманное имя, – сказала она ему уклончиво.
– Как твое настоящее имя? – спросил ее сын Киттреджа.
– Я была Джорджем Монтгомери при рождении. Скоро я стану Джорджией Монтгомери, – сказала ему Джи. – Сейчас я просто Джи. Я мальчик, который становится девочкой, – я меняюсь, – сказала моя Джульетта молодому Киттреджу.
– Лучше и не скажешь, Джи, – снова сказал я ей. – По-моему, ты все отлично объяснила.
Довольно было одного взгляда на сына Киттреджа, чтобы увидеть: он понятия не имел, что Джи в процессе смены пола; он не знал, что она храбрый трансгендер на пути превращения в женщину. Довольно было одного взгляда на Джи, чтобы понять: она знает, что она достоверна; думаю, это и придало моей Джульетте уверенности, звучавшей в ее голосе. Теперь я понимаю, что, если бы в тот момент сын Киттреджа позволил себе какую-нибудь дерзость, я бы вышиб из него дух.
В этот момент явился Манфред. «Борец пришел!» – крикнул кто-то – вероятно, мой Меркуцио или мой Бенволио.
– Тибальт объявился! – крикнула нам с Джи моя здоровенная Кормилица.
– Ну наконец-то, – сказал я. – Мы готовы.
Джи уже неслась к сцене – так, как будто от начала этой задержавшейся репетиции зависела ее судьба в следующей жизни.
– Удачи, ни пуха ни пера! – крикнул ей вслед молодой Киттредж. Как и у его отца, тон его голоса невозможно было разобрать. Было ли это напутствие искренним пожеланием или сарказмом?
Я видел, как моя решительная Кормилица отвела Манфреда в сторонку. Несомненно, она вводила моего вспыльчивого Тибальта в курс дела – она хотела, чтобы борец знал о возможной проблеме, о том, что в зале сидит какой-то тип, как она назвала молодого Киттреджа. Я уже провожал сына Киттреджа к проходу между сиденьями, просто сопровождая его к ближайшему выходу, когда в проходе возник Манфред – готовый к бою, как и его персонаж.
Когда Манфред хотел поговорить со мной лично, он всегда переходил на немецкий; он знал, что я жил в Вене и все еще немного говорю по-немецки, хоть и плохо. Манфред вежливо спросил – по-немецки – не может ли он чем-нибудь помочь.
Ебаные борцы! Я заметил, что у моего Тибальта не хватает половины усов; врач был вынужден сбрить ему усы с одной стороны, чтобы наложить швы! (Манфреду придется сбрить и вторую половину перед премьерой; не знаю как вы, а я еще не видел Тибальта с половиной усов.)








