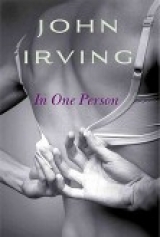
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Старый тренер провел на мне примерно двадцать нырков; он проделал их довольно быстро, но к концу моя шея просто вопила о пощаде.
– Ладно, теперь твоя очередь. Посмотрим, как у тебя получится, – сказал мне Херм Хойт.
– Двадцать раз? – спросил я. (Он видел, что у меня текут слезы.)
– Начнем считать, как только перестанешь плакать, Билли. Думаю, первые раз сорок ты еще будешь плакать – а вот потом откроем счет, – сказал тренер Хойт.
Мы пробыли в старом спортзале еще часа два – а может, и все три. Я перестал считать нырки, но у меня появилось чувство, что я могу провести нырок во сне или пьяным, что было особенно забавно, если учесть, что я еще ни разу не напивался. (Все когда-то бывает впервые, и мне предстояло сделать впервые еще многое.)
В какой-то момент я сдуру сказал старому тренеру:
– Кажется, я уже могу провести нырок с завязанными глазами.
– Да что ты говоришь, Билли? – спросил меня Херм. – Стой на месте – не сходи с мата.
Он куда-то ушел; я слышал его шаги в переходе, но не видел его. Затем свет погас, и зал погрузился во тьму.
– Спокойно – просто стой где стоишь! – крикнул мне тренер. – Я сам тебя найду, Билли.
Вскоре я ощутил его присутствие; сильная рука взяла меня в захват, и мы сцепились во тьме.
– Если ты меня чувствуешь, видеть тебе уже не надо, – сказал Херм. – Если ты держишь меня за шею, то примерно понимаешь, где мои руки и ноги, так?
– Да, сэр, – ответил я.
– Лучше проводи свой нырок, пока я сам его не провел, Билли, – сказал мне Херм. Но я замешкался. Тренер Хойт успел раньше и как следует приложил меня головой.
– Ну что, теперь твоя очередь, Билли, – только не заставляй меня ждать всю ночь, – сказал старый тренер.
– Вы знаете, куда она едет? – спросил я его потом. В зале стояла кромешная тьма, и мы оба распростерлись на мате, отдыхая.
– Ал велел не говорить тебе, Билли, – сказал Херм.
– Понимаю, – сказал я.
– Я с самого начала знал, что Ал хочет быть девочкой, – послышался из темноты его голос. – Просто не догадывался, что он и впрямь на это решится.
– Мужества ему не занимать, – сказал я.
– Ей – ей мужества не занимать, Билли! – поправил меня Хойт с безумным смехом.
Над деревянной беговой дорожкой, огибающей зал, имелось несколько окон; теперь они начали тускло светиться; занимался рассвет.
– Слушай сюда, Билли, – сказал старый тренер. – У тебя есть один прием. Довольно неплохой нырок со сбросом, но это всего лишь один прием. Ты можешь уложить нападающего – может, даже сделать ему немножко больно. Но любой крепкий парень встанет и снова нападет на тебя. Один прием еще не делает из тебя борца, Билли.
– Понятно, – сказал я.
– Проводишь нырок – и сваливаешь оттуда к чертям собачьим – где бы ты ни находился, Билли. Ясно? – спросил меня тренер Хойт.
– Только один прием – провожу его и бегу. Правильно? – спросил я.
– Проводишь и бежишь – бегать-то ты умеешь, правда? – сказал тренер.
– Что с ней будет? – неожиданно спросил я.
– Этого я не могу тебе сказать, – со вздохом ответил Херм.
– У нее-то не один прием в запасе, правда? – спросил я.
– Да, но Ал не молодеет, – сказал тренер Хойт. – Пора тебе домой, Билли, – уже достаточно рассвело.
Я поблагодарил его и побрел домой по совершенно пустому кампусу академии Фейворит-Ривер. Мне хотелось увидеть Элейн, и обнимать ее, и целовать, но я сомневался, что нас ждет общая судьба. Впереди меня ожидало целое лето исследований пресловутого всего с Томом Аткинсом, но мне нравились мальчики и девочки; я знал, что Аткинс не сможет дать мне все.
Был ли я таким романтиком, чтобы вообразить, будто мисс Фрост знала об этом? Верил ли я, будто она первой поняла, что один-единственный человек никогда не сможет дать мне все?
Да, наверное, так оно и было. В конце концов, я был всего лишь девятнадцатилетним бисексуальным юнцом, неплохо овладевшим нырком со сбросом. Это был всего лишь один прием, и борцом я не стал, но у хороших учителей можно научиться многому.
Глава 11. España
«Подожди, Уильям, – сказала мне мисс Фрост. – Время читать „Госпожу Бовари“ наступает, когда твои романтические надежды и стремления рушатся, и тебе кажется, что все твои отношения в будущем принесут только разочарование – и даже опустошение».
«Тогда я подожду такого случая», – сказал я ей.
Удивительно ли, что именно этот роман я взял с собой в Европу летом 1961 года, когда отправился путешествовать с Томом Аткинсом?
Я только начал читать «Госпожу Бовари», когда Аткинс спросил меня: «Кто она, Билл?». По его тону и жалобному виду, с которым Том закусил нижнюю губу, я сообразил, что он ревнует меня к Эмме Бовари. Я еще даже не успел с ней познакомиться! (Пока что я читал о недотепе Шарле.)
Я даже прочел Аткинсу отрывок, в котором отец Шарля учит мальчика «пить большими глотками ром и глумиться над религиозными процессиями»[10]. (Многообещающее воспитание, заключил я – и как же я ошибался!) Но прочитав бедному Тому следующую характеристику Шарля: «смелое влечение бунтовало в нем против его раболепствования», – я не мог не заметить, какую боль ему причинили эти слова. Не в последний раз я недооценил комплекс неполноценности Аткинса. После этого мне больше не дозволялось читать «Госпожу Бовари» про себя; Том разрешил мне продолжать чтение только при условии, что я буду читать ему вслух.
Безусловно, далеко не каждый читатель «Госпожи Бовари» выносит из романа недоверие к моногамии (граничащее с ненавистью), но мое презрение к моногамии зародилось именно тем летом шестьдесят первого года. Справедливости ради нужно сказать, что отвратительной мне представлялась именно та малодушная жажда моногамии, которую проявил бедный Том.
Какой кошмарный способ читать такой превосходный роман – декламировать его вслух Тому Аткинсу, который уже опасался измен, когда первое сексуальное приключение в его юной жизни только начиналось! Отвращение, которое Аткинс чувствовал к неверности Эммы, было сродни его рвотному рефлексу на слово «вагина»; однако бедного Тома воротило от Эммы еще задолго до начала ее измен – описание ее «атласных туфелек, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета», вызвало у него гадливость.
– Кого волнуют ноги этой мерзкой женщины! – возопил Аткинс.
Конечно, Флобер тем самым хотел показать нам сердце Эммы – «от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое».
– Как воск остался на ее туфельках – разве не понятно? – спросил я бедного Тома.
– Меня тошнит от Эммы, – ответил Том. А меня вскоре начало тошнить от уверенности Тома, что секс со мной может служить единственным средством от «мучений», причиняемых ему чтением «Госпожи Бовари».
– Тогда разреши мне читать про себя! – умолял я его. Но в таком случае получилось бы, что я пренебрегаю им – хуже того, что я предпочитаю компанию Эммы его обществу!
Так что я продолжал читать Аткинсу вслух: «она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти», – пока тот корчился, словно под пыткой.
Когда я прочел отрывок, в котором Эмма приходит в восторг от того, что впервые завела любовника, и радуется «точно вновь наступившей зрелости», мне показалось, что Аткинса вырвет прямо в постель. (Думаю, Флобер оценил бы иронию – мы с Томом как раз находились во Франции, и в нашей комнате в пансионе не было унитаза – только биде.)
Пока Аткинс блевал в биде, я размышлял, как неверность, которой так боялся бедный Том, – моя неверность – желанна для меня. Теперь-то мне понятно, почему с подачи Флобера я занес моногамию в список неприятностей, которые ассоциировались у меня с гетеросексуальными отношениями, но, вообще говоря, винить следовало скорее Тома Аткинса. Мы путешествовали по Европе, пробовали все, от чего защищала меня мисс Фрост, – но Аткинс уже терзался, что когда-нибудь я его брошу (возможно, но не обязательно, ради кого-то другого).
Пока Аткинса выворачивало в биде, я продолжал громко читать про Эмму Бовари: «Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, завораживающими голосами». (Чудесно, не правда ли?)
Ну ладно, признаю, это было жестоко с моей стороны – я специально повысил голос на словах «неверных жен», но Аткинса громко тошнило, в биде шумела вода, и я хотел убедиться, что он услышит меня.
Мы с Томом были в Италии, когда Эмма отравилась и умерла. (Примерно тогда же я засмотрелся на ту проститутку с едва заметными усиками, и бедный Том перехватил мой взгляд.)
– «Эмму стало рвать кровью», – громко читал я. К тому моменту, как мне казалось, я разобрался, что именно не нравится Аткинсу – хотя привлекает меня, – но я не догадывался, с какой страстью Том Аткинс умеет ненавидеть. Конец приближался, и Эмму Бовари рвало кровью, но Аткинс ликовал.
– Позволь уточнить, правильно ли я тебя понял, Том, – сказал я, остановившись перед тем моментом, где Эмма начинает кричать. – Судя по твоему восторгу, Эмма получила то, чего заслуживала, – ты это хочешь сказать?
– Ну, Билл, – конечно, она это заслужила. Ты видел, что она сделала! Ты же видел, как она себя вела! – вскричал Аткинс.
– Она вышла замуж за самого унылого мужчину во Франции, но раз она трахается на стороне, то заслуживает смерти в мучениях – таково твое мнение, да? – спросил его я. – Том, Эмме Бовари скучно. Может, ей надо было тосковать и дальше – и таким образом заслужить право мирно умереть во сне?
– Тебе скучно, да, Билл? Тебе скучно со мной, так ведь? – жалобно спросил Аткинс.
– Не все вертится вокруг нас, Том, – сказал я ему.
Потом я пожалел об этом разговоре. Годы спустя, когда Том Аткинс умирал – в то время, когда столько праведников были убеждены, что бедный Том и ему подобные заслуживают смерти, – я пожалел, что когда-то пристыдил его.
Том Аткинс был хорошим человеком; он просто был тревожным и липучим любовником. Он был из тех мальчиков, которые вечно ощущают себя недолюбленными, и на нашу летнюю связь он взвалил свои несбыточные ожидания. Аткинс был собственником и манипулятором, но только потому, что хотел сделать меня любовью всей своей жизни. Я думаю, бедный Том боялся навсегда остаться недолюбленным; он воображал, что любовь всей жизни можно найти и удержать всего лишь за одно лето – как будто это был его последний шанс обрести ее.
Мои же представления о поиске любви всей жизни были полностью противоположными; тем летом шестьдесят первого года я никуда не спешил – для меня все только начиналось!
Спустя несколько страниц я дошел до непосредственной сцены смерти Эммы – ее последней судороги после того, как она слышит стук палки слепца и его хриплую песню. Эмма умирает, представляя себе «безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею в вечном мраке».
Аткинса трясло от ужаса и чувства вины.
– Такого я никому бы не пожелал, Билл! – воскликнул бедный Том. – Я не хотел – я не хотел сказать, что она заслуживает такого, Билл!
Помню, как обнимал его, пока он рыдал. «Госпожа Бовари» – не история о призраках, но Тома Аткинса она привела в ужас. Он был очень светлокожим, с веснушками на груди и спине, и когда он расстраивался и плакал, его лицо горело розовым, словно после пощечины, а веснушки точно воспламенялись.
Когда я продолжил читать – теперь ту часть, где Шарль находит письмо Родольфа к Эмме (этот балбес сказал себе, что его неверная жена и Родольф, должно быть, любили друг друга «платонически»), – Аткинс скривился, словно от боли. «Шарль был не охотник добираться до сути», – прочел я, и бедный Том застонал.
– Ох, Билл, – нет-нет-нет! Пожалуйста, скажи мне, что я не такой, как Шарль! Я люблю добираться до сути! – просил Аткинс. – Ох, Билл, честное-пречестное слово! – и он снова расплакался – как расплачется, умирая, когда действительно доберется до сути вещей. (Никто из нас не предвидел, что она окажется такой.)
– Как думаешь, Билл, вечный мрак существует? – спросил меня однажды Аткинс. – Там ждет жуткое лицо?
– Нет, Том, нет, – попытался убедить его я. – Там либо просто мрак – без чудовищ, вообще безо всего – либо свет, самый прекрасный в мире, и множество чудесных вещей.
– Так или иначе, никаких чудовищ – верно, Билл? – спросил меня бедный Том.
– Совершенно верно, Том, – в любом случае никаких чудовищ.
Мы все еще были в Италии, когда я дошел до конца романа; к тому моменту Аткинс настолько раскис от жалости к себе, что я заперся в туалете и дочитал книгу в одиночку. Когда настало время читать вслух, я пропустил абзац о вскрытии Шарля – тот жуткий отрывок, где его вскрывают и не находят ничего. Я не хотел иметь дело с реакцией бедного Тома на это ничего. («Билл, как там могло ничего не оказаться?» – предвидел я вопрос Аткинса.)
Может, дело было в пропущенном абзаце, но Том Аткинс был разочарован финалом «Госпожи Бовари».
– Как-то не очень удовлетворительно, – пожаловался Аткинс.
– Как насчет минета, Том? – спросил я его. – Давай я покажу тебе удовлетворение.
– Я серьезно, Билл, – раздраженно ответил Аткинс.
– И я тоже, Том, и я тоже, – сказал я.
После этого лета никто из нас не был особенно удивлен, когда наши дороги разошлись. Какое-то время легче было поддерживать редкую, но сердечную переписку, чем видеться друг с другом. Пару лет, пока мы оба учились в колледже, я вовсе не получал вестей от Аткинса. Я думал, что он, вероятно, пытается встречаться с девушками, но потом кто-то сообщил мне, что Том подсел на наркотики, а следом произошло публичное и отвратительное разоблачение его гомосексуальности. (В Амхерсте, штат Массачусетс!) В начале шестидесятых слово гомосексуал носило мерзкий клинический оттенок; конечно, тогда у гомосексуалов не было никаких «прав» – мы не считались даже «меньшинством». В шестьдесят восьмом году я все еще жил в Нью-Йорке, и даже там не было ничего похожего на «сообщество» геев в полном смысле слова (оставалось только искать партнеров на улицах.)
Думаю, в результате частых встреч в приемной врача тоже могло бы образоваться некое сообщество; я шучу, но в целом у меня сложилось впечатление, что триппер в наших кругах более чем распространен. Врач-гомосексуал (который лечил меня от гонореи) сообщил мне, что бисексуальным мужчинам следует пользоваться презервативами.
Я не помню, сказал ли он почему и спросил ли я его; вероятно, я воспринял его не слишком дружелюбный совет как еще одно свидетельство предрассудков, окружающих бисексуалов, или, может, он показался мне чем-то вроде гомосексуальной версии доктора Харлоу. (К шестьдесят восьмому году я был знаком со множеством геев; их врачи ничего не говорили им о презервативах.)
Я запомнил этот случай только потому, что как раз в то время готовился к изданию мой первый роман и я только что встретил женщину, которая интересовала меня в том самом смысле; разумеется, я постоянно встречался и с геями. И я начал пользоваться презервативами – не только из-за врача (явно имевшего предрассудки насчет бисексуалов); это Эсмеральда приучила меня к ним, а я скучал по Эсмеральде – правда скучал.
Так или иначе, к тому времени, когда я снова получил весточку от Тома Аткинса, я уже привык к презервативам, а бедный Том обзавелся женой и детьми. И как будто это не было достаточным потрясением само по себе, наша переписка вдобавок деградировала до рождественских открыток! Так я и узнал, по фотографии на открытке, что у Тома Аткинса есть семья – сын и дочь. (Ни к чему говорить, что на свадьбу меня не приглашали.)
Зимой 1969-го я стал публикующимся романистом. Женщина, которую я встретил в Нью-Йорке примерно в то же время, когда меня убедили пользоваться презервативами, переманила меня в Лос-Анджелес; ее звали Элис, и она работала сценаристом. Элис сообщила мне, что не собирается «адаптировать» мой первый роман, и это несколько успокоило меня.
– Я не собираюсь идти этим путем, – сказала Элис. – Наши отношения для меня не просто работа.
Я передал Ларри слова Элис, думая, что это заставит его изменить свое мнение насчет нее. (Ларри встречался с Элис лишь однажды; она ему не понравилась.)
– Может, тебе стоит поразмыслить, что она имеет в виду, Билл, – сказал Ларри. – Что, если она уже разослала твой роман по киностудиям, и он никого не заинтересовал?
Ну что ж, мой старый приятель Ларри первым сообщил мне, что никто не будет снимать фильм по моему первому роману; он также заявил, что жизнь в Эл-Эй мне опостылеет, хотя, наверное, на самом деле он подразумевал (с долей надежды), что мне опостылеет жизнь с Элис. «Билл, это тебе не дублерша сопрано», – сказал мне Ларри.
Но мне нравилось жить с Элис – она была первой моей сожительницей, знавшей, что я бисексуал. Она сказала, что это не важно. (Она и сама была бисексуалкой.)
Элис была и первой женщиной, с которой я заговорил о том, чтобы завести ребенка – но, как и я, она не была сторонницей моногамии. Мы отправились в Лос-Анджелес с богемной верой в вечное торжество дружбы; мы с Элис были друзьями и оба считали идею «пары» ровесницей динозавров. Мы дали друг другу разрешение заводить любовников, хотя и установили ограничения – а именно, Элис устраивало, что я встречаюсь с мужчинами, но только не с женщинами, а я согласился, чтобы она встречалась с женщинами, но не с другими мужчинами.
– Ой-ёй, – сказала Элейн. – Сомневаюсь, что такие договоренности работают.
В то время Элейн едва ли могла служить для меня авторитетом в отношении «договоренностей»; кроме того, я помнил, что даже в шестьдесят девятом году Элейн время от времени выказывала интерес к тому, чтобы самой поселиться со мной вместе. Но она была тверда в своем решении никогда не заводить детей; ее мнение относительно размеров младенческих голов не изменилось.
Вдобавок мы с Элис наивнейшим образом верили в вечное торжество искусства. Естественно, мы не рассматривали друг друга как соперников; она была сценаристом, а я – романистом. Что могло пойти не так? (Ой-ёй, как сказала бы Элейн.)
Я уже позабыл, что мой первый разговор с Элис был о призыве в армию. На медосмотре – не помню точно, когда я его проходил, и вообще не помню подробностей, поскольку в тот день я мучился жутким похмельем, – я отметил галочкой пункт, где было что-то о «гомосексуальных склонностях»; я смутно помню, что прошептал эти слова про себя с австрийским акцентом, будто герр доктор Грау ожил и заговорил со мной.
Военный психиатр оказался дотошным лейтенантом; вот его я запомнил. Он оставил открытой дверь своего кабинета, когда расспрашивал меня – чтобы рекруты, ждущие своей очереди, могли нас слышать, – но мне приходилось встречаться и с куда более изощренными тактиками устрашения. (Вспомните хотя бы Киттреджа.)
– И что потом? – спросила Элис, когда я рассказывал ей эту историю. Элис была прекрасным слушателем; я всегда чувствовал, что ей не терпится узнать, что там дальше. Но неточности в моем рассказе раздражали ее.
– Тебе не нравятся девушки? – спросил меня лейтенант.
– Нравятся – еще как нравятся, – сказал я ему.
– Тогда в чем именно заключаются твои «гомосексуальные склонности»? – спросил психиатр.
– Парни мне тоже нравятся, – сказал я ему.
– Да? – спросил он. – Парни тебе нравятся больше, чем девушки? – громко уточнил психиатр.
– Ой, не так-то просто выбрать, – сказал я с придыханием. – Мне правда очень нравятся и те, и другие!
– Ага, – сказал лейтенант. – И как ты думаешь, это устойчивая склонность?
– Ну я уж надеюсь! – сказал я со всем энтузиазмом, на который был способен. (Элис обожала эту историю; по крайней мере, по ее словам. Она считала, что в кино из нее получилась бы смешная сцена.)
– Слово «смешной» должно было тебя насторожить, Билл, – скажет мне Ларри много позже, когда я вернусь в Нью-Йорк. – Или слово «кино».
Что действительно должно было меня насторожить – так это пометки, которые делала Элис, когда мы беседовали.
– Кто вообще делает записи во время разговора? – спросил меня Ларри, не ожидая ответа; еще он спросил: «И кому из вас нравится, что она не бреет подмышки?».
Примерно недели через две после того, как я поставил галочку напротив «гомосексуальных склонностей», или как там говорилось в этой дурацкой анкете, я получил письмо из призывной комиссии. Кажется, мне присвоили статус 4-F; меня признали «не годным к военной службе»; в письме было что-то насчет «установленных физических, умственных или моральных стандартов».
– Но что именно там было сказано – и какую точно категорию тебе присвоили? – спросила меня Элис. – Не можешь же ты просто предполагать, что там стояло 4-F?
– Я не помню – и мне все равно, – сказал я ей.
– Но это же все так расплывчато! – сказала Элис.
Конечно, слово «расплывчато» тоже должно было меня насторожить.
Потом пришло еще одно письмо, кажется, тоже от призывной комиссии, но, может, и нет – в котором мне предписывалось посетить мозгоправа – причем не любого, а указанного в письме.
Я переслал письмо дедушке Гарри; у них с Нильсом был знакомый юрист, помогавший им в делах с лесопилкой. Юрист сообщил, что принудительно направить меня к психиатру они не могут; я не пошел, и больше я от призывной комиссии ничего не слышал. Проблема была в том, что я упомянул об этом – хоть и мимоходом – в своем первом романе. Я не понимал, что это мой роман интересует Элис; я думал, ей просто интересна любая мелочь, связанная со мной.
«Большинство мест, оставшихся в нашем детстве, утрачивают свое волшебство», – написал я в том романе. (Элис сказала мне, что ей страшно нравится эта строчка.) Рассказчик – открытый гей, влюбленный в главного героя, который не решается поставить в анкете галочку напротив «гомосексуальных склонностей». Главный герой, так и не признавшийся в своей гомосексуальности, погибает во Вьетнаме. Можно сказать, что это история о том, как невыход «из чулана» может стать причиной гибели.
Однажды я обратил внимание, что Элис какая-то взвинченная. Она работала над несколькими проектами одновременно – я никогда не знал, какой сценарий она пишет сегодня. Сначала я решил, что дело в одном из сценариев, но Элис призналась, что один ее знакомый, управляющий киностудии, «всю плешь ей проел» насчет меня и моего первого романа.
Я помнил, что Элис постоянно насмехалась над этим своим знакомым. Она звала его «мистер Шарпи»[11] или, в последнее время, «мистер Пастель». Я сделал вывод, что этот парень одевается стильно, однако носит только светлые цвета, вроде одежды для гольфа. (Вы понимаете, о чем я: лаймово-зеленые брюки, розовые рубашки-поло – все эти пастельные тона.)
Элис сказала мне, что мистер Пастель спрашивал, не буду ли я «ставить палки в колеса», если по моему роману вдруг решат снимать фильм. Мистер Шарпи, видимо, знал, что она живет со мной; он спросил ее, «сговорчив» ли я – на тот случай, если потребуется внести изменения в мою историю.
– Я думаю, он говорил о стандартных изменениях, которые всегда вносят, когда роман переделывают в сценарий, – туманно сказала Элис. – Просто у него множество вопросов.
– Например? – спросил ее я.
«Где тут про долг перед страной?» – спросил Элис управляющий в пастельном костюме. Меня этот вопрос поставил в тупик; я-то думал, что написал антивоенный роман.
Но, с точки зрения управляющего студией, мой главный герой отказывается ставить галочку напротив «гомосексуальных склонностей» из чувства долга перед страной – а не потому, что готов скорее погибнуть в несправедливой войне, чем объявить, что он гей!
По мнению управляющего, «наш голос за кадром» (то есть мой рассказчик) признается в своих гомосексуальных склонностях, потому что он трус; управляющий даже сказал: «Надо создать впечатление, что он притворяется». Так мистер Шарпи переиначил мою идею – я-то имел в виду, что мой рассказчик храбрец, потому что открыто заявляет о своей гомосексуальности!
– Да кто он вообще такой? – спросил я Элис. Никто не предлагал мне приобрести права на мой роман; они все еще принадлежали мне.
– Такое впечатление, что кто-то уже пишет сценарий, – сказал я.
Элис стояла ко мне спиной.
– Нет никакого сценария, – пробормотала она. – У него просто куча вопросов насчет того, как иметь с тобой дело.
– Я его не знаю, – сказал я ей. – Каково с ним иметь дело, Элис?
– Билл, я старалась избавить тебя от встречи с ним, – вот и все, что ответила мне Элис. Мы жили в Санта-Монике; машину всегда водила Элис: она и тут старалась избавить меня от хлопот. Я просто сидел в нашей квартире и писал. Можно было дойти до Оушен-авеню и поглазеть на бездомных – а еще можно было бегать по пляжу.
Что там говорил Херм Хойт о нырке со сбросом? «Проводишь и бежишь – бегать-то ты умеешь, правда?» – сказал мне старый тренер.
Я начал бегать в Санта-Монике, в шестьдесят девятом году. Мне было почти двадцать семь; я уже писал свой второй роман. Прошло восемь лет с тех пор, как мисс Фрост и Херм Хойт показали мне, как делается нырок; вероятно, он у меня слегка заржавел. Неожиданно мне пришло в голову, что бег – не такая уж плохая идея.
Элис отвезла меня на встречу в Беверли-Хиллз. В стеклянном здании, залитом слепящим солнечным светом, вокруг стола в форме яйца собралось четверо или пятеро управляющих, но говорил только мистер Шарпи.
– Это Уильям Эбботт, романист, – сказал мистер Шарпи, представляя меня; может, дело в моей излишней застенчивости, но мне показалось, что при слове романист все присутствующие насторожились. К моему удивлению, мистер Шарпи оказался неряхой. Прозвище относилось не к его манере одеваться, а к названию водостойкого маркера, который он вертел в руках. Терпеть не могу эти несмываемые маркеры. Ими невозможно нормально писать – они просачиваются сквозь страницу, и все расплывается. Они хороши только для коротких замечаний на широких полях сценариев – например, полезных пометок «Полное дерьмо!» или «Вот это все – на хер!».
Что касается прозвища «мистер Пастель» – я так и не понял, откуда оно взялось. Я увидел перед собой небритого, неопрятного мужчину, полностью одетого в черное. Он принадлежал к тем менеджерам, которые пытаются походить на людей искусства; на нем был черный костюм для спортивной ходьбы, на котором виднелись пятна от пота, черная футболка и черные кроссовки. Мистер Пастель выглядел очень подтянутым; я как раз недавно начал бегать и сразу понял, что он бегает побольше меня. Он не играл в гольф – для него это было недостаточно активное времяпрепровождение.
– Вероятно, мистер Эбботт хочет высказать нам свои соображения, – сказал мистер Шарпи, вертя в пальцах свой маркер.
– Я скажу вам, когда буду готов серьезно рассматривать идею долга перед страной, – начал я. – Когда местные законы, законы штатов и федеральные законы, по которым гомосексуальный акт между взрослыми людьми по взаимному согласию считается преступлением, будут упразднены; когда ветхие постановления в отношении гомосексуализма будут пересмотрены; когда психиатры перестанут считать меня и моих друзей ненормальными, неполноценными с точки зрения медицины уродами, нуждающимися в «реабилитации»; когда СМИ перестанут называть нас педиками, гомиками, хлюпиками, совратителями детей и извращенцами! Мне самому хотелось бы когда-нибудь завести детей, – сказал я, сделав паузу, чтобы взглянуть на Элис, но она сидела потупившись, подняв руку ко лбу и прикрыв глаза. На ней были джинсы и голубая мужская рубашка с закатанными рукавами – ее обычная одежда. Волоски на ее руках вспыхивали в лучах солнца.
– Короче говоря, – продолжил я, – я буду готов всерьез рассмотреть идею долга перед страной, когда моя страна продемонстрирует, что ей хоть самую малость не насрать на меня!
(Я отрепетировал эту речь, бегая вдоль пляжа – от пирса Санта-Моники до того места, где бульвар Чаутоква упирается в Пасифик-Кост-хайвей, и обратно – но я не ожидал, что волосатая мать моих будущих детей и управляющий студией, полагавший, что мой рассказчик должен притворяться гомосексуалом, окажутся в сговоре.)
– Знаете, что мне больше всего нравится? – снова заговорил мистер Шарпи. – Мне нравится та закадровая реплика насчет детства. Как там она звучит, Элис? – спросил ее этот трусливый засранец. Тогда-то я и понял, что они трахаются друг с другом; я понял это по тому, как он обратился к ней. И если «закадровая реплика» уже существовала, значит, кто-то все-таки писал сценарий.
Элис поняла, что ее раскусили. Все еще прикрывая рукой глаза, она покорно произнесла:
– «Большинство мест, оставшихся в нашем детстве, утрачивают свое волшебство».
– Да, именно! – вскричал управляющий студией. – Просто восторг! Я думаю, наш фильм должен начинаться и заканчиваться этой фразой! Она стоит того, чтобы повторить ее, правда? – спросил он меня, но ответа дожидаться не стал. – Именно такое настроение нам и нужно, правда, Элис? – спросил он.
– Ты знаешь, как мне нравится эта фраза, Билл, – сказала Элис, все еще прикрывая глаза. Возможно, белье у него светлых тонов, подумал я, – или, может, простыни.
Я не мог просто встать и уйти. Я не знал, как добраться из Беверли-Хиллз обратно в Санта-Монику; водителем в нашей несостоявшейся семье была Элис.
– Дорогой мой Билл, взгляни на это с другой стороны, – сказал мне Ларри, когда я вернулся обратно в Нью-Йорк осенью шестьдесят девятого года. – Если бы ты завел детей с этой коварной обезьяной, твои дети родились бы с волосатыми подмышками. Женщина, которая хочет ребенка, способна сказать и сделать что угодно!
Но я и сам хотел завести детей с кем-нибудь – ладно, может, даже с кем угодно – не меньше, чем Элис. Со временем я откажусь от этой мысли, но перестать хотеть куда труднее.
– Как думаешь, Уильям, я была бы хорошей матерью? – спросила меня однажды мисс Фрост.
– Вы? Я думаю, из вас получится фантастическая мать! – сказал я ей.
– Я сказала «была бы», Уильям, а не «буду». Теперь мне никогда не стать матерью, – сказала мне мисс Фрост.
– Мне кажется, вы были бы потрясной матерью, – сказал я ей.
Тогда я не понимал, почему мисс Фрост так настаивает на «была бы» вместо «буду», но теперь понимаю. Она отказалась от мысли завести детей, но перестать хотеть она не могла.
По-настоящему меня взбесило во всей этой истории с Элис и долбаным кинобизнесом то, что я был в Лос-Анджелесе, когда полиция провела рейд в Стоунволл-Инн, гей-баре в Гринвич-Виллидж – это произошло в июне 1969 года. Я пропустил Стоунволлские бунты! Да, я знаю, первыми ответный удар нанесли сутенеры и трансвеститы, но протестный митинг на Шеридан-сквер, собравшийся в результате в ночь после рейда, стал началом чего-то большего. Я был не в восторге от того, что застрял в Санта-Монике, бегая по пляжу и полагаясь на то, что передавал мне Ларри о происходящем в Нью-Йорке. Ларри, разумеется, не ходил со мной в Стоунволл – никогда в жизни, – и я сомневаюсь, что он был среди посетителей бара в ту июньскую ночь, когда геи оказали сопротивление во время знаменитой ныне облавы. Но послушать Ларри, так можно было подумать, что он был первым геем, прогулявшимся по Гринвич-авеню и Кристофер-стрит, и что он был завсегдатаем Стоунволла – и даже что его забрали в тюрьму вместе с лягающимися и отбивающимися трансвеститами, хотя на самом деле Ларри (как я узнал позже) был тогда либо со своими меценатами в Хэмптонс, либо с юным рифмоплетом с Уолл-стрит (по имени Расселл), с которым Ларри трахался на Файер-Айленд.








