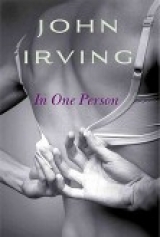
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
– Раз вы об этом заговорили, мисс Фрост, у Билли есть одна сложность с репликой Ариэля, мы пытаемся с ней разобраться, – сказала Элейн.
– В чем сложность, Уильям? – спросила меня мисс Фрост, устремив на меня свой пронизывающий взгляд. (Слава богу, «пенисов» в словаре Ариэля не обнаружилось!)
Когда Калибан называет Просперо тираном, Ариэль (невидимый) произносит: «Ты лжешь». Поскольку Ариэль невидим, Калибан думает, что это Тринкуло назвал его лжецом. В той же сцене Ариэль повторяет «Ты лжешь» в адрес Стефано, который думает, что и его Тринкуло назвал лжецом, и бросается на шута с кулаками.
– Мне надо дважды повторить: «Ты лжешь», – объяснил я мисс Фрост, старательно выговаривая фразу.
– Иногда у него получается «Ты лжишь», – сказала Элейн мисс Фрост.
– Ой, боже, – сказала библиотекарша, на секунду зажмурившись от ужаса. – Посмотри на меня, Уильям, – сказала она мне. Я так и сделал; хотя бы раз можно было взглянуть на нее в открытую. – Скажи мне «хорош».
Это оказалось несложно. Мисс Фрост была, без сомнения, хороша собой. «Хорош», – сказал я ей, глядя ей прямо в глаза.
– Ну вот, Уильям, просто держи в голове, что «ты лжешь» рифмуется с «хорош», – сказала мисс Фрост.
– Давай, попробуй, – сказала Элейн.
– Ты лжешь, – произнес я так, как и должен был сказать невидимый Ариэль.
– Пусть все твои трудности решаются так же легко, Уильям, – сказала мисс Фрост. – Обожаю прогонять реплики, – сказала она Элейн, закрывая дверь.
Меня впечатлило, что мисс Фрост вообще знает, что такое «прогонять реплики». Когда Ричард спросил ее, играла ли она на сцене, мисс Фрост поспешно ответила: «Только в своем воображении. В молодости – постоянно». Однако на сцене «Актеров Ферст-Систер» она, несомненно, сделала себе имя.
– Мисс Фрост – настоящая ибсеновская женщина! – заявил Ричарду Нильс, но ролей ей досталось немного – за исключением женщин с тяжелой судьбой в «Гедде Габлер», «Кукольном доме» и «Дикой (долбаной) утке».
В общем, сколько бы мисс Фрост ни утверждала, что играла лишь в воображении (будучи при этом прирожденной ибсеновской женщиной), она явно была не понаслышке знакома с «прогоном реплик» – и всячески поддерживала нас с Элейн.
Поначалу нам было не особенно удобно – я имею в виду, устраиваться на кровати мисс Фрост. Матрас был двуспальный, но не очень широкий, а латунная рама была достаточно высокой; если мы с Элейн чинно садились рядышком на краю, то не доставали ногами до пола. Но когда мы ложились на живот, нам приходилось извиваться, чтобы посмотреть друг на друга; только привалив подушки к латунным прутьям изголовья, мы могли лечь на бок лицом друг к другу и прогонять реплики – держа перед собой копии пьесы, чтобы сверяться с ними.
– Мы похожи на пожилых супругов, – сказала Элейн; мне и самому это приходило в голову.
Однажды вечером Элейн заснула в бункере мисс Фрост. Я знал, что ей приходится вставать раньше, чем мне; из-за поездок автобусом в Эзра-Фоллс она была вечно уставшей. Когда мисс Фрост постучала в дверь, Элейн перепугалась спросонья; она обвила меня руками за шею и все еще крепко ко мне прижималась, когда мисс Фрост вошла в комнату. Несмотря на то, какой романтичной на первый взгляд была эта картина, вряд ли мисс Фрост решила, что мы тут обжимаемся. По нашим лицам этого точно нельзя было сказать, и мисс Фрост просто сообщила:
– Мне пора закрывать библиотеку. Даже Шекспиру нужно отдохнуть и выспаться.
Как известно всякому, кто когда-либо участвовал в театральном представлении, после тяжелых репетиций и бесконечного заучивания – пока реплики не начинают отскакивать от зубов – рано или поздно заканчивается даже Шекспир. Мы показали «Бурю» четыре раза. Все четыре раза я успешно произносил «ты лжешь», хотя на премьере едва не выдал «хороша грудь», когда мне показалось, что я увидел в зале мать Киттреджа – правда, в антракте Киттредж сообщил мне о моей ошибке. Та женщина не была его матерью.
– Женщина, которую ты считаешь моей матерью, сейчас в Париже, – презрительно сообщил мне Киттредж.
– А-а.
– Наверное, ты перепутал с ней еще какую-нибудь женщину среднего возраста, которая тратит слишком много денег на одежду, – сказал Киттредж.
– У тебя очень красивая мать, – сказал я ему. Я был совершенно искренен и не имел в виду ничего дурного.
– Твоя мать будет погорячее, – невозмутимо заявил Киттредж. В его замечании не было ни тени сарказма, ни капли непристойности; он сообщал такой же очевидный факт, как то, что его мать (или женщина, которая ей не являлась) находится в Париже. Вскоре словечко «горячий» в том значении, которое придал ему Киттредж, станет последним писком моды в Фейворит-Ривер.
Потом Элейн сказала мне:
– Ты что делаешь, Билли, – в друзья ему набиваешься?
Из Элейн получилась отличная Миранда, хотя премьера была не лучшим ее выступлением; ей пришлось воспользоваться подсказкой суфлера. Возможно, виноват в этом был я.
«Добрая утроба подчас родит плохого сына», – говорит Миранда своему отцу – имея в виду брата Просперо, Антонио.
Я уже обсуждал с Элейн проблему добрых утроб – может быть, даже слишком часто. Я рассказал Элейн свои соображения по поводу моего биологического отца – как все плохое в себе я приписывал генам сержанта (а не маминым). В то время я все еще относил свою мать к добрым утробам мира сего. Может, она и была до неприличия легко соблазнимой – так я отзывался о ней в разговорах с Элейн, – но Мэри Маршалл – Дин ли, Эбботт ли – была по сути своей невинна и не способна на дурной поступок. Пусть мама была доверчивой и временами заторможенной – я использовал это слово вместо «слабоумной», – но она никогда не была «плохой».
По общему признанию, мои мучения со словом «утроба» были уморительными – мне не давалось даже единственное число. Мы с Элейн вместе смеялись над тем, как оно у меня выходит.
– Утроба, а не «внутроба», Билли! – кричала Элейн. – Начинается с «у»!
Даже мне самому было смешно. Зачем бы мне понадобилось слово «утроба» (или «утробы»)?
Но я уверен, что это из-за меня на премьере у Элейн в голове почему-то всплыло слово «особа»: «Добрая особа подчас родит плохого сына», – едва не произнесла Миранда. Видимо, Элейн поняла, что выходит что-то не то; она оборвала себя почти сразу после слова «добрая». Затем наступило то, чего боится любой актер: осуждающее молчание.
– Утроба, – прошептала мама; у нее идеально получался суфлерский шепот – ее практически не было слышно.
– Утроба! – выкрикнула Элейн Хедли. Просперо (Ричард) подпрыгнул. «Добрая утроба подчас родит плохого сына», – произнесла Элейн, возвращаясь в образ Миранды. Больше такого с ней не случалось.
Разумеется, после премьеры Киттредж не мог промолчать.
– Тебе нужно поработать над словом «утроба», Неаполь, – сказал он Элейн. – По-видимому, оно вызывает у тебя некоторое нервное возбуждение. Попробуй сказать себе: «У каждой женщины есть утроба – даже у меня. Не такое это большое дело». Можем потренироваться вместе, если тебе так будет легче. Например, я говорю «утроба», ты отвечаешь: «В утробах ничего особенного нет», или я говорю «утроба», а ты: «У меня она тоже есть!» – вроде того.
– Спасибо, Киттредж, – ответила Элейн. – Очень заботливо с твоей стороны.
Она прикусила нижнюю губу, что, как я знал, делала только в те моменты, когда страдала по Киттреджу и ненавидела себя за это. (Мне это чувство было хорошо знакомо.)
И вот после месяцев драматической, во всех смыслах, близости наше общение с Киттреджем внезапно прервалось; мы с Элейн впали в уныние. Ричард попытался поговорить с нами о послеродовой депрессии, которая иногда нападает на актеров после спектакля.
– Это не мы родили «Бурю», – нетерпеливо сказала ему Элейн, – а Шекспир!
Что до меня, то я скучал по нашим прогонам реплик на латунной кровати мисс Фрост, но когда я сознался в этом Элейн, она удивилась:
– Почему? Вроде мы там не обжимались.
Элейн нравилась мне все больше, пусть и только по-дружески, но стоит быть внимательнее с тем, что вы говорите своим друзьям, когда стараетесь подбодрить их.
– Ну, это не потому, что мне не хотелось бы с тобой пообжиматься, – сказал я.
Мы сидели в спальне Элейн – с открытой дверью; был вечер субботы в начале зимнего семестра. Это был уже новый, 1960 год, но мне все еще было семнадцать, а Элейн – шестнадцать. В академии Фейворит-Ривер был киновечер, и из окна спальни Элейн было видно, как мерцает свет проектора в новом спортзале в форме луковицы, соединенном со старым спортзалом – где зимой по выходным мы с Элейн часто наблюдали за матчами Киттреджа. Но не в эти выходные; борцы уехали состязаться куда-то к югу от нас – в Лумис или в Маунт-Хермон.
Когда автобусы спортивной команды возвращались в академию, мы с Элейн могли видеть их из окна ее комнаты на пятом этаже. Даже в январский мороз, когда все окна были закрыты, крики мальчишек разносились по всему двору, отражаясь от стен общежитий. Борцы и прочие спортсмены несли свои вещи из автобусов в новый спортзал, где находились раздевалка и душ. Если фильм еще не успевал закончиться, некоторые из них оставались в зале, чтобы посмотреть хотя бы конец.
Но этим субботним вечером показывали вестерн; только недоумок будет смотреть конец вестерна, не зная, что было в начале – заканчиваются они все одинаково (всеобщей перестрелкой и неизбежным справедливым возмездием). Мы с Элейн спорили, останется ли Киттредж в зале досматривать вестерн – если, конечно, автобус приедет до окончания фильма.
– Киттредж не тупица, – сказала Элейн. – Не будет он зависать в зале, чтобы посмотреть последние пятнадцать минут лошадиной оперы.
(Элейн была невысокого мнения о вестернах, и лошадиными операми называла их только в добром расположении духа; обычно же она именовала их самцовой пропагандой.)
– Киттредж качок – он будет зависать в зале с другими качками, – возразил я. – Без разницы, какой там идет фильм.
Качкам, которые не зависали в зале после своих выездов, не нужно было далеко идти. Спортивное общежитие под названием Тилли, пятиэтажный кирпичный куб, располагалось прямо рядом со спортзалом. По каким-то своим идиотским причинам спортсмены всегда жизнерадостно вопили, проходя или пробегая от зала к общежитию.
Мистера Хедли и его невзрачной жены Марты не было дома; они уехали вместе с Ричардом и моей мамой – две пары часто проводили время вместе, особенно когда в Эзра-Фоллс показывали иностранные фильмы. На афишах кинотеатра в Эзра-Фоллс всегда печатали большими буквами, если фильм шел с субтитрами. Это было не просто предупреждение местным жителям, которые не хотели (или не могли) читать субтитры; это было предостережение иного рода – а именно, что иностранный фильм, скорее всего, содержит больше сцен сексуального характера, чем привыкли жители штата Вермонт.
Когда мама с Ричардом и супруги Хедли отправлялись в Эзра-Фоллс на фильм с субтитрами, нас обычно не приглашали. Так что пока наши родители смотрели эротику, мы с Элейн оставались вдвоем – в моей или в ее спальне, но неизменно с открытой дверью.
Элейн не ходила на вечерние кинопросмотры в Фейворит-Ривер – даже когда показывали не вестерн. Атмосфера в спортзале академии этими вечерами была слишком уж пропитана мужским духом, на взгляд Элейн. Не самое подходящее место для юной преподавательской дочки. Парни не стеснялись громко пердеть и проявлять свою невоспитанность другими, куда худшими способами. Элейн полагала, что если бы иностранные эротические фильмы показывали в спортзале академии, некоторые мальчишки точно дрочили бы прямо на баскетбольной площадке.
Как правило, оставаясь одни, мы предпочитали сидеть в комнате Элейн. Из квартиры Хедли на пятом этаже было лучше видно двор общежития; моя спальня в нашей с Ричардом и мамой квартире была на третьем. Наше общежитие называлось Бэнкрофт, и в общей гостиной на первом этаже – ее называли курилкой – стоял бюст старого Бэнкрофта, давно покойного почетного профессора академии. Бэнкрофт (по крайней мере, его бюст) был лысым стариком с кустистыми бровями.
Я продолжал знакомиться с историей академии Фейворит-Ривер и однажды наткнулся на фотографии профессора Бэнкрофта. Когда-то он был молодым преподавателем, и я обнаружил его фотографии – на которых волос у него было предостаточно – в древних ежегодниках. (Не следует строить догадки о чужом прошлом; если у вас нет никаких свидетельств, прошлое человека всегда будет для вас тайной.)
Когда Элейн приходила со мной в комнату с ежегодниками, она проявляла мало интереса к старым выпускам, которые так завораживали меня. Я едва продвинулся с начала Первой мировой, но Элейн Хедли взялась за последние выпуски; ей нравилось рассматривать фотографии тех, кто еще учился в школе или только недавно ее окончил. Мы с Элейн прикинули, что такими темпами встретимся где-то в начале Второй мировой – или незадолго до нее.
– О, вот это красавчик, – иногда говорила Элейн, обнаружив в ежегоднике фото симпатичного парня.
– Дай посмотреть, – говорил я – верный, но еще не открывшийся ей друг. (Наши вкусы в отношении парней во многом совпадали.)
Удивительно, как только я осмелился сказать, что хотел бы пообжиматься с Элейн. Хотя я солгал из добрых побуждении, но, быть может, вдобавок я пытался сбить ее с толку; вероятно, я боялся, что Элейн как-то почует во мне те самые гомосексуальные вожделения, с которыми норовили «агрессивно» бороться доктор Харлоу и доктор Грау.
Сначала Элейн мне не поверила.
– Что-что ты сказал? – переспросила она.
Мы валялись на ее кровати – без всякого сексуального подтекста – и маялись скукой, слушая рок-н-ролл по радио и поглядывая в окно. Само по себе возвращение автобусов с командой не особенно нас заботило, но оно означало бы, что Киттредж опять свободно разгуливает по кампусу.
На подоконнике у Элейн стоял ночник с темно-синим абажуром, сделанным из толстого, как у бутылки из-под кока-колы, стекла. Киттредж знал, что синий свет на пятом этаже общежития Бэнкрофт идет из спальни Элейн. Еще когда мы все играли в «Буре», Киттредж время от времени воспевал синий свет, который был виден отовсюду – даже из спортивного общежития Тилли. Изучая фотографии преподавателей в ежегодниках, я так и не встретил профессора Тилли. Если он и был почетным профессором академии, должно быть, он преподавал уже позднее, не в те стародавние времена, когда старый Бэнкрофт был еще во цвете лет.
Я не осознавал, как много значат для Элейн эти редкие оды ее ночнику; конечно, они были издевательскими – «местечковый Шекспир», говорила о них Элейн. Однако я знал, что Элейн часто засыпает со включенным синим ночником – и когда Киттредж не поет свои серенады, она тоскует.
Именно в этой атмосфере затянувшегося ожидания, под рок-н-ролл, в уединении освещенной синим ночником спальни, я сообщил Элейн, что хотел бы с ней пообжиматься. И не то чтобы идея была плоха; просто это было неправдой. Неудивительно, что первой реакцией Элейн было недоверие.
– Что-что ты сейчас сказал? – переспросила моя подруга Элейн.
– Я не хотел бы делать или говорить ничего такого, что помешало бы нашей дружбе, – сказал я ей.
– Ты хочешь пообжиматься со мной? – спросила Элейн.
– Ну да, немножко, – сказал я.
– Без… проникновения, ты это имеешь в виду? – уточнила она.
– Нет… да, об этом я и говорю, – сказал я. Элейн знала, что у меня небольшие трудности со словом «проникновение». Оно было как раз одним из тех существительных, которые вызывали у меня сложности с произношением, но вскоре это прошло.
– Скажи вслух, Билли, – велела Элейн.
– Без… не по полной программе, – сказал я.
– А как именно обжиматься? – спросила она.
Я улегся на ее кровати лицом вниз и нахлобучил себе на голову подушку. Видимо, такой вариант ее не устраивал, поскольку она оседлала меня, усевшись мне на поясницу. Я чувствовал ее дыхание на своей шее; она прижалась губами к моему уху.
– Целоваться? – прошептала она. – Трогать?
– Да, – ответил я приглушенным голосом.
Элейн стянула подушку у меня с головы.
– Что трогать? – спросила она.
– Не знаю, – ответил я.
– Не все, – сказала Элейн.
– Нет! Конечно, нет, – сказал я.
– Можешь потрогать мою грудь, – сказала она. – Все равно там и груди-то нет.
– Еще как есть, – сказал я ей. Что-то у нее там точно было, и, признаться, мне хотелось дотронуться до ее груди. (Честно говоря, я мечтал трогать всевозможные груди, в особенности маленькие.)
Элейн улеглась на кровать со мной рядом, и я повернулся на бок, чтобы посмотреть на нее.
– У тебя стоит на меня? – спросила она.
– Ага, – соврал я.
– О господи, в этой комнате всегда так жарко! – неожиданно воскликнула она и села на кровати. Чем холоднее было снаружи, тем жарче становилось в этих старых общежитиях – и чем выше этажом, тем хуже. После отбоя ученики всегда приоткрывали окна, чтобы впустить немного холодного воздуха, но древние батареи продолжали нагнетать жар.
На Элейн была белая мужская рубашка с воротником на пуговицах, но она никогда не застегивала воротник и оставляла расстегнутыми две верхние пуговицы. Она вытащила рубашку из джинсов; зажав ткань между большим и указательным пальцами и оттянув ее от своего худого как щепка тела, она подула себе на грудь, чтобы охладиться.
– А сейчас у тебя стоит? – спросила она; прежде чем лечь обратно на кровать, она чуть-чуть приоткрыла окно.
– Нет – слишком волнуюсь, наверное, – сказал я.
– Не волнуйся, мы же только целуемся и трогаем – так? – спросила меня Элейн.
– Ага, – ответил я.
Я чувствовал острый как бритва поток холодного воздуха из приоткрытого окна, когда Элейн поцеловала меня – всего лишь целомудренно клюнула в губы, что для нее, видимо, стало таким же разочарованием, как для меня, потому что она сказала:
– С языками тоже можно. Французские поцелуи разрешаются.
Следующий поцелуй получился намного интереснее – языки меняют все. Во французском поцелуе есть некий нарастающий импульс; мы с Элейн понятия не имели, что с ним делать. Наверное, чтобы отвлечься, я подумал о маме: как она застала моего ветреного отца за поцелуем с кем-то другим. Помню, как мне пришло в голову, что во французском поцелуе определенно есть некая ветреность. Элейн, видимо, тоже потребовалось отвлечься. Она разорвала поцелуй и, сбиваясь с дыхания, прошептала: «Опять эти братья Эверли!». Я вообще не слышал, что там играло по радио, но Элейн откатилась от меня; дотянувшись до прикроватного столика, она выключила радио.
– Хочу слышать наше дыхание, – сказала Элейн, вновь перекатываясь ко мне.
Да, – подумал я, – дыхание и правда сильно меняется, когда целуешь кого-нибудь взасос. Я задрал ее рубашку и робко дотронулся до ее голого живота; она потянула мою руку выше, к груди – ну, по крайней мере, к чашке лифчика – мягкой, маленькой и легко поместившейся в мою ладонь.
– Это… тренировочный лифчик? – спросил я.
– Это лифчик с поролоном, – сказала Элейн. – Не знаю уж, что он там тренирует.
– Приятно на ощупь, – сказал я ей. И я не врал; слово «тренировочный» запустило во мне что-то, хотя я не был до конца уверен, что именно держу в руке. (То есть какая часть того, что я держал, была ее грудью – или там был в основном лифчик?)
Элейн, словно предвосхищая наши будущие взаимоотношения, по всей видимости, прочитала мои мысли, поскольку она заявила – громко и ясно, как всегда:
– Поролона тут больше, чем груди, если хочешь знать правду, Билли. Смотри, сейчас покажу, – она села на кровати и расстегнула белую рубашку, спустив ее с плеч.
Лифчик был красивым, скорее жемчужно-серым, чем белым, и когда она потянулась за спину, чтобы расстегнуть его, чашечки приоткрылись. Я успел лишь мельком увидеть ее маленькие острые грудки, прежде чем она снова накинула рубашку; соски у нее были больше, чем у парней, а эти темные кружочки вокруг сосков – ареолы, еще одно непроизносимое слово! – были величиной почти во всю грудь. Но пока Элейн застегивала рубашку, мое внимание привлек ее лифчик, лежавший теперь на постели между нами. Я взял его в руки; в шелковистую ткань были вшиты мягкие подушечки по форме груди. К моему удивлению, мне сразу захотелось его примерить – захотелось узнать, каково это – носить лифчик. Но я промолчал об этом чувстве, как и о других желаниях, которые скрывал от моей подруги Элейн.
Одна маленькая деталь сообщила мне, что очередной барьер в наших развивающихся отношениях рухнул: Элейн, как всегда, оставила незастегнутыми две верхних пуговицы на рубашке, но в этот раз она не застегнула и самую нижнюю. Моей руке было легче проскользнуть под ее рубашку, и на этот раз уже настоящая грудь (сколько бы ее там ни было) легла в мою ладонь.
– Не знаю, как ты, Билли, – сказала Элейн, пока мы лежали лицом друг к другу на одной из ее подушек, – но я всегда представляла, что, когда мальчик впервые потрогает мою грудь, все будет как-то более сумбурно.
– Сумбурно, – повторил я. Кажется, я немного тормозил.
Мне вспомнилась ежегодная проповедь доктора Харлоу о наших излечимых недомоганиях; он утверждал, что «нежелательное сексуальное влечение к мальчикам и мужчинам» попадает в эту сомнительно излечимую категорию.
Должно быть, мне удалось вытеснить воспоминания о ежегодной утренней лекции доктора Грау – «герра доктора Грау», как мы называли нашего школьного психиатра. Каждый год доктор Грау нес один и тот же клинический бред – о том, как все мы, мальчишки, находимся в возрасте заторможенного развития – «застыв», по словам герра доктора, «как жуки в янтаре». (По испуганным лицам слушателей было видно, что не все видели жуков в янтаре – и вообще знали, что это такое.)
– Сейчас вы находитесь в фазе полиморфной извращенности, – внушал нам доктор Грау. – В этой фазе естественно проявлять инфантильные сексуальные наклонности, при которых гениталии еще не распознаются как главные или единственные сексуальные органы.
(Но как можно не распознать такую очевидную вещь, как гениталии? – думали мы с тревогой.)
– На этой стадии, – продолжал герр доктор Грау, – половой акт не обязательно считается целью эротической активности.
(Тогда почему мы непрерывно думаем о половом акте? – с ужасом вопрошали мы.)
– Вы испытываете догенитальные либидинозные фиксации, – объяснял нам старик Грау так, как будто это должно было нас утешить.
(Он преподавал в академии немецкий язык – в той же самой, совершенно не доступной для восприятия манере.)
– Вы обязательно должны прийти ко мне и обсудить эти фиксации, – неизменно заключал старый австриец.
(Ни один из учеников Фейворит-Ривер, насколько я знаю, не сознался в своих фиксациях; никто из тех, кого я знал, никогда не обсуждал что-либо с доктором Грау!)
Ричард Эбботт объяснил мне и другим актерам, занятым в «Буре», что Ариэль обладает полиморфным полом – зависящим «скорее от облачения, чем от физических признаков». Далее Ричард заключил, что пол моего персонажа «изменчив», и я еще больше запутался в своей (и Ариэля) сексуальной ориентации.
Однако когда я спросил Ричарда, имеют ли его рассуждения нечто общее с бредятиной о «полиморфной извращенности» и «жуках в янтаре», которую доктор Грау постоянно несет на утренних собраниях, Ричард недвусмысленно отверг любую идею возможной связи между ними.
– Билл, никто не слушает старика Грау, – сказал мне Ричард. – Вот и ты не слушай.
Мудрый совет – но если не внимать словам доктора Грау было еще возможно, то слушать его мы были обязаны. И лежа рядом с Элейн, с ладонью на ее обнаженной груди, пока наши языки сплетались и мы представляли, что же еще такого эротического можно сделать друг с другом, я почувствовал, что у меня начинается эрекция.
Наши рты все еще были прижаты друг к другу, но Элейн удалось спросить: «Ну что, теперь у тебя встает?». Да, у меня вставал, и я заметил нетерпение Элейн по чересчур громкому «теперь», но я был так растерян, что не мог понять, что же вызвало мою эрекцию.
Да, французский поцелуй оказался захватывающим, и я (до сего дня) неравнодушен к прикосновению голой женской груди; однако мне все же кажется, что эрекция у меня началась, когда я представил, как примеряю лифчик Элейн. Разве не проявил я в этот миг «инфантильные сексуальные наклонности», о которых предупреждал нас доктор Грау?
Но все, что я ответил Элейн, пробившись сквозь сплетение наших языков, было придушенное «Да!».
В этот раз, отстраняясь от меня, Элейн второпях прикусила мне нижнюю губу.
– У тебя действительно стояк, – серьезно сказала она мне.
– Да, действительно, – признал я.
Я потрогал нижнюю губу, чтобы убедиться, что она не кровоточит. (И при этом искал глазами ее лифчик.)
– О господи, только не показывай мне его! – воскликнула Элейн.
Это тоже было странно. Я и не предлагал показать ей свой член! Я не хотел, чтобы она его видела. На самом деле я бы смутился, если бы она его увидела; я боялся, что она будет разочарована или начнет смеяться (или же ее стошнит).
– Может, я попробую его потрогать, – размышляла Элейн. – Я не имею в виду прямо голый! – быстро прибавила она. – Может, просто пощупать, ну, через одежду.
– Почему бы нет? – сказал я так безразлично, как только мог, хотя потом я годами задавался вопросом, проходил ли кто-нибудь еще сексуальную инициацию, сопряженную с таким количество переговоров.
Ученикам академии не разрешалось носить джинсы; на уроках и в столовой нам полагалось быть в пиджаках и при галстуках. Большая часть парней носила штаны защитного цвета, а зимой – фланелевые или вельветовые брюки. Тем январским вечером на мне были мешковатые вельветовые штаны, не сдерживающие мое возбуждение – но вот тесные плавки становились все более неудобными. Может, эти белые обтягивающие плавки были единственными мужскими трусами, которые можно было найти в Вермонте в шестидесятом году. (Точно не знаю, тогда всю одежду все еще покупала мне мама.)
В раздевалке спортзала я обратил внимание на трусы Киттреджа – синие хлопковые боксеры. Может, его мать-француженка купила ему их в Париже или Нью-Йорке.
– Эта женщина просто обязана быть его матерью, – сказала Элейн. – Если бы не грудь, она могла бы быть Киттреджем – такая женщина точно знает, где купить подобные боксеры.
Вдобавок синие трусы Киттреджа были выглажены; не из-за того, что Киттредж был таким франтом, просто в школьной прачечной гладили все – не только брюки и рубашки, но даже белье и, черт побери, носки. (Этот обычай подвергался почти такому же осмеянию, как советы доктора Харлоу и доктора Грау.)
Так или иначе, моя первая эрекция, вдохновленная Элейн Хедли (или ее лифчиком), распирала обтягивающие плавки, угрожавшие вот-вот перекрыть кровоток моему оживившемуся члену. Элейн – с пылом, к которому я оказался не готов – неожиданно ухватилась за те самые гениталии, которые, по словам доктора Грау, мы еще «не идентифицировали» как собственные долбаные сексуальные органы! Лично у меня не возникало вопросов о том, где располагаются мои «единственные или преобладающие сексуальные органы», и, когда Элейн схватилась за них, я вздрогнул.
– Господи… боже… мой! – завопила Элейн, мгновенно оглушив меня на то ухо, которое было ближе к ней. – Представить не могу, каково это с такой штукой!
Эта реплика тоже прозвучала неоднозначно. Подразумевала ли Элейн, что не может себе представить, каково с такой штукой внутри, или же каково это – быть мальчиком и иметь собственный член? Я не стал спрашивать. Я ощутил облегчение, когда она отпустила мою мошонку – хватка у нее была не очень-то нежной, – но Элейн тут же снова ухватилась за мой член, а я продолжил ласкать ее грудь. Если бы мы вернулись к французскому поцелую с того места, с которого начали, кто знает, к чему привел бы уже упомянутый «нарастающий импульс», но мы просто начали целоваться заново – сначала робко, касаясь лишь кончиками языков. Я увидел, что Элейн закрыла глаза, и тоже зажмурился.
Так я обнаружил, что можно ласкать грудь Элейн, воображая при этом не менее податливую мисс Фрост. (Как я давно уже прикинул, грудь мисс Фрост должна была быть лишь чуть побольше груди Элейн.) С закрытыми глазами мне удалось даже представить, что мой член крепко сжимает не маленькая ладошка Элейн, а куда бо́льшая ладонь мисс Фрост – в этом случае мисс Фрост сжимала бы не в полную силу. И пока наш поцелуй набирал обороты – вскоре нам обоим стало нечем дышать, – я представлял, будто это язык мисс Фрост трется о мой язык, будто наши тела сплетаются на латунной кровати в подвале библиотеки Ферст-Систер.
Когда дизельный выхлоп первого из спортивных автобусов достиг приоткрытого окна комнаты Элейн, я даже сумел убедить себя, что это запах масляной печи, стоящей возле бывшего угольного бункера, теперь служившего комнатой мисс Фрост. Открывая глаза, я почти ожидал оказаться лицом к лицу с мисс Фрост, но передо мной, плотно зажмурившись, лежала моя подруга Элейн Хедли.
Пока я представлял себе мисс Фрост, мне не приходило в голову, что и Элейн может дать волю воображению. Ничего удивительного, что имя, которое ей каким-то образом удалось пробормотать мне в рот, было «Киттредж!». (Элейн правильно определила источник запаха; она догадалась, что это вернулся автобус спортивной команды, потому что пока я представлял себе мисс Фрост, она воображала Киттреджа.)
Глаза Элейн широко распахнулись. Наверное, у меня был такой же виноватый вид, как и у нее. В моем члене бился пульс; и если я чувствовал эту пульсацию, то и Элейн не могла ее не почувствовать.
– Билли, у тебя сердце стучит, – сказала она.
– Это не сердце, – сообщил я.
– Еще как сердце – оно бьется у тебя в члене, – сказала Элейн. – У всех парней сердце бьется там?
– Не знаю насчет всех, – ответил я. Но она уже отпустила мой член и откатилась от меня.
У спортзала припарковалось уже несколько автобусов, извергающих дизельные пары; свет кинопроектора все еще мерцал на баскетбольной площадке, а бессмысленные крики и улюлюкание вернувшихся спортсменов гремели по всему двору – может, среди них и были борцы, а может и нет.
Теперь Элейн лежала на кровати, почти касаясь лбом подоконника, поближе к потоку холодного воздуха из приоткрытого окна.
– Когда я целовала тебя и держалась за твой член, а ты трогал мою грудь, я представляла Киттреджа – этого ублюдка, – сказала мне Элейн.
– Я знаю, все нормально, – сказал я.
Я знал, какой она хороший и верный друг, но все равно не мог сказать ей, что думал о мисс Фрост.
– Нет, это не нормально, – сказала Элейн; она плакала.
Элейн лежала на боку в ногах кровати, лицом к окну, а я растянулся позади нее, прижавшись грудью к ее спине; так я мог целовать ее в шею сзади и одной рукой дотянуться до ее груди под рубашкой. Пульс все еще бился в моем члене. Я сомневался, что Элейн может его ощутить через свои джинсы и мои брюки, хотя я крепко прижимался к ней, а она вжималась в меня своей маленькой задницей.








