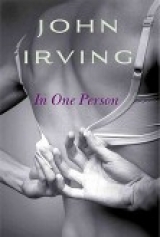
Текст книги "В одном лице (ЛП)"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
И только когда я вернулся в Нью-Йорк, моя милая подруга Элейн призналась мне, что Элис пыталась подкатить к ней в тот единственный раз, когда Элейн приезжала к нам в Санта-Монику.
– Почему ты мне не сказала? – спросил я Элейн.
– Билли, Билли, – начала Элейн, как всегда начинала свои увещевания ее мать. – Разве ты не знал, что самые тревожные твои любовники всегда стараются опорочить твоих друзей?
Конечно, я об этом знал, или, по крайней мере, мне следовало бы знать. Я понял это после знакомства с Ларри – не говоря уже о Томе Аткинсе.
Кстати, как раз в то время я снова получил рождественскую открытку от бедного Тома. Теперь на фотографии семейства Аткинсов появилась собака (лабрадор-ретривер); я подумал тогда, что дети Тома еще маловаты для школы, но после разрыва с Элис я стал обращать меньше внимания на детей. К открытке была приложена записка; сначала я принял ее за одно из этих дурацких рождественских посланий от третьего лица, и почти отложил в сторону, но потом все-таки прочитал.
Это оказалась попытка Тома Аткинса написать отзыв на мой первый роман – отзыв, как выяснилось, крайне благожелательный (хоть и неуклюжий). Все отзывы бедного Тома о моих романах, как выяснится потом, будут заканчиваться одним и тем же вопиющим заявлением. «Это лучше, чем „Госпожа Бовари“, Билл, – я знаю, ты мне не поверишь, но это так!». Разумеется, я понимал, что в глазах Аткинса что угодно будет лучше «Госпожи Бовари».
Лоуренс Аптон праздновал свое шестидесятилетие морозным субботним вечером в Нью-Йорке в феврале 1978 года. Я уже не был любовником Ларри – и даже партнером для дружеского секса, – но мы оставались близкими друзьями. Мой третий роман готовился к печати – он должен был выйти примерно к моему дню рождения, в марте того же года, – и Ларри уже успел прочесть гранки. Он объявил, что это лучшая моя книга; такая недвусмысленная похвала даже испугала меня, поскольку обычно у Ларри всегда был наготове едкий комментарий.
Я познакомился с ним в Вене, когда ему было сорок пять; пятнадцать лет я слушал его резкие замечания, в том числе и ядовитые отзывы обо мне и моей работе.
И вот теперь, на пышном приеме в честь его шестидесятилетия – проходившем в особняке Расселла, его юного поклонника с Уолл-стрит, – Ларри поднял за меня тост. Мне должно было исполниться тридцать шесть в следующем месяце; тост Ларри в честь меня и моего романа – особенно в присутствии его старших и таких напыщенных друзей – застал меня врасплох.
– Я хочу поблагодарить большинство из вас за то, что чувствую себя моложе своего возраста, начиная с тебя, дорогой Билл, – заговорил Ларри. (Ну ладно, совсем никого не задеть он не мог – в этот раз досталось Расселлу.)
Я знал, что надолго вечеринка не затянется, с таким-то количеством старых пердунов в числе гостей, но я не ожидал настолько сердечной атмосферы. В то время я жил один; у меня было несколько любовников в городе – почти все были моими ровесниками, – и мне очень нравилась юная романистка, читавшая курс писательского мастерства в Колумбийском университете. Рейчел была всего на несколько лет младше меня, ей было слегка за тридцать. Она уже опубликовала два романа и работала над сборником рассказов; по ее приглашению я посетил одно из ее занятий, поскольку ее студенты как раз читали мой роман. Мы спали друг с другом уже пару месяцев, но не заговаривали о том, чтобы съехаться. Рейчел жила в Верхнем Вест-Сайде, а я обосновался в достаточно уютной квартире на углу Третьей авеню и Восточной 64-й. Нас вполне устраивало, что между нами пролегал Центральный парк. Рейчел только что сбежала из долгих душных отношений с мужчиной, которого называла «серийным женатиком», а у меня были мои приятели для дружеского секса.
Я пришел на день рождения Ларри вместе с Элейн. Ларри и Элейн нравились друг другу; честно говоря, до моего третьего романа, который Ларри столь щедро похвалил, у меня было ощущение, что Ларри больше нравятся книги Элейн, чем мои. Меня это устраивало; я даже был с этим согласен, хотя Элейн писала верно, но медленно. Она выпустила только один роман и один маленький сборник рассказов, но при этом непрерывно что-то писала.
Я упомянул о том, как холодно было тем вечером в Нью-Йорке, потому что помню, что именно поэтому Элейн решила остаться у меня на ночь. Элейн жила в центре, на Спринг-Стрит, где снимала лофт у какого-то придурковатого знакомого художника, и зимой там все промерзало насквозь. А если уж на Манхэттене было холодно, можно вообразить, какой мороз, должно быть, стоял той ночью в Вермонте.
Я уже умывался перед тем, как лечь в постель, когда зазвонил телефон; как я уже говорил, вечеринка закончилась не очень поздно, но в такое время мне обычно никто не звонил, даже по субботам.
– Возьми трубку, а? – крикнул я Элейн.
– А если это Рейчел? – крикнула в ответ Элейн.
– Рейчел тебя знает – она знает, что мы ничем таким не занимаемся! — крикнул я из ванной.
– Ну, если это Рейчел, получится неловко, уж поверь мне, – ответила мне Элейн и подняла трубку. – Алло, это Элейн, старая подруга Билли, – услышал я ее голос. – Мы не занимаемся сексом; просто ночь слишком холодная, чтобы сидеть одной в центре города, – прибавила Элейн.
Я закончил чистить зубы; когда я вышел из ванной, Элейн молчала. Либо звонивший повесил трубку, либо компостировал Элейн мозги – может, это все-таки Рейчел, и не надо было просить Элейн ответить на звонок, подумал я.
Потом я увидел Элейн на моей кровати; она нашла у меня чистую футболку вместо пижамы и уже залезла под одеяло; она плотно прижимала трубку к уху, и слезы струились по ее лицу.
– Да, мам, я ему скажу, – сказала Элейн.
Я не мог представить, при каких обстоятельствах миссис Хедли стала бы звонить мне; я подумал, что вряд ли у нее вообще был мой номер. Может, потому, что этот вечер был важной вехой в жизни Ларри, я с готовностью представил и другие вероятные вехи в собственной жизни.
Кто умер? Я мысленно пробежался по списку возможных подозреваемых. Не бабушка Виктория; она умерла уже давно. Она «ускользнула», не дожив до восьмидесяти, услышал я как-то слова дедушки Гарри – как будто он завидовал ей. Может, теперь и дед умер – Гарри было восемьдесят четыре. Дедушка Гарри любил проводить вечера в своем доме на Ривер-стрит, чаще всего в нарядах покойной жены.
Гарри еще не «ускользнул» в старческую деменцию, которая (уже скоро) вынудит нас с Ричардом поместить старого лесоруба в дом престарелых, построенный им для города. Я помню, что уже рассказывал вам эту историю – как остальные обитатели Заведения (как зловеще называли его старики Ферст-Систер) жаловались, что дедушка Гарри «удивляет» их переодеваниями. После нескольких его появлений в женском платье – как можно было продолжать удивляться? Но мы с Ричардом немедленно вернули дедушку Гарри обратно в дом на Ривер-стрит и наняли сиделку для круглосуточного дежурства. (Все это – и не только это – ждало меня в не столь уж отдаленном будущем.)
О нет, подумал я, когда Элейн повесила трубку. Только бы не дедушка Гарри!
Я ошибался, когда воображал, будто Элейн может читать мои мысли.
– Билли, твоя мама… твоя мама и Мюриэл погибли в аварии – с мисс Фрост ничего не случилось, – поспешно сказала Элейн.
– С мисс Фрост ничего не случилось, – повторил я и подумал про себя: как получилось, что я ни разу не связался с ней за все эти годы? Я даже не пытался! Почему я не стал ее разыскивать? Сейчас ей должен быть шестьдесят один год. Неожиданно я с изумлением осознал, что не видел мисс Фрост, не слышал о ней ни слова уже семнадцать лет. Я даже Херма Хойта не спрашивал, не получал ли тот от нее вестей.
Тем морозным вечером в Нью-Йорке, в феврале 1978 года, мне было почти тридцать шесть, и я уже понял, что из-за моей бисексуальности женщины всегда будут считать меня ненадежным, и одновременно (и по той же причине) геи тоже никогда не будут доверять мне полностью.
Что бы подумала обо мне мисс Фрост, спросил я себя; и я думал не о своих романах. Что бы она сказала о моих отношениях с мужчинами и женщинами? «Защищал» ли я кого-нибудь? Для кого я действительно что-то значил? Как так получилось, что мне почти сорок лет, но я никого не люблю так искренне, как люблю Элейн? Как мог я не оправдать ожиданий, которые наверняка возлагала на меня мисс Фрост? Она защищала меня, но для чего? Неужели она просто отсрочила мои случайные связи? Но если геи чаще – и сознательнее – практиковали случайные связи, чем гетеросексуалы, то бисексуалов часто обвиняли в том, что они неразборчивее всех остальных!
Если бы мисс Фрост встретила меня сейчас, кого бы я ей напомнил? (Я имею в виду не мой выбор партнеров, а их общее число, не говоря уже о том, какими поверхностными были мои отношения с ними.)
– Киттреджа, – ответил я себе вслух. Вот как далеко я забрел – только бы не думать о матери! У меня умерла мама, но я не мог или не позволял себе думать о ней.
– Ох, Билли, Билли, иди сюда. Билли, не надо об этом, – сказала Элейн, протягивая ко мне руки.
Мюриэл была за рулем, когда на вермонтской автостраде 30 в их машину врезался пьяный водитель, заехавший на встречную полосу. Мама и Мюриэл возвращались из Бостона после очередной поездки по магазинам; тем субботним вечером они, наверное, беспечно болтали о всякой ерунде – когда машина, полная пьяных лыжников, спустилась по дороге со Страттон-Маунтин и повернула на юго-восток по автостраде 30. Мама и Мюриэл ехали по этой же трассе на северо-запад; где-то между Бондвиллем и Роусонвиллем машины столкнулись. В горах снега для лыжников хватало, но автострада 30 была сухой и покрытой коркой дорожной соли; было двадцать градусов ниже нуля, слишком холодно для снега.
Согласно отчету полиции Вермонта, моя мама и тетя Мюриэл погибли на месте; Мюриэл только недавно стукнуло шестьдесят, а маме исполнилось бы пятьдесят восемь в апреле этого года. Ричарду Эбботту было всего сорок восемь. «Как-то маловато, чтобы стать вдовцом», как сказал дедушка Гарри. Дядя Боб тоже был слишком молод для вдовца. Он был ровесником мисс Фрост – ему был шестьдесят один год.
Мы с Элейн взяли в аренду машину и поехали в Вермонт вместе. Всю дорогу мы спорили о том, что я «нашел» в Рейчел, тридцатилетней писательнице, преподававшей в Колумбийском университете.
– Тебе льстит, когда молодым писателям нравятся твои романы – или, может, ты не замечаешь, как они к тебе клеятся, – начала Элейн. – По крайней мере, то время, что ты провел с Ларри, научило тебя опасаться старших писателей, которые подлизываются к тебе.
– Видимо, я не замечаю, что Рейчел ко мне подлизывается. Но Ларри ко мне никогда не подлизывался, – ответил я. (Элейн сидела за рулем; она была агрессивным водителем, и когда она вела машину, то становилась агрессивной и в других отношениях.)
– Рейчел к тебе подлизывается, а ты этого не видишь, – сказала Элейн. Я промолчал, и она добавила: – Если тебе интересно мое мнение, мне кажется, что у меня сиськи больше.
– Больше, чем…
– Чем у Рейчел!
– А-а.
Элейн никогда не ревновала меня к любовникам, но ей не нравилось, когда я общался с писателями моложе ее – мужчинами или женщинами.
– Рейчел пишет в настоящем времени: «я иду, она говорит, он идет, я думаю» – всякую такую херню, – заявила Элейн.
– Да, но…
– А еще «думая, желая, надеясь, удивляясь» – и тому подобную херню! – негодовала Элейн.
– Да, я знаю, – начал я.
– Надеюсь, она не озвучивает свои оргазмы. Не кричит всякой херни типа «Билли, я кончаю!», – сказала Элейн.
– Ну-у, нет, не припомню такого, – ответил я.
– Я думаю, она из тех молодых писательниц, которые нянчат своих студентов, – сказала Элейн.
У Элейн опыт преподавания был больше; я никогда не спорил с ней ни о преподавании, ни о миссис Киттредж. Дедушка Гарри был ко мне щедр: каждый год он дарил мне немного денег на Рождество. Иногда я преподавал в колледже на полставки, время от времени попадались короткие подработки приглашенным писателем – обычно не дольше одного семестра. Не могу сказать, что преподавание мне не нравилось, но я не позволял ему посягать на мое рабочее время – в отличие от других моих знакомых писателей, в том числе и Элейн.
– Просто к твоему сведению, Элейн, – в Рейчел мне нравится не только маленькая грудь.
– Искренне на это надеюсь, Билли, – ответила Элейн.
– Ты с кем-нибудь встречаешься? – спросил я старую подругу.
– Ты знаешь того парня, за которого Рейчел едва не вышла замуж? – спросила меня Элейн.
– Лично не знаю, – ответил я.
– Он ко мне как-то раз подкатил, – сказала Элейн.
– А-а.
– Он сказал мне, что однажды Рейчел обосралась прямо в кровати, так и сказал, Билли, – сказала мне Элейн.
– При мне ничего такого пока не случалось, – сказал я. – Но я буду настороже.
После этого мы какое-то время ехали в молчании. Когда мы покинули штат Нью-Йорк и въехали в Вермонт, чуть к западу от Беннигтона, на дороге все чаще стали попадаться сбитые животные; тех, что побольше, оттащили на обочину, но их все равно было видно. Я заметил парочку оленей (если говорить о крупных животных) и, как обычно, енотов и дикобразов. На севере Новой Англии животных сбивают часто.
– Хочешь, я поведу? – спросил я Элейн.
– Да, конечно, – тихо ответила она. Она нашла, где остановиться, и я уселся за руль. Перед самым Беннингтоном мы снова повернули на север; в лесу теперь было больше снега, а на дороге и обочинах больше мертвых животных.
Мы уже были далеко от Нью-Йорка, когда Элейн сказала:
– Тот парень ко мне не подкатывал, Билли, – и то, что Рейчел обосралась в кровати, я тоже выдумала.
– Все в порядке, – сказал я. – Мы писатели. Мы придумываем истории.
– Но я встретила человека, с которым ты учился, – это правда, – сказала Элейн.
– С кем? Где учился? – спросил я.
– В Вене – я встретила студентку из твоей группы, – сказала Элейн. – Когда вы познакомились, ты еще сказал ей, что пытаешься хранить верность своей девушке в Штатах.
– Некоторым девчонкам я такое говорил, – признался я.
– Я сказала ей, что это я была той девушкой, которой ты пытался хранить верность, – сказала Элейн.
Мы оба рассмеялись, но затем Элейн спросила меня, внезапно посерьезнев:
– Знаешь, что мне сказала эта девушка?
– Нет, что? – спросил я.
– Она сказала «бедняжка!». Честное слово, Билли, – ответила Элейн.
Я и не сомневался. Das Institut был ужасно маленьким; все знали, что я трахаюсь с дублершей сопрано, а потом – что я трахаюсь со знаменитым американским поэтом.
– Если бы ты была моей девушкой, тебе я хранил бы верность, Элейн, – или по крайней мере честно постарался бы, – сказал я ей. Потом помолчал, пока она плакала на пассажирском сиденье.
– Если бы ты был моим парнем, и я бы честно постаралась, Билли, – сказала наконец Элейн.
Мы ехали на северо-восток, потом от Эзра-Фоллс свернули на запад – рядом с нами, к северу от дороги, текла Фейворит-Ривер. Даже в феврале, как бы ни было холодно, река никогда не замерзала полностью. Конечно, я думал о том, чтобы завести детей с Элейн, но заговаривать об этом было бесполезно; Элейн не шутила насчет голов младенцев – в ее представлении они были громадными.
Когда мы проехали по Ривер-стрит, мимо здания, когда-то бывшего публичной библиотекой Ферст-Систер – теперь в нем расположилось городское историческое общество, – Элейн сказала:
– Мы с тобой прогоняли реплики для «Бури» на той латунной кровати лет этак сто назад.
– Да, почти двадцать лет прошло, – сказал я. Я думал не о «Буре» и не о прогоне реплик с Элейн. У меня были другие воспоминания о той латунной кровати, но когда я проезжал мимо бывшей библиотеки, мне пришло в голову – спустя каких-нибудь семнадцать лет после того, как оклеветанная библиотекарша покинула город, – что мисс Фрост могла защищать в своем подвале и других молодых людей.
Но с какими еще молодыми людьми могла бы познакомиться в библиотеке мисс Фрост? Я неожиданно вспомнил, что никогда не видел там детей. Если говорить о подростках, то лишь иногда там появлялись девочки – старшеклассницы, приговоренные к учебе в школе Эзра-Фоллс. Я никогда не видел мальчиков-подростков в городской библиотеке Ферст-Систер – за исключением того вечера, когда туда зашел Том Аткинс в поисках меня.
Всем городским мальчишкам, за исключением меня, рекомендовали держаться подальше от публичной библиотеки. Конечно, никакой родитель не пожелал бы своему чаду оказаться в обществе транссексуального борца, заведовавшего библиотекой.
Неожиданно я понял, почему так поздно получил библиотечную карточку; никто из моей семьи никогда не стал бы знакомить меня с мисс Фрост. Это произошло только потому, что Ричард Эбботт предложил отвести меня в библиотеку, а никто в семье не мог возразить Ричарду – и никто не успел отклонить его внезапное и сердечное предложение. Мне удалось познакомиться с мисс Фрост только потому, что Ричард понимал, как абсурдно тринадцатилетнему мальчику в маленьком городке не иметь библиотечной карточки.
– Почти двадцать лет для меня все равно что век, Билли, – сказала мне Элейн.
«Не для меня», — попытался сказать я – и не смог. «Мне кажется, что все это было вчера!» — хотел крикнуть я, но не мог выговорить ни слова.
Увидев, что я плачу, Элейн положила руку мне на бедро.
– Прости, что вспомнила об этой латунной кровати, Билли, – сказала она. (Элейн прекрасно меня знала и понимала, что я плачу не о матери.)
Учитывая, сколько обетов молчания хранило мое семейство, просто чудо, что мне удалось избежать религиозного воспитания, однако женщины из рода Уинтропов не были религиозными. Хотя бы эта ложь миновала дедушку Гарри и меня. Что до Ричарда Эбботта и дяди Боба, я думаю, были моменты, когда жизнь с тетей Мюриэл и моей матерью напоминала религиозный ритуал – требовала не меньшей преданности, чем соблюдение поста, или, к примеру, ночных бдений (когда куда более привычно и естественно было бы спать.)
– Что все находят в этих панихидах? – спросил нас с Элейн дедушка Гарри. Первым делом мы поехали в его дом на Ривер-стрит; я наполовину ожидал, что Гарри встретит нас в виде женщины или, по крайней мере, одетым в платье бабушки Виктории, но он выглядел как обычный лесоруб – джинсы, фланелевая рубашка, щетина. – Не понимаю, зачем живые считают нужным сидеть над телами – ну, перед тем, как перейти к похоронам? Куда могут деться трупы? Почему нужно над ними сидеть? – спросил дедушка Гарри.
Вермонт. Февраль. Никто не собирался хоронить мою мать или Мюриэл до апреля, пока не оттает земля. Я догадывался, что в похоронной конторе дедушку Гарри спросили, хочет ли он провести панихиду; вероятно, это и послужило причиной его тирады.
– Господи, да мы до весны будем сидеть над телами! – вскричал Гарри.
Никакой религиозной службы не планировалось. У дедушки Гарри был большой дом; было решено, что семья и друзья соберутся на коктейли и фуршет. Поминать разрешалось, но никакой «поминальной службы», мы с Элейн не слышали ни слова о какой-либо службе вообще. Гарри выглядел рассеянным и смущенным. Мы с Элейн согласились, что он не похож на человека, только что потерявшего обеих дочерей; скорее он походил на забывчивого старика, который никак не может найти свои очки – казалось, мысли дедушки Гарри витают где-то далеко, и это наводило на нас жуть. Мы оставили его готовиться к «вечеринке»; я не оговорился, он действительно употребил слово «вечеринка».
– Ой-ёй, – сказала Элейн, когда мы вышли из дома на Ривер-стрит.
С тех пор, как я сам учился в Фейворит-Ривер, я впервые приехал «домой» – то есть в квартиру Ричарда Эбботта в Бэнкрофт-холл – в то время, когда шли занятия в школе. Но то, какими юными выглядели ученики, больше ошарашило Элейн, чем меня.
– Не вижу никого, с кем могла бы заняться сексом хотя бы в воображении, – сказала Элейн.
По крайней мере, Бэнкрофт остался мужским общежитием; и без того было непривычно видеть всех этих девочек в кампусе. Как и большинство интернатов Новой Англии, в 1973 году академия Фейворит-Ривер ввела совместное образование. Дядя Боб больше не заведовал приемом учеников. Теперь Ракетка работал в отделе по связям с выпускниками. Не стоило труда вообразить, как добряк Боб с легкостью добивается расположения (и денег) сентиментальных выпускников академии. Боб также наловчился вставлять свои запросы в новостную колонку журнала для выпускников «Вестник Ривер». Он увлекся выслеживанием тех выпускников, которые не поддерживали связей со школой. (Дядя Боб называл свои запросы «Воплями о помощи из отдела „Куда вы подевались?“».)
Кузина Джерри заранее предупредила меня, что в результате рабочих командировок Боб «сорвался с привязи» со своим пьянством, но я считал Джерри последней выжившей женщиной из рода Уинтропов – пусть в ней этот устойчивый ген вечного недовольства и был несколько разбавлен. (Как вы помните, я всегда полагал, что репутация пьяницы, закрепившаяся за Бобом, сильно преувеличена.)
Из других новостей: вернувшись в Бэнкрофт-холл, мы с Элейн обнаружили, что Ричард Эбботт не может говорить, а мистер и миссис Хедли не разговаривают друг с другом. Прекращение коммуникации между Мартой Хедли и ее мужем не стало для меня новостью; Элейн еще давно предсказала, что у ее родителей все идет к разводу. («Никаких скандалов не будет, Билли, – они уже друг другу безразличны», – сказала мне Элейн.) А Ричард Эбботт признался мне – еще когда мама была жива, а Ричард мог говорить, – что они перестали выходить в свет с супругами Хедли.
Мы с Элейн задумались над этим таинственным «перестали выходить в свет». Разумеется, это увязывалось с двадцатилетней теорией Элейн о том, что ее мать влюблена в Ричарда Эбботта. Что я мог добавить, если в свое время я был влюблен и в миссис Хедли, и в Ричарда?
Я всегда считал, что моя мать не заслуживает такого человека, как Ричард Эбботт, и что Марта Хедли слишком уж хороша для мистера Хедли. Мало того, что я не мог припомнить его имя, если оно у него вообще было; недолгая слава мистера Хедли – этой славой он был обязан своей роли политического историка и голоса протеста во время войны во Вьетнаме – что-то вывихнула в нем. Он и раньше казался чужаком в своей семье – отдалившись не только от миссис Хедли, но и от своего единственного ребенка, Элейн, – но теперь отождествление с общим делом (он устраивал антивоенные крестовые походы вместе с учениками Фейворит-Ривер) окончательно разлучило его с Элейн и Мартой Хедли, и он практически не имел дел со взрослыми.
Такое случается в интернатах: время от времени приходит преподаватель, не слишком довольный своей взрослой жизнью, и пытается превратиться в ученика. К несчастью, стремление мистера Хедли стать одним из учеников (по словам Элейн), когда самому ему уже перевалило за пятьдесят, совпало с решением академии принимать девочек. Это было всего за два года до окончания войны во Вьетнаме.
– Ой-ёй, – снова повторила Элейн, но в этот раз добавила: – Когда война закончится, какой крестовый поход возглавит мой отец? Как он задействует всех этих девчонок?
Мы с Элейн не видели дядю Боба до «вечеринки». Я недавно прочел новый запрос Ракетки в свежем выпуске «Вестника Ривер»; после новостей о выпуске шестьдесят первого года, моем выпуске, в рубрике «Вопли о помощи из отдела „Куда вы подевались?“» было размещено очередное жалобное воззвание.
«Как ты там, Жак Киттредж?» – написал дядя Боб. Получив базовую степень в Йеле (выпуск шестьдесят пятого года), Киттредж окончил трехлетний курс в йельской школе драмы; в шестьдесят седьмом он получил степень магистра изящных искусств. После этого мы ничего о нем не слышали.
– Блядь, магистра чего?! – спросила Элейн больше десяти лет назад – когда «Вестник Ривер» получил последнюю весточку от Киттреджа (или о нем). Элейн имела в виду, что он мог получить степень по актерской игре, дизайну, режиссуре, звукорежиссуре, сценарному искусству, театральному менеджменту, техническому дизайну – даже по драматургии и критике.
– Спорить готова, он стал сраным критиком, – сказала Элейн. Я сказал ей, что меня не волнует, кем стал Киттредж; я сказал, что не хочу этого знать.
– Еще как хочешь. Меня так просто не надуешь, Билли, – ответила на это Элейн.
Мы обнаружили Ракетку в гостиной дедушки Гарри, сгорбившимся на диване – практически утонувшим в диване. У меня возникло ощущение, что потребуется целая команда борцов, чтобы поднять Боба на ноги.
– Мои соболезнования насчет тети Мюриэл, – сказал я ему. Дядя Боб привстал с дивана, чтобы обнять меня, и пролил свое пиво.
– Черт, Билли, – сказал Боб. – Исчезают люди, от которых меньше всего этого ожидаешь.
– Исчезают, – осторожно повторил я.
– Возьмем твоего одноклассника, Билли. Кто бы подумал, что Киттредж может исчезнуть? – спросил дядя Боб.
– Ты же не думаешь, что он умер, правда? – спросил я Ракетку.
– Скорее не желает выходить на связь, – сказал дядя Боб, растягивая слова. Слово «выходить» у него прозвучало так, будто в нем было семь или восемь слогов; я понял, что Боб тихо, но очень сильно пьян, хотя поминки только начались.
У ног Боба валялось несколько пустых пивных бутылок; допив (и частично пролив) содержимое очередной бутылки, он уронил ее на пол и ногой ловко задвинул все бутылки, кроме одной, под диван – даже не глядя на них.
Когда-то я задавался вопросом, не отправился ли Киттредж во Вьетнам; было в нем эдакое показное бесстрашие. Я знал, что два других борца из Фейворит-Ривер погибли на этой войне. (Помните Уилока? Я сам его едва помню – удалого Антонио, друга Себастьяна в «Двенадцатой ночи». А Мэддена, тяжеловеса, переполненного жалостью к себе, исполнителя роли Мальволио? Мэдден считал себя «вечной жертвой»; и это все, что я о нем помню.)
Но, по-видимому, дядя Боб, как бы он ни был пьян, прочитал мои мысли, потому что внезапно произнес:
– Зная Киттреджа, готов поспорить, что каким-нибудь образом он отвертелся от призыва.
– Наверняка, – только и ответил я.
– Без обид, Билли, – прибавил Ракетка, принимая следующее пиво от одной из проходящих официанток – на вид ровесницы моей мамы или Мюриэл, с крашенными в рыжий волосами. Она выглядела смутно знакомой; может, она работала с дядей Бобом в отделе по делам выпускников или же (много лет назад) вместе с ним занималась приемом учеников.
– Папа набрался еще до того, как приехал сюда, – сказала Джерри нам с Элейн, когда мы вместе стояли в очереди к буфету. Я знал нынешнюю подружку Джерри; она иногда выступала в стендап-шоу в одном клубе в Гринвич-Виллидж. Она отпускала остроты с каменным лицом и неизменно была одета в черный мужской костюм или в смокинг и свободную белую рубашку.
– Никакого лифчика, – высказала свое наблюдение Элейн – Но рубашка ей велика, и материал непрозрачный. Она просто не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что у нее есть грудь – и как она выглядит.
– А-а.
– Соболезную насчет твоей мамы, Билли, – сказала Джерри. – Конечно, с головой у нее было не все в порядке, но она все-таки была твоей мамой.
– А я соболезную насчет твоей, – сказал я Джерри. Стендап-комик издала лошадиное фыркание. «Что-то морда кирпичом ей в этот раз не очень удалась», – сказала потом Элейн.
– Надо бы кому-нибудь забрать ключи от машины у моего долбаного отца, – сказала Джерри.
Я то и дело поглядывал в сторону дедушки Гарри. Я боялся, что он ускользнет с вечеринки и вернется уже под видом реинкарнации бабушки Виктории. Нильс Боркман тоже посматривал на своего старого партнера. (Если миссис Боркман и была здесь, я либо не видел, либо не узнал ее.)
– Я приглядываю за спиной твоего дедушки, Билл, – сказал мне Нильс. – Если его чудачества выйдут из-под контроля, я сделаю тебе срочный вызов!
– Какие чудачества? – спросил я его.
Но как раз в этот момент дедушка Гарри неожиданно заговорил.
– Ох уж эти девчонки, вечно они опаздывают. Не знаю, где их носит, но они придут. Давайте, ешьте, не стесняйтесь. Еды полно. Девчонки найдут что поесть, когда доберутся сюда.
Гости притихли.
– Я уже сказал ему, что его девочки не придут на вечеринку, Билл. Понимаешь, он знает, что они мертвы – но он просто сплющенная забывчивость, – сказал мне Нильс.
– Воплощенная забывчивость, – сказал я старому норвежцу; он был на два года старше дедушки Гарри, но, похоже, Нильс заслуживал больше доверия по части запоминания – и не только.
Я спросил Марту Хедли, не заговорил ли еще Ричард. Нет, молчит с тех пор, как узнал о катастрофе, сообщила мне Марта Хедли. Ричард часто обнимал меня, и я отвечал на его объятия, но мы не сказали друг другу ни слова.
Мистер Хедли – как обычно – ушел глубоко в свои мысли. Я не мог припомнить, когда в последний раз он говорил о чем-нибудь другом, кроме войны во Вьетнаме. Мистер Хедли прилежно вел список всех новобранцев из Фейворит-Ривер, погибших во Вьетнаме. Я видел, что он поджидает меня в конце шведского стола.
– Приготовься, – шепотом предупредила меня Элейн. – Вот еще одна смерть, о которой ты не знал.
Никакого вступления не последовало – мистер Хедли в них не нуждался. Он был учителем истории; он просто констатировал факты.
– Помнишь Мерривезера? – спросил меня мистер Хедли.
«Только не Мерривезер!» – подумал я. Да, я его помнил; когда я оканчивал академию, он еще не перешел в выпускной класс. Он был менеджером борцовской команды – раздавал борцам апельсины, подбирал разбросанные окровавленные полотенца.
– Только не Мерривезер – только не во Вьетнаме! — вырвалось у меня.
– Да, Билли, боюсь что так, – мрачно сказал мистер Хедли. – И Тробридж, ты был знаком с Тробриджем, Билли?
– Только не Тробридж! – воскликнул я; я не мог в это поверить! Последний раз я видел Тробриджа в пижаме! Киттредж пристал к нему, когда маленький круглолицый мальчик шел чистить зубы. Новость о том, что Тробридж погиб во Вьетнаме, ужасно расстроила меня.
– Да, Билли, боюсь, что так – и Тробридж тоже, – важно произнес мистер Хедли. – Да, увы, и юный Тробридж тоже.
Я заметил, что дедушка Гарри исчез – хоть и не в том смысле, в котором употребил это слово дядя Боб.
– Будем надеяться, Билл, что он не переодеваться пошел, – прошептал мне на ухо Нильс Боркман.
Только теперь я заметил мистера Поджо, бакалейщика – того самого, которому так нравились женские роли дедушки Гарри. Оказалось, что мистер и миссис Поджо тоже пришли отдать дань уважения. Миссис Поджо, вспомнил я, не была в восторге от вида дедушки Гарри в женских ролях. Это открытие заставило меня оглядеться в поисках неодобрительных Риптонов – лесопильщика Ральфа Риптона и его ничуть не менее суровой жены. Но если Риптоны и приходили, они уже ушли, не дожидаясь конца «вечеринки» – как уходили с представлений «Актеров Ферст-Систер».
Я отправился проведать дядю Боба; у его ног скопилось еще несколько пустых бутылок, но теперь ему уже не удавалось нащупать их и закатить под диван.








