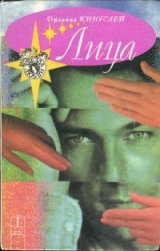
Текст книги "Лица"
Автор книги: Джоанна Кингсли (Кингслей)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
4
Первого Мая все города Советского Союза отмечают важнейший праздник в году – в честь солидарности трудящихся проходят парад и демонстрация.
В этот майский день Женя не шла со своей пионерской дружиной. Накануне Дмитрия выписали из больницы, и она осталась дома, чтобы он не скучал.
– Совсем ненужная жертва, – неодобрительно заметил он. Брат был еще слаб, в основном от того, что был вынужден оставаться без движения.
– Это вовсе не жертва, – в последние две недели, прошедшие со дня суда, Женя потеряла интерес почти ко всему, даже к пионерской организации. Ее постоянно мутило, и она не могла есть. Обеспокоенная тетя Катя каждый день готовила новое лакомство. Женя едва переносила сам запах еды. «Разбередили душу», поставила диагноз тетушка.
После суда Женя вышла из зала вслед за отцом и села в поджидавший лимузин, стремительный черный «ЗИС». Внутри отец обнял ее за плечи и она затихла – пленница его рук и прогорклого запаха, заполнившего спертый воздух внутри машины.
– Все к лучшему, моя красавица, – проговорил он. – Вот увидишь, я устрою тебе прекрасную жизнь, – тяжелая рука похлопывала ее по плечу и Женя чувствовала, как будто молот в наковальню – вдавливают ее в сиденье. Потом похлопывания прекратились, и рука соскользнула с плеча. Весь путь до дома они молчали.
И потом, когда уже вернулись к себе, Женя видела, как Георгий пронес с кухни бутылку водки и стал подниматься в спальню. А к ней с того самого дня, время от времени, стало возвращаться тошнотворное чувство.
– Ты важнее парада, – сказала Женя, укутывая одеялом сидящего в кресле брата. – Предпочитаю оставаться с тобой.
– Это не только парад, Женя, – демонстрация единения трудящихся под лозунгами мира и дружбы, – они сидели в гостиной внизу, изувеченная нога Дмитрия покоилась на скамеечке перед камином. – Он ушел?
– Да.
– Распугивать народные массы?
Женя поежилась. Она знала, как трудно было отцу появляться на людях. Обычно он избегал встречаться с кем-либо, кроме домашних. Но в такие важные праздники приходилось участвовать в манифестациях.
– Постарается где-нибудь спрятаться.
– Лучше бы зарылся в землю! – жестко пожелал Дмитрий. – Чтоб никто больше не увидел его рожу.
– Мне кажется, он и сам этого немного хочет, – Женя не очень ясно представляла, что она намеревалась сказать брату. Утром, когда отец уходил из дома, Женя заметила, что он совершенно пьян, и поняла его настроение. Хотя «настроение» здесь было неподходящим словом.
Скорее – двойное существование, две стороны существа, раздирающие его на части. Но словами она это выразить не могла. Даже себе самой.
– Он слишком страшен, чтобы его звали на трибуну, – продолжал Дмитрий. – Придется идти среди масс. Не очень-то им это приятно.
«А ему?» – подумала Женя, но ничего не сказала вслух. Она сидела на полу рядом с креслом брата.
– Завтрак! – голос тети Кати руладой разнесся по комнате, и она внесла огромный поднос. На нем красовались круги крестьянского сыра и кислое молоко. Женя затрясла головой.
– Ты должна поесть, – взмолилась тетя Катя. Ты ведь это всегда любила, – и она обернулась за помощью к Дмитрию. – Ну, скажи ей, пожалуйста. Исхудала. Ни к чему не притрагивается. Стала маленькой, как птичка, наша Женечка!
– Поест, когда проголодается, – машинально вступился за Женю брат. Но когда Катя вышла из комнаты, озабоченно спросил: – Почему ты не ешь? Как давно это у тебя?
– Что-то в желудке. Сводит…
Дмитрий посмотрел на сестру и насупился. Потом улыбнулся.
– Ты растешь, Женечка. Вот в чем дело. Через девять дней тебе будет тринадцать. Становишься женщиной, – его улыбка стала шире, и он раскрыл ей объятия.
Она бросилась к нему и поцеловала, потом отстранилась:
– Глупый ты! Вовсе и не это!
– Не это? Тогда что же?
Женя снова уселась на полу и уставилась в огонь.
– Из-за суда.
– Над матерью?
Женя молча кивнула.
– Конечно, ты расстроилась. Не нужно было тебе туда идти. И ему нечего было тебя туда тащить. Результат один. Все решили еще до суда.
Ей хотелось бы в это поверить.
– Не думаю, – медленно произнесла она. – Я повела себя по-глупому. Как ребенок. Я могла что-нибудь сказать.
– Нет. – Дмитрий успокаивающе положил ей руку на голову. – Не думай так, Женечка. Политический процесс – дело государственное. И не касается отдельных людей.
Жене захотелось ему все рассказать. Может быть, тогда удастся избавиться от тошноты.
– Папа не… ее не защищал.
– А он и не мог.
Она ошарашенно посмотрела на брата. Дмитрий подал ей пустую миску с ложкой, и она поставила ее на пол. Потом снова подняла на него глаза.
– Георгий Михайлович – член коммунистической партии и отстаивает ее интересы. Он не частное лицо. И на политический процесс является во всей красе своего социального положения. Говорит от его имени и с его высоты. А партия представляет общественный порядок.
– Но ты ведь ее любишь! – вскричала Женя.
– Я – да! Но мама, как и ты, всегда была политически наивной. Она жила для красоты и искусства и не обращала внимания на реальности общественной жизни. Вполне вероятно, что ее могли сбить с толку.
– Так ты думаешь, она виновата? – Женя не верила своим ушам.
– Нет-нет. Ни в каком преступлении она не виновата. Разве лишь в том, что слишком доверяла людям.
– Так за что же ее осудили?
– За то, – голос Дмитрия прозвучал очень устало, – за то, что ее действия могли быть неправильно поняты, может быть, специально, если это соответствовало целям партии.
– Тогда выходит, что партия неправа!
Он слегка улыбнулся сестре.
– Ты совсем как она. Может быть, это оказалось ошибкой. Но такие ошибки станут повторяться вновь и вновь, пока мы не создадим мирное справедливое общество. А на суде не прозвучало слово «еврейка»?
– Нет, я не слышала.
– А сионизм или сионистка?
– Нет.
– Космополитизм?
– Кажется. У меня в голове все смешалось…
– Помоги мне подняться, – мрачно попросил он. – Все то же самое. В деле заговора врачей против Сталина еврейских медиков обвинили в космополитизме. Тебе нужно учиться читать между строк, Женечка, и слышать слово, которое подразумевается, но не произносится вслух.
Она принесла брату костыли и следовала по пятам, пока он карабкался по лестнице, потом помогла устроиться в кровати, поправила подушки и поцеловала в лоб.
– Хоть ты и мой брат, но иногда мне кажется, что я тебя не знаю.
– Знаешь, Женечка, – он криво усмехнулся, – как и всякого другого. Я – оптимист и циник. Социализм – оптимистический взгляд на вещи, а капитализм нет. – Капитализм – цель идеальная, и иногда я сомневаюсь, что нам удастся ее достичь, если мы не избавимся от нашей твердолобости и зашоренности. А теперь – спать.
Дмитрий закрыл глаза. Несколько минут Женя стояла над ним, пока не услышала, что дыхание брата стало глубоким и ровным. Тогда она ощутила, что проголодалась, и побежала вниз на кухню.
Утром в день рождения Жени отец сел завтракать в свежевыглаженной рубашке, с тщательно расчесанными волосами. Появившись в комнате, он остановился и, волнуясь, спросил:
– Можно тебя поцеловать? Сегодня такой важный день.
Она не могла отказать и подставила щеку. Подойдя к стулу, Георгий выложил на стол завернутый в газету сверток.
– Тебе, – застенчиво произнес он.
Отец следил, как она открывала пакет, до последней секунды боясь, что его выбор оказался неудачным, что не подойдет размер, что подарок будет дочери не по вкусу. С тех пор как родилась Женя, он в первый раз покупал ей подарок. Раньше ими занималась Наташа.
К тринадцатилетию дочери Георгий отправился в иностранный магазин, смело двинулся по лестнице, неуклюже тряхнул головой, поймав на себе чей-то взгляд. Для него это было кошмаром, но он проделал все это для Жени.
– Чудесно, – произнесла она. – Спасибо.
Георгий вспомнил, как дочь подбежала к Бернарду и поцеловала его в щеку.
– Правда? – беспокоился он. – А цвет подходящий?
– Хороший, – блузка была сочного розового цвета, очень красивая, но рыжеволосая Женя избегала оттенков красного. – Вечером я надену ее.
Отец улыбнулся обещанию дочери.
Он предложил организовать праздник дома. Сначала Женя отказалась, не решаясь пригласить к себе друзей. Но Георгий настоял, и в конце концов она позвала Веру, невзначай бросив, что отец будет дома; и Маришу Александрову, чьи родители были приятелями отца.
– У меня для тебя есть кое-что, – он снова полез под стул и вытащил странный предмет из черного металла.
– Это от станка, с фабрики, где я работал до войны. Товарищ подарил мне это после того… в знак уважения, – он застеснялся, предлагая дочери такой необычный подарок.
Женя повертела предмет в руках: металлическая болванка с выступающим стержнем. Она положила подарок на стол, подошла к нему и поцеловала в щеку.
– Спасибо, красавица, – он потянулся, чтобы обнять дочь.
– Мне пора в школу.
– Да. Праздник будет вечером. А теперь беги. Спасибо тебе.
Она выбежала из кухни, задержавшись на пороге, чтобы махнуть рукой. Но через несколько минут вернулась, схватила со стола деталь станка и положила в школьный портфель. Она уже была далеко, а Георгий все еще смотрел ей вслед, безотчетно перебирая толстыми обрубками пальцев розовую блузку.
Девочки пришли вечером. Обе надели чулки, те, что Женя дала им в школе. Она показала, как их закреплять, наворачивая верх нейлона на копейку, пока чулок не облегал плотно бедро.
Входя, каждая из подруг преподнесла Жене подарок. От Веры она получила книгу с картинками диких цветов, от Мариши – маленький флакончик одеколона. Аромат оказался резким, приторным, предназначенным скрывать запахи, а не утонченным, как у матери. Но Женя поцеловала подругу и провела в гостиную.
– Это мой отец, Георгий Михайлович, – представила она; хотя их родители и знали друг друга, Мариша никогда не была в их доме.
Мариша не дрогнула, а Вера приветствовала Георгия как старого знакомого. Женя удивилась этому. Георгий, как всегда, выглядел ужасно. Неужели подруги прощают ему внешность, потому что прощает она?
Спустился Дмитрий, и Вера покраснела. Она взяла протянутую руку брата и держала бесконечно долго, как будто вовсе не хотела отпускать.
– Проклятые лошади, – пробормотала она, глядя мальчику в глаза, а не на ногу. – Женя мне все рассказала…
– Вера, – с улыбкой отвечал он, – если тебя так пугают лошади, обещаю не приближаться больше ни к одной.
Вера захлопала ресницами. Женя заметила, как под хлопчатобумажным платьем выделяются ее полные груди.
– Моя подруга Мариша, – представила она другую девочку недовольным тоном.
– Рад познакомиться, – обратился Дмитрий к живой блондинке, чей маленький курносый нос она сама называла «носиком».
Нынче вечером Дмитрий – само очарование, подумала Женя, очень привлекателен в черной рубашке, подчеркивающей бледность, делающей его похожим на поэта.
Женя надела новую блузку, подаренную отцом, и юбку, сшитую тетей Катей: белые фиалки на темно-синем фоне. Она старательно расчесала волосы, и они сияли, свободно ниспадая на плечи. Женя чувствовала себя красивой и счастливой. Вечер проходил на редкость приятно, на что она даже и не смела рассчитывать.
Все пили вино, даже тетя Катя, хотя обычно плохо отзывалась о вине и водке. Но этим вечером она казалась беззаботной и лицо ее рдело от удовольствия, видя, как гости опустошают тарелки и просят добавки. Она надела лучшее платье в цветочек с оборками на рукавах и бусы из темного янтаря с серебряной застежкой. В конце ужина тетя Катя внесла торт и поставила перед Женей.
– Пусть все неожиданности в твоей жизни будут только приятными, – сказала она, подавая ей нож.
Ничего не подозревающая Женя начала разрезать торт. Внутри было белое мороженное, начиненное цветными комочками замороженных фруктов. Именинница расплылась в улыбке:
– Сегодня лучший в моей жизни день рождения.
Но обнимая Катю, Женя вспоминала такой же праздник год назад. Мама нарядилась в красное платье с пламенной юбкой и, когда танцевала, юбка взлетала выше колен. Но Наташа не обращала внимания, кружилась все быстрее, юбка в вихре обнажала ее бедра, а она, откинув голову, весело смеялась, и ее смех и вихрь юбки переполняли комнату.
Женя поймала взгляд Дмитрия и поняла, что и он тоже вспоминает об этом.
После торта Георгий поставил на патефон пластинку, и когда хор советской армии затянул любимую русскую народную песню: «Ты постой, постой, красавица моя…», – живо подхватил:
– «Дозволь наглядеться, радость, на тебя…»
Остальные присоединились к нему – любовную песню написал уходящий на войну солдат. «Дозволь наглядеться», пока я не вернусь, и мы не заживем счастливо. Дмитрий придвинулся к Вере и положил ей руку на плечо.
– Сынок, – окликнул его Георгий. – Помнишь, в прошлом году на день рождения Жени мы плясали, как два казака.
Тогда они плясали, взявшись за руки, на корточках, высоко подбрасывая каблуки. «Еще ничего не случилось, – подумала Женя. – Был мир. Они еще даже не поссорились».
– Помню, – ответил Дмитрий и снял руку с Вериного плеча. Несколько мгновений никто не мог произнести ни слова: радостное настроение померкло.
– Ты будешь снова танцевать, – повернулась к Дмитрию Вера. – Ведь случаются же чудеса.
Он попытался улыбнуться, но его лицо оставалось мрачным.
Женя безнадежно взглянула на подруг. Праздник был испорчен.
Сколько Женя себя помнила, их семья каждый год две недели проводила на даче – загородном домике на берегу озера, который отцу предоставляли, вместе с ЗИСом, в качестве признания служебной должности отца. В это лето Дмитрию предстояло ехать на костылях, и Женя гадала, сможет ли он переплывать с ней озеро?
Но когда настало время уезжать из города, Дмитрий объявил, что он остается.
Встревоженная тетя Катя посмотрела на него, не зная, продолжать ли ей собирать его чемодан.
– Как же так? – воскликнула она, вынимая еще одну рубашку из шкафа.
– Перестань, – приказал ей Дмитрий. – Я же сказал, что не поеду.
Кате жизнь представлялась размеренным распорядком, и нарушение его грозило хаосом. Положив рубашку обратно в шкаф, она поспешила вон, известить Георгия.
Через минуту отец был уже у сына в комнате:
– Что это ты затеял, почему не хочешь ехать? – закричал он.
– Предпочитаю остаться здесь. Буду заниматься, – холодно ответил Дмитрий, но дрожь в голосе выдала его волнение. Со дня несчастного случая он не ходил в школу, но усиленно занимался дома и по итогам года вышел на третье место в классе.
– А я тебе говорю, что поедешь!
– Зачем? Что я там буду делать? Заниматься спортом или болтать с высокопоставленными соседями? Нет уж, лучше я здесь останусь.
– Нельзя! Кто тебе здесь будет готовить? – в запале Георгий ухватился за первый попавшийся предлог.
– Я и сам себе приготовлю, как все другие люди. Не хочу, чтобы мне кто-нибудь прислуживал, и дача мне тоже не нужна. Сколько горожан имеют дачи? – голос брата опасно задрожал, и Женя крепко зажмурила глаза на своей половине, как будто этим жестом могла предотвратить ссору.
– Будь она проклята, эта дача, – кричал Дмитрий. – Привилегии создают элиту – бедствие рабочего класса – и угрожают истинным целям…
– Довольно! – проревел Георгий. – В шестнадцать лет ты уже знаешь ответы на все вопросы? А я говорю, что ты невежда. Не понял даже основного закона социализма – признания власти и подчинения ей. Проку из тебя не выйдет. Будешь противиться отцу, не подчиняться власти, – станешь одним из тех проходимцев и злопыхателей, которые засоряют наше общество, пока оно не вырвет их с корнем!
– Ты уже это проделал с моей матерью.
Наступило зловещее молчание. Женя тряслась по другую сторону перегородки, потом услышала, как отец медленно и раздельно произнес:
– Я умываю руки, – потом различила тяжелые неровные шаги, – знакомая тошнота снова овладела желудком.
Следующим утром она сидела в машине между отцом и тетей Катей и всю дорогу в деревню не сказала ни единого слова.
Но на даче напряжение стало спадать. Каждое утро она купалась в озере, заплывала не так далеко, как с Дмитрием, но ежедневно проводила в воде один-два часа, и размеренный ритм гребков уносил прочь заботы.
В полдень или ближе к вечеру они ходили с отцом на прогулки и, несмотря на его медленный шаг, прогулки ей нравились. Напряженности между ними не осталось. Они обсуждали растения и деревья, которые встречались на пути. Георгий указывал на птиц над головой и называл их имена. Иногда гуляли молча, но им было хорошо друг с другом. Обычно Женя рвала цветы и дома составляла из них утонченный букет.
На прогулках в лесах и полях отец и дочь были постоянно одни. На пятый день Георгий принялся рассказывать случаи из своего детства и о своих родителях – дедушке и бабушке Жени, о них она прежде ничего не слышала.
Вечером они играли в карты или он читал дочери вслух из Пушкина или современных авторов, таких, как Алексей Толстой. Во время чтения он пил только воду, хотя не проходило дня, чтобы он не выпил поллитра, а то и больше, водки. Но в деревне Георгий делался мягче и не бесился от ярости или от горя.
Дни тянулись мирно, и Женя была довольна. Но в памяти она возвращалась к другому лету, когда вся их семья была здесь вместе, и тогда чувствовала себя покинутой и одинокой. Она старалась заставить себя не вспоминать о Дмитрии, по которому сильно скучала, и при Георгии никогда не упоминала ни о нем, ни о матери.
Но на девятый день в деревне, когда дождь не переставая лил уже тридцать шесть часов, Женя почувствовала, что ей не сидится на месте.
– Хорошо бы Дмитрий был с нами, – непроизвольно вырвалось у нее.
Отец перестал качаться на стуле и отложил номер «Правды». И она пожалела, что не прикусила язык.
– Я бы тоже этого хотел, – проговорил он.
– Ты?
– Мы с сыном слеплены из одного теста, – задумчиво продолжал Георгий. – Когда я смотрю на него, то вспоминаю себя, каким я был когда-то.
– Но вы так сильно ругаетесь!
Отец кивнул:
– Схожие люди яростней всего ругаются друг с другом. Две кошки дерутся отчаяннее, чем кошка с собакой, – он взял газету с колен, а Женя уставилась в сумрачную пелену дождя, бьющего в стекло.
– В истории много примеров, – Георгий снова отложил газету, – примеров того, как родственники относятся друг к другу более жестоко, чем незнакомцы.
– Но ты любишь Дмитрия?
Он странно посмотрел на нее.
– Как же я могу не любить? Он ведь и есть я сам.
Отец вернулся к газете, а дочь опять принялась смотреть на дождь – его слова отдавались в ее голове. Женя не понимала, как обаятельный юноша Дмитрий и отец могут быть одним человеком. Они казались такими разными – как ночь и день, как солнечный свет и дождь. Мысленно она попыталась поменять их лица – отец симпатичен, а Дмитрий изувечен – бесполезно, видения не получилось. Все, что она смогла вообразить, – молодого человека, Георгия в юности, и представить, что он все еще живет где-то внутри отца, постоянно стараясь выйти наружу, и всегда вынужден отступить обратно.
Вернувшись с дачи, они увидели, что Дмитрий сильно похудел. С тетей Катей он поздоровался с явным облегчением, а на сестру буквально накинулся, рассказывая о том, что успел прочитать. С отцом он держался безлико, но вежливо, и весь остаток лета оба избегали ссор.
Женя снова работала со своей пионерской дружиной, помогая строить детский сад, его должны были открыть осенью. В свободное время ходила к Марише, ставшей ее лучшей подругой. Про Веру она решила, что та очень игрива. Это заключение она сделала, обнаружив, что Дмитрий проявляет интерес к ее приятельнице.
К Вере – первой он направился в гости, поменяв костыли на палочку. Дмитрий находил Веру очаровательной и, несмотря на возраст, развитой, к тому же, как их мать, обладающей артистическим налетом. Телом она уже созрела и, как и юноша, была наполовину еврейкой. Девушка – прямо для него.
Как бы он хотел быть снова здоровым, танцевать с ней, поднять на руки, понести не хромая. Может быть, думал он, глядя на ее округлые бедра под цветастым хлопком, не следовало так поспешно отказываться от предложения американца. Его «друзья» могли бы вылечить его, устранить хромоту, сделать походку мужественной. Он обязан был попытаться – для Веры, не говоря уж об обществе, которому требовались здоровые люди.
Но когда Бернард в следующий раз появился в их доме, шел уже сентябрь, Дмитрий находился в школе и не смог его увидеть.
Промышленник появился у них в середине дня, по срочному делу – он хотел предупредить Георгия о предстоящих изменениях в партийном руководстве. На Западе поговаривали, что героя войны маршала Жукова вскоре отправят в отставку.
– Злостные слухи, – отозвался Георгий, но холодок пробежал по спине, и он почувствовал, как заныли обрубки пальцев.
– Георгий Михайлович! – резко заговорил американец. – Я не намерен тратить время на бесцельные пререкательства. Я сам рисковал, приходя сюда. Поэтому перестаньте повторять, как попугай, положения из партийной программы.
– Как вы смеете так разговаривать со мной в моем собственном доме, – от злости на коже Георгия появились мурашки.
– Времени мало. Выслушайте же меня, – Бернард стоял посредине гостиной, отказавшись даже от чашки чая, чтобы не тратить время. Хозяин сидел прямо пред ним.
– Что вам нужно, – прямо спросил он. – Только не рассказывайте, что пришли сюда во имя «дружбы».
– Поверьте, дружеские чувства я и в самом деле к вам испытываю. Но ответ вы знаете и сами. Я серьезно занялся продажей сельскохозяйственной техники и надеюсь, что дело будет доведено до конца, и я получу вознаграждение в соответствии с условиями, которые мы с вами разработали. Это ясно?
– Вполне. Ваши «дружеские чувства» произрастают из жажды наживы.
– Какой толк в этих пререкания? Никто из нас не хочет, чтобы дело попало в дурные руки. В лучшем случае вы предстанете перед судом по уголовному делу о похищении икон. А можете исчезнуть без следа, если мой заем будет расценен, как подкуп. Это будет означать, что вы воспользовались своим положением в партии и, предав страну, продались западным империалистам.
Георгий вскочил и принялся расхаживать по комнате: от окон к камину, от камина к окнам – пальцы заложенных за спину рук невыносимо ломило.
– А вы? Вы потеряли доверие своего правительства. Вы провалили контракт, не говоря уж о том, что собирались присвоить себе несметные богатства.
– Верно, – легко согласился американец. – А теперь, когда мы высказали вслух то, что мы знаем друг о друге, не вернуться ли к нашему делу. Время не терпит.
– Признаю… – Георгий внезапно остановился так близко от Бернарда, что тот машинально отступил назад. – У меня и у самого возникли кое-какие подозрения, но мне негде было их проверить. Тем не менее я предпринял определенные шаги, – он пихнул американца в грудь. – Не спрашивайте, какие это были шаги. Могу только сказать, что я принял меры, чтобы дело не погибло, если… если со мной что-нибудь случится. Запомните слово «Лотко» – не гадайте, что оно значит, оно не значит ничего – и будьте готовы к отплытию.
Бернард слегка коснулся плеча Георгия:
– Извините, что недооценил вас. Я вам очень благодарен. Очень. Могу и я сделать что-нибудь для вас?
Георгий почмокал губами, минуту помолчал и быстро начал:
– Если что-нибудь подобное произойдет, я прошу вас защитить моих детей. Все продлится недолго – несколько месяцев. Полагаю, нынешняя политика будет заключаться в установке на окна решеток – борьбе против «интернационализма», рассчитанная реакция на ситуацию в Югославии, временное изменение курса. Будут порваны все связи с Западом, начнется преследование людей, известных дружескими отношениями с иностранцами. Думаю, меня уберут с поста, может быть, вышлют из Ленинграда, но лишь на некоторое время. Когда положение в Югославии «нормализуется», я снова окажусь на своем месте.
Но сейчас все будет обставленно так, как будто со мной разделались навсегда, в назидание тем, кто подумывает о панибратстве с Западом. Дети будут объявлены сиротами, и их могут взять на попечение государства, – Георгий остановился, собрался с духом и, взяв обе руки Бернарда, попросил: – Позаботьтесь о детях. Защитите их, умоляю вас.
Все случилось так неожиданно – даже способность Бернарда моментально схватывать ситуацию не позволила ему сразу же осознать просьбу Георгия. Несколько минут он постоял, размышляя:
– Дмитрий никогда не примет моей защиты.
– Может быть, он будет вынужден ее принять.
– Но ведь ему шестнадцать. Юноша достаточно взрослый для того, чтобы государство оставило его в покое.
– Но Жене только тринадцать. Еще девочка. За ней должен кто-нибудь приглядывать, и она вас обожает.
Бернард вспомнил тот вечер, когда она с жадностью набросилась на еду, ее сверкающие золотисто-рыжие волосы, сияющие жизнью глаза. А когда он подарил ей чулки – такой обыкновенный подарок – как она подбежала его поцеловать!
– Девочка мне нравится, – он осекся, опасение внезапно вырвалось наружу. – Но у меня никогда не было детей и я их не понимаю.
Бернард почувствовал, что Георгий смотрит на него почти с жалостью.
– И все же вы должны сделать все, что можете.
Решение пришло помимо его собственной воли. Бернард не мог припомнить, чтобы с ним случалось такое раньше.
– Вы можете вывезти их из страны, – продолжал Георгий.
– Похитить? – на секунду идея захватила американца. Необычное дело. Вызов. Потом он стал думать о последствиях. – А если вы будете в ссылке дольше, чем рассчитывали? Предположим, год или даже больше.
– Маловероятно.
– А все же если это произойдет?
– Мне больше не к кому обратиться, – просто ответил Георгий. – Иконы начнут поступать в течение недель после моего ареста, если он состоится. На ящиках будет канадский штемпель, и в них упакуют продукты питания и текстиль. Но в каждом будет полое пространство.
– Для иконы?
– Да.
– Лотко – мой пароль?
– Да. Вы получите Георгия Победоносца, Розовую Богоматерь и изумрудный крест.
– Изумрудный крест? – это было больше того, на что он рассчитывал. Этот крест стоил бы на открытом аукционе, по крайней мере, миллион, хотя Бернард и не собирался его продавать.
– За детей. Хотя бы за Женю, – Георгий прошел в кабинет и налил по стопке коньяку. – Пока я буду в ссылке, вас будут вознаграждать за опекунство, – бесстрастно заметил он, подавая напиток. – Сейчас я занимаюсь тем, чтобы вам переправили Киевскую Богородицу.
Рука Бернарда дрожала, когда он потянулся за коньяком. Киевская Богородица, с ее таинственной улыбкой, была Моной Лизой среди русских икон, наиболее ценной из них.
Георгий посмотрел американцу в лицо:
– Я вижу, мое предложение вас заинтересовало, – и поднял стопку с коньяком.
Бернард поднял свою и чокнулся с Георгием:
– Решено.
Вскоре после визита американца, хотя дети об этом и не знали, в доме все стало меняться. Первым заметил это, Дмитрий: отец был расстроен, по ночам слышались его тяжелые шаги, в воздухе витало напряжение. Брат ничего не сказал Жене, чтобы не беспокоить, да и рассказывать было особенно не о чем, но впечатление, что что-то не в порядке, не проходило. Дмитрий чувствовал, что в комнаты просачивается нечто неопределенное, но угрожающее.
Однажды, три недели спустя, Женя вернулась в слезах, потому что родители Мариши запретили ей приходить в гости к дочери. Они поспешно прошептали ей об этом и извинились, говоря, что у них нет выбора.
С того времени и Женя поняла, что в доме что-то не так, и стала бояться ночных кошмаров.
В последнюю неделю ноября их разбудил резкий стук в дверь, треск дерева и крики. Женя выскочила в коридор, Дмитрий и тетя Катя были уже там и стояли, взявшись за руки. Она заметила, что отец одет в костюм, как будто собирался на улицу.
– Оставайтесь на месте, – сурово произнес он. – Что бы ни произошло, оставайтесь на месте.
Дверь подалась и с треком растворилась.
– Георгий Михайлович Сареев? – выкрикнул резкий голос.
– Черт возьми, вы прекрасно знаете, что это я, – закричал он в ответ. – И нечего было ломать дверь, – он начал медленно спускаться по лестнице, держась очень прямо, с военной выправкой.
Когда отец спустился до половины лестницы, сверху его уже не было видно. Только послышался все тот же голос:
– У меня есть приказ…
А потом лишь скрип петель тяжелой входной двери.
Через десять дней постоянных усилий Бернарду удалось добиться разрешения на выезд Жени поездом на Запад. Как он и предсказывал, Дмитрий ехать отказался. Причины были отчасти политические, отчасти сентиментальные. Везде, кроме родины, он будет чувствовать себя чужим, сказал он американцу, и к тому же сочтет себя трусом, если улизнет на Запад. Ленинград означал для него все: общество и Веру. Верины родители, Мальчиковы, предложили ему койку в своей маленькой квартире, если его и тетю Катю выгонят из дома.
А будущее тети Кати представлялось неопределенным. С момента ареста хозяина она постоянно плакала: о себе, о детях, о бедах страны с тех пор, как она отказалась от Бога.
Дмитрий пытался утешить сестру. Он говорил, что Бернард все сделает для нее, напомнил, в какое восхищение она пришла после первой встречи с ним, уверял, что она полюбит своего благодетеля.
– Я не хочу ехать, – всхлипывала Женя, прижимаясь к брату. – Ты – все, что у меня осталось. Я не хочу расставаться с тобой. Не хочу.
Он прижимал ее, держа на коленях, уговаривал, как маленькую, а сам еле сдерживался, чтобы не расплакаться. Но Дмитрий знал, при себе ее удержать не удастся, а из страны он никогда не уедет.
– У нас нет выбора, – нежно повторял он, поглаживая ее по волосам, стараясь, чтобы пальцы запомнили прикосновения.
Утром 8 декабря 1957 года Женя села в поезд, отправляющийся в Финляндию. Все ее добро вместилось в два небольших чемодана, а выездные документы она хранила в матерчатой сумочке, перевязанной тесьмой.
Валил сильный снег, когда поезд тронулся от платформы вокзала, и через несколько секунд Дмитрий и Катя скрылись из глаз. Все было ослепляюще белым: ни силуэтов, ни форм, только падающий снег и ее рыдания, сливающиеся со стуком колес, набирающих скорость.








