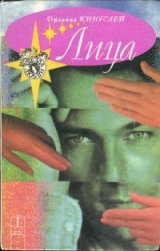
Текст книги "Лица"
Автор книги: Джоанна Кингсли (Кингслей)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
26
Пасхальные каникулы в Бостоне – такого одиночества Жени еще никогда не испытывала. Не к кому было пойти, не с кем было даже поговорить. Хотя она и оставалась в дружеских отношениях с Тору и Бейкерсфилдом – ее бывшими партнерами по анатомичке – ни с кем из них в отдельности она даже не говорила. Ее единственным близким другом был Пел, а семьей – семья Вандергриффов.
Теперь не осталось никого, и Жени не могла развеяться работой. Она начала сомневаться в правильности своих решений. Вместо того чтобы сидеть в скучной комнате, обложившись книгами и статьями, она могла бы жить в собственном доме в Джорджтауне, окруженная людьми и заботами любящего мужа. В Пасхальное воскресение они пошли бы на лужайку к Белому Дому смотреть, как дети катают яйца. А вместо этого приходится брести мимо закрытых магазинов одной, разыскивая ресторан, чтобы пообедать. Но и есть она не могла. За столиками Жени оказалась единственной женщиной без спутника – кругом ее окружали семьи – и ей казалось, что люди смотрят на нее с жалостью.
Это было хуже всего. Ей захотелось позвонить Пелу, услышать его голос. Много раз рука тянулась к трубке, пальцы набирали вашингтонский код, но в конце концов она опускала трубку на рычаг. Что она скажет ему? Было бесчестно заключить брак и разрушить его. Но она могла бы восстановить его и сейчас, если бы захотела.
Оглядываясь на прошлую жизнь, Жени видела одни обломки, точно яичная скорлупа, усеивающая тропинку от детства: осколки отношений, разорванные семейные и дружеские связи, лишь воспоминания после расставаний и смертей.
Она решила, что вернется к Пелу, сделается его настоящей женой, станет поддерживать в работе, управлять домом, родит детей. Детей?
Она вспомнила Синди, ясно увидела ее лицо. Маленькое несчастное ущербное личико. Ребенка, хотевшего жить в мышиной норке.
Не может она вернуться к Пелу. Во всей путанице ее жизни одно оставалось неизменным. Если она не станет стремиться к цели, вся прошлая жизнь покажется легкомысленной. Если бросится в распростертые объятия Пела, предаст и отца, и саму себя.
Жени приняла решение вскоре после пасхальной полночи. А с ним пришло и другое. Ей нужно было открыть нечто в себе самой. Особенно после того, как Пел заявил, что он больше не чувствует себя мужчиной. Неужели с ним это сделала она? Знает ли она, что значит быть женщиной?
Она набрала номер коммутатора:
– Я хочу послать телеграмму за рубеж. В Израиль.
Жени прилетела в Израиль 3 июля. Ответ матери пришел через два дня после ее телеграммы, и Жени заказала билет на 7 июня до Иерусалима. Пятого в Израиле разразилась война, и все рейсы были отменены. Жени жадно следовала за новостями, в первый раз в жизни регулярно слушала утренние и вечерние новости, читала репортажи в газетах. Через шесть дней израильтяне отвоевали свою территорию, и война прекратилась.
Только шесть дней. Через три недели в иерусалимском аэропорту Жени почувствовала продолжающееся кипение. Толпы вооруженных солдат. Они улыбались и окликали ее по-английски и на иврите. Она улыбалась им в ответ, выходя из терминала и садясь в автобус, который должен был увезти ее на север, где неподалеку от сирийской границы в кибуце жила мать.
Окна были открыты, но ветерок не облегчал нестерпимой жары – иссушающей и прожаривающей насквозь. Пыль покрывала кожу и волосы, проникала под одежду. Губы потрескались и спеклись, как русла рек, которые они проезжали.
Пейзаж большей частью был однообразен: каньоны и кратеры, мили пустыни, выжженные солнцем россыпи камней. «Земля не изменилась здесь со времен Моисея», – думала Жени. Но временами они проезжали военные машины и черные круги выжженной почвы, обозначавшие места бивуаков, вокруг которых были набросаны ящики из-под вооружения.
– Смотрите, – мужчина, сидевший рядом, толкнул ее локтем и указал в окно. Жени увидела два развороченных танка, наполовину занесенных песком, как будто кто-то предпринял нелепую попытку их похоронить. – Египетские. Не было еще времени их убрать.
Под слоем пыли проступала прожженная солнцем кожа мужчины, на фоне которой сверкали глаза цвета аквамарина.
– Меня зовут Дан, – он протянул ей руку.
– Жени, – рукопожатие оказалось крепким, на Жени он смотрел без улыбки.
– Ваш первый приезд? – спросил Дан с британским акцентом.
– Да.
– Немного опоздали. В прошлом месяце застали бы стрельбу.
Как будто в ответ на его слова раздался взрыв. Автобус вильнул с дороги. Солдаты подхватили винтовки и высыпали из дверей, вслед за ними вышли пассажиры и поспешили к укрытиям. Дан потянул Жени за руку к задней двери и заставил вместе с собой заползти под автобус. Он лежал рядом, широко раскрыв глаза, и не проявлял ни малейшего страха.
Жени услышала выстрелы, еще один взрыв и какие-то звуки, которых определить не смогла. Распластавшись на горячем песке, она закрыла глаза. Жара обволакивала, горячий воздух удушал. Жени почувствовала, что задохнется, прежде чем в нее угодит пуля. Уши горели, сердце колотилось – громко, как барабан, – и это был единственный звук, который она слышала.
А потом она поняла, что вокруг наступила тишина – ни взрывов, ни свиста осколков. Она открыла глаза. Дан молча, не двигаясь, смотрел на нее. Он едва заметно кивнул, давая понять, что опасность миновала, и стал выбираться из-под автобуса, таща за собой и Жени.
Они отряхнулись – тучи песка хлынули с одежды – и вновь сели в автобус. Другие пассажиры тоже выходили из укрытий и, счистив пыль с одежды и тела, влезали в двери. Заняв места, тут же начали переговариваться друг с другом, и говор их казался Жени непринужденным, даже веселым.
– Такой уж у нас климат, – объяснил Дан. – Арабский ураган. Нужно привыкать.
Жени поняла, что дрожит. Автобус тронулся в путь.
– Кто-нибудь ранен? – спросила она.
– Не думаю. Кажется, мина. Осталась с прошлого месяца. Могла быть и нашей, – он пожал плечами. Уклоняться от смерти стало его привычкой.
– Вы сражались в войне? – спросила Жени.
– Конечно. У нас все сражались. Весь Израиль – одна армия. Каждый гражданин – солдат. Он говорит на разные голоса, но смысл всегда один: «Верните нам наши земли».
– Вы должны очень гордиться, – проговорила Жени.
В автобусе, громыхающем на все лады, царило возбуждение. Возбуждение уцелевших от смерти? Или просто веселье при виде, как вещи приходят в обычный порядок? Что бы ни ощущала Жени, она чувствовала, что подвергалась экзамену и теперь имеет право находиться здесь.
– Гордиться? Конечно, – Дан распрямил плечи, взгляд устремился вперед. – Я был с Даяном. На третий день мы вернули Древний Город Иерусалим – святейшую из наших святынь. Так сказал Даян. Я не верующий, говорил он, но это не имеет значения. Соединимся в Иерусалиме! – он повернулся к Жени, и на его лице внезапно вспыхнула улыбка. – Каждый из нас почувствовал, как будто мы все обрели прошлое.
Жени откинулась на спинку сиденья. В этом и была ее цель поездки в Израиль – повидаться с матерью и, может быть, вернуть то, что было потеряно.
Дан сошел перед ней, на восточной оконечности Галилейского моря. Кроме солдат, Жени осталась единственной пассажиркой в автобусе, когда он прибыл на конечную станцию.
Автобус встречала женщина среднего роста, с темными волосами, подернутыми сединой. В ее поведении сквозила неуверенность или беспокойство. Увидев ее, поняв, кто она должна быть, Жени почувствовала желание соскользнуть с сиденья, спрятаться и не выходить из автобуса. Но когда страх приутих – когти огромной птицы отпустили сердце – она уже знала, что поднимется, возьмет багаж, соскочит с подножки и сделает шаг навстречу незнакомке, которая когда-то была ее матерью. Оставалась ею и теперь. Биологической матерью: женщина в бесформенных одеждах, тискающая руки. Десять лет назад – больше: десять с половиной – в январе 1957 года, она убежала от них.
Направляясь к ней, Жени заставила себя натянуто улыбаться. За несколько шагов она разглядела глаза – знакомые голубые глаза с косинкой, как у Дмитрия.
Наташа, казалось, приросла к земле, а Жени продолжала подходить: высокая, полногрудая женщина с блестящими волосами цвета ореха. Наташа бросилась к ней, чуть ли не прыгнула.
– Дочка, – шепот был едва различим и прозвучал как вопрос.
Жени поставила чемоданы и кивнула. Она никак не могла вспомнить, как по-русски звучит «мать».
Потянувшиеся было к ней руки безвольно упали:
– Женечка, ты здесь.
И снова Жени кивнула, раздумывая, расплачется ли мать. Ее глаза были сухими и изучающими: она выискивала следы слез на лице Наташи.
– Пойдем. А это я понесу, – рука Наташи потянулась к чемоданам.
– Нет, не надо, – Жени одновременно взялась за ручку, и их руки встретились. От прикосновения – ее ледяная улыбка растаяла. – Здравствуй, мама, – но прежде чем Наташа успела ее обнять, она подняла чемоданы и застыла в ожидании, когда мать покажет, куда идти.
Они шли рядом, и Жени заметила, что у матери совсем другая фигура. Наташа была ниже и жилистее. Как Дмитрий. Мать и сын походили друг на друга, а она пошла в отца.
Дома были грязновато-желтыми, прожаренными солнцем, как и все вокруг, казались частью этой местности, словно гряда камней. Там и сям мелькали полоски зеленого – сады или посевы. К тому времени, как они подошли к дому, где Жени предстояло остановиться, ее руки горели огнем, оттянутые под весом чемоданов, но она не позволила себе ни разу остановиться и передохнуть. Была полна решимости показать свою силу.
– Вот твоя комната, если тебе подойдет.
Жени поставила чемоданы и согнула руки, потирая локти. Комната оказалась чистой и строгой, как спальня в студенческом общежитии: мебель только та, что была необходимой, и никаких украшений, кроме покрывала на кровати с арабским рисунком.
– Спасибо.
Мать все еще явно нервничала и с трудом подбирала слова:
– Хочешь принять ванну? Или душ?
– Душ как раз то, что надо, – Жени вспомнила горячий песок под автобусом. Она все еще ощущала его кожей – месиво, в котором поджаривалась.
– Хорошо. А потом поешь? Или сначала отдохнешь? Поездка была утомительной?
Да, она слишком устала, слишком ей было жарко и неудобно, чтобы рассказывать о путешествии, о взрывах. В эту минуту Жени хотелось побыть одной.
Наташа принесла полотенце, мыло и маленький тюбик с желтым шампунем и, не сумев скрыть облегчения, вышла из комнаты.
Жени медленно разделась. Сон, казалось, вот-вот пересилит желание вымыться. Обнаженная, она вошла в душ и открыла кран. Напор оказался слабым. Тонкие струйки коснулись руки, прокладывая в запекшемся песке бороздки. Жени захотелось оказаться где-нибудь еще, в более удобном месте с современной сантехникой, чтобы вода потеплее, чем здесь, лилась на нее как проливной дождь. В Джорджтауне сияющую хромом головку душа можно было регулировать, стенки кабинки были сделаны из затемненного стекла, а ванная облицована ручной работы изразцами. Однажды, когда Пел поздно вернулся с работы, они мылись вместе. Не как любовники, а забавляясь, как дети, как брат и сестра. Теперь она по нему скучала.
Шампунь, который ей дала Наташа, первые два раза не вспенился. С третьей попытки она добилась жиденькой пены. Долго терла волосы и стояла под душем, пока все тело – каждый его изгиб и впадина – не стало чистым.
Тогда она вышла из-под душа и растерлась грубым полотенцем, потом намотала его вокруг головы, как тюрбан. Подошла к кровати и рухнула на нее. И тут же заснула.
Войдя, Наташа застала ее голой и натянула на дочь простыню, потом осторожно, точно пытаясь поймать мыльный пузырь, коснулась пальцами лба…
Проснувшись, Жени не могла сообразить, сколько же она проспала и который был час. Она прилетела из Бостона в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Лондон, провела там ночь, но спала урывками. Перед тем как сесть на борт самолета компании «Эл Ал» прошла строжайший контроль. Потом автобус, взрывы, глаза соседа цвета аквамарина, прибытие в кибуц и встреча с матерью. Какое долгое путешествие, думала она, чувствуя усталость, хотя только что проснулась. Не ошибка ли – это сентиментальное путешествие, и в конце – встреча, или ссора – с женщиной, которую она так мало знала?
– Доброе утро, – Наташа вошла с подносом. – Я принесла тебе завтрак. Сегодня день рождения твоей страны – Америки, – она произнесла это так, как будто репетировала слова: чтобы поразить Жени своими знаниями.
Значит, сейчас утро четвертого июля. Жени приподнялась, откинула простыню. На завтрак оказалась яичница, ломтики серого хлеба, маслины, помидоры, кусочек соленой рыбы и чай. Жени внезапно захотелось есть, даже вот это, и она приняла поднос, который Наташа поставила ей на колени.
Пока она ела, мать рассказывала ей что-то о кибуце. Здесь жили люди разных национальностей. И хотя только Наташа и еще одна женщина были выходцами из СССР, русских по происхождению здесь было много. Европейский по духу, кибуц исповедовал социалистические взгляды и отчасти был по-старому революционен. Поселенцы до вечера трудились, а потом могли заниматься своими делами – читали, слушали музыку или сами играли на музыкальных инструментах, жарко спорили с соседями.
– Я работаю в детском саду с младшими детьми, – сообщила Наташа, ее руки были скромно сложены на коленях. Если хочешь, я возьму тебя с собой. Дети просто чудо.
– Правда? Никогда бы не подумала, что тебя может заинтересовать такая работа, – Жени показалось иронией судьбы, что женщина, оставившая своих детей, заботится о чужих, и называет их чудесными.
Но ирония ускользнула от самой Наташи:
– В саду есть нянечка. Но у нее так много работы, что она не в состоянии присмотреть за всеми. Если побудешь здесь, может быть, захочешь ей помочь. Твое медицинское образование пригодится.
Жени рывком сдвинула поднос с колен.
– Меня учили не для того, чтобы помогать нянечке! – ярость нахлынула на нее, и она почти выкрикнула эти слова. Что же до того, чтобы здесь побыть, не думаю, что это удастся, – она смотрела на овал своих колен с подносом, не в силах поднять глаза на мать.
– Жаль это слышать, – мягко ответила Наташа. – Я надеялась, что ты поживешь со мной.
Но Жени уже думала, что ей вовсе не стоило приезжать. Смешной порыв, вызванный ложным любопытством. Ей нечему учиться у этой женщины.
– Я надеялась, – продолжала Наташа, – что у нас хватит времени познакомиться друг с другом и стать… друзьями, – она произнесла это так застенчиво, как маленькая девочка, упрашивающая подругу поиграть с ней.
– Десять лет назад, – криво усмехнулась Жени, – ты не захотела оставаться моим другом.
– Десять лет назад, Женечка! Неужели через все эти десять лет ты пронесла ненависть ко мне?
Жени захотелось, чтобы мать ушла. Она чувствовала себя, словно в ловушке, под простыней. Встать означало показаться во всей наготе.
– Сказать по правде, – солгала она, – я почти не думала о тебе с тех пор, как ты от нас ушла.
Наташа не отводила глаз, и Жени с раздражением и одновременно с облегчением поняла, что мать ей не верит. Возраст отпечатался на ее лице, хотя кожа была по-прежнему гладкой, слишком гладкой для седины в волосах. Глаза смотрели встревоженно, и в них Жени увидела, какой была мать молодой, еще пятнадцать лет назад – красивой, надушенной, когда она приходила взглянуть на детей перед отъездом с друзьями в театр. Живой, очаровательной женщиной, умеющей слушать, что говорят другие, и легко и остроумно им отвечать. Та Наташа убежала с актером и потом была осуждена за политическую неблагонадежность, которую Дмитрий простил, потому что считал наивной.
– Зачем же ты тогда приехала в Израиль? – глаза Наташи сверлили дочь. – Зачем, если все эти годы не думала обо мне?
– Потому что… – Жени почувствовала, что ее поймали. – Потому что рухнул мой брак.
– Боже! – Наташа потянулась, чтобы обнять Жени, но та отвернулась. Она не хотела жалости и не понимала, зачем она это сказала.
Наташа села на место:
– Когда был разрушен мой брак, я пережила самые черные годы в жизни.
– Но ты ушла. В этом не было никакой необходимости.
– Была, Женя, – она говорила печально, но уверенно. – Георгий меня ненавидел. Вернувшись обмороженным, он оказался растерзанным не только физически, но и духовно. Не мог взглянуть на себя, и мне не позволял смотреть на него, – она помолчала. – И ни разу не позволил до себя дотронуться.
– Но ты всегда казалась счастливой, – возразила Жени, вспомнив мать на своем двенадцатилетии, как та танцевала в своем красном платье.
– А какой еще я могла казаться? Это все для тебя и Дмитрия. Для себя. И для него тоже. Если бы я убивалась, его ненависть не имела бы выхода, и обратилась бы на вас и на себя самого. А она была слишком велика, чтобы ее снес один человек. Он видел, какая я сильная и независимая, и в тот день, когда я уходила, сказал, какое отвращение он ко мне испытывал.
– Правда?
Наташа так печально кивнула, что Жени захотелось уронить простыню и взять мать за руку.
– Давай забудем об этом. Это не то, что ты хочешь услышать об отце.
– Но ты ведь сбежала с актером?
– С Костей? Да. Почти тринадцать лет у меня не было мужчины.
Жени не хотела слушать, не хотела ничего знать об интимной жизни матери – и все же сочувствовала ей.
– Это было агонией, – продолжала Наташа. – Оставить детей. Все эти годы вся моя жизнь была в тебе и Дмитрии. Больше я не знала ничего. Только позволяла другим говорить любезности. Любезности – о, Женя! Какой я была легкомысленной.
И одинокой, подумала Жени.
– А потом меня сослали, и еще годы я училась, как быть серьезной.
– Но тебя признали виновной…
– Да. Пустое, формальное обвинение. Меня никогда не интересовала политика. И Георгий не хотел, чтобы я в это вмешивалась. Но он был влиятельным человеком. Намного влиятельнее, чем я думала. И когда его гнев вырвался наружу, он меня раздавил.
– Как? Ты хочешь сказать, что он устроил твой арест? Посадил в тюрьму? – Жени вспомнила, о чем ей говорил Дмитрий. Но она в это никогда не верила. Как мог один человек управлять правосудием? И кроме того, несмотря на то, что сейчас говорила Наташа, она знала отца – он не мог быть таким мстительным.
– Я не выдвигаю никаких прямых обвинений. Какой смысл? «Космополитизм» – расплывчатая формулировка. Ее применяли ко всем евреям. Сейчас мы больше не будем с тобой разговаривать, – Наташа убрала поднос со столика рядом с кроватью и встала. – Я и так задержалась, пора на работу. Может быть, еще соснешь, а потом навестишь меня в детском саду?
– Договорились.
– Ну вот и хорошо. Я кого-нибудь пришлю за тобой.
Когда мать выходила, Жени хотела остановить ее, сказать, что сейчас что-нибудь набросит и пойдет вместе с нею. Она понимала, что мать была бы счастлива.
Но Жени не проронила ни слова. А когда дверь закрылась, вновь скользнула в постель и вскоре опять спала.
Когда же она снова проснулась, в комнате было светло и очень жарко. Надела шорты, блузку без рукавов и сандалии, спустилась по лестнице, и когда открывала наружную дверь, к ней подошел мужчина среднего возраста:
– Женя, подожди. Я отведу тебя к Наташе.
Она озадаченно посмотрела на него. Откуда он узнал ее имя?
Он улыбнулся и протянул широкую ладонь:
– Я Наум Бен-Дов. Видел тебя вчера в автобусе.
– Ах вот как?
– Да. Пришел посмотреть на очаровательную дочку из Америки. Но в последний момент – как это вы говорите? – сробел. Затряслись жилы.
– Оробели? Затряслись поджилки?
– Да, да, поджилки. Решил, что мне там не место, когда воссоединяются мать и дочь. И вот стал невидимым, как кролик.
Жени рассмеялась. Мужчина был почти на голову выше ее, с бочкообразным животом. Для него стать невидимым выше всяческих сил, которыми обладает любой волшебник.
– Кролики не исчезают, – поправила она. – Они возникают из шляп.
– Бедные кролики. Никак не могу взять в толк, зачем им нужно жить в шляпах. Ну, пошли, – он взял ее под руку, как будто они были старыми друзьями. – Мы идем в детский сад.
Симпатичный, подумала Жени. Хотя и некрасивый: широкий рот, крупные торчащие уши, светло-рыжая копна перепутанных волос.
– Ты полюбишь эту страну, – говорил он, когда они проходили небольшой фруктовый сад. Я в этом уверен так же, как и в том, что меня зовут Наум Бен-Дов. Страна, на которую жмут со всех сторон. И нажим этот заставляет людей вырастать изнутри, яснее понимать себя.
Жени удивленно посмотрела на него. Неужели он раскусил ее так быстро?
По дороге в детский сад Наум показывал на здания: вот больница, зал, столовые, магазины – все желтовато-грязное, незаметное. Жени улыбнулась, вдруг вспомнив Топнотч – грубые хижины на лесистых горах: возврат миллионеров к природе, где дома призваны гармонировать с пейзажем. Здесь же – человек попытался овладеть природой, и строения, которые, казалось, выросли прямо из земли, доказывали его превосходство над враждебной силой.
В детском саду Наум звонко поцеловал Наташу в щеку. Она улыбнулась ему, и лицо женщины стало мягче и моложе.
«Так вот в чем дело», – подумала Жени. Рыжеволосый великан был любовником матери. Наташа не выносила жизни без мужчин. Жени сделалось неприятно. Она не хотела, чтобы ей напоминали о сексе, особенно если это напоминание исходило от матери.
Наум почти сразу же ушел, и Наташа начала для Жени экскурсию по детскому саду. Комната для занятий. Спальня, вдоль стен уставленная кроватками. Кухня, где стерилизовали бутылочки и соски. Комната для начинающих ходить, некоторые из них в манежах, и странный набор игрушек из пластмассы и дерева – обучающие игрушки, знакомые Жени по Америке; тряпичные куклы и игрушки, которые могли показаться древними.
– Да, ты права, – подтвердила Наташа. – Ты заметила, что в Израиле мы не делаем различий между новым и старым. Мы не грезим прошлым, как в Европе, или будущим, как в Советском Союзе и, как я слышала, в Америке тоже. Здесь вещи не имеют ценности вне самих себя. Что бы мы ни обнаружили, мы стараемся это использовать. Так или иначе используется все, – она наклонилась над девочкой, которая играла чем-то, что представилось Жени отполированным камнем, и что-то спросила на иврите. Улыбнулась, выпрямилась и объяснила Жени. – Вот магический диск. Он прилетел к нам с Луны. Если его поднести к уху, он станет с нами разговаривать.
Она снова выслушала ребенка и перевела Жени:
– Например, он рассказывает о цифрах. Может отгадать любое число.
– Какое? – Жени улыбнулась голубоглазой девочке с белыми кудряшками и розовыми щеками.
– Сейчас я спрошу, сколько ей лет, – сказала Наташа.
Магический диск в кулаке ответил «три», и девочка торжествующе улыбнулась. В нескольких ярдах от нее мальчик полез на стул и упал, но не заплакал, а, полежав немного, поднялся сам, потер колено и скривил губы в гримасе, явно отражающей его твердое намерение не зареветь.
Наташа наклонилась над ним и рассмотрела синяк. Успокаивая, заговорила на иврите, а когда взъерошила ему волосы, мальчик улыбнулся.
– Это Арон, – объяснила Наташа Жени по дороге в медпункт, куда они отправились за йодом. – Ему два с половиной года, и я сказала ему, что он храбрый, как солдат. Все дети хотят стать храбрыми солдатами.
Жени вспомнила детей Хиросимы. Но их мужество было уникальным. А большинство американских детей в такой ситуации, конечно же, расплакались бы.
– Как вы учите таких маленьких детей такому самообладанию? – спросила она Наташу.
– Обычно ребенок кричит больше от страха, чем от боли. Пугается при виде крови. А заслышав собственный плач, трусит еще больше. Но здесь дети не боятся. Даже самые маленькие видели кровь. Мы не прячем ее от них. Иногда специально колем себя булавкой, чтобы показать, что ее нечего бояться. Пролитая кровь – все равно, что пролитый кофе или пролитое молоко. Надо просто вытереть – и все в порядке.
Слова матери невольно произвели на Жени впечатление. Они вернулись к Арону, и Наташа нарисовала йодом на его коленке пятиконечную звезду. Малыш взглянул на нее с гордостью бойца, получившего орден.
Наташа умела обращаться с детьми. А с ней она тоже так обращалась, когда Жени была маленькой?
– В прошлом месяце у нас было много раненых. И мы водили детей в больницу смотреть на них. Хочешь заглянуть в нашу больницу?
– С удовольствием, – при слове «раненые» в Жени разгорелось любопытство. Может быть, в больнице в кибуце проводят реконструктивные операции.
– Скоро сможем туда пойти, – Наташа закрыла пузырек с йодом, шлепнула Арона по спине, и тот умчался прочь. – Когда придет замена.
Через двадцать минут она уже вела Жени через футбольное поле, мимо гандбольной площадки, горки и нескольких качелей. Они прошли рядом с библиотекой – «наше старейшее здание», объяснила Наташа, и концертным залом, который по строению очень напоминал больницу.
Почти все кровати были заняты ветеранами Шестидневной войны. Дежурный врач доктор Стейнметц, молодой, но с изможденными глазами, смог уделить Жени всего лишь несколько минут, сказав, что некоторые из раненых содержатся здесь лишь до того момента, когда найдутся места в другой больнице.
– Им требуются сложные операции, проводить которые нам не позволяет оборудование. Мы можем заниматься только простыми ранами – как в большом полевом госпитале. Многие из них и поступили из полевого госпиталя, который я с коллегой развернул к югу от кибуца во время боев, – меж глаз врача пролегла глубокая складка, зрачки затуманились воспоминанием. – Раненые проявляли величайшее мужество, даже мальчишки. Никто из них не просил особого внимания, никто не требовал перевязать его первым. Наоборот, как бы не были серьезны раны, люди просили сперва заняться их товарищами. «Сперва его», слышал я со всех сторон.
Жени подумала об Ароне, который упал, разодрав колено, но не заплакал. Еще двухлетний, он уже готовился к войне?
– «Сперва его», – повторил доктор Стейнметц. – Для некоторых это означало, что будет уже слишком поздно. Теперь здесь самые крепкие, – врач махнул рукой в сторону палат. – Те, которые выдержали ожидание. Без глаза или уха, частично обезображенные, с пробитыми лбами, разможженными челюстями.
– Позвольте мне поработать с вами, – попросила Жени. Она быстро рассказала о своей практике с доктором Ортоном, о трехлетнем образовании в медицинской школе, о своем решении стать пластическим хирургом.
Она говорила с врачом и не заметила появившееся на лице Наташи выражение удивления, когда Жени упомянула о своей будущей специальности.
– Спасибо, – проговорил доктор Стейнметц. – Но сейчас у нас даже больше врачей, чем надо. Добровольцы со всей страны и даже из Америки. Поговорите со старшей сестрой. Она будет благодарна за любую помощь. А теперь извините, я должен вернуться к больным.
После утреннего взрыва, когда мать предложила ей помогать нянечке в детском саду, Жени, конечно, не могла принять предложение врача, особенно при Наташе. Когда они вышли на улицу, мать спросила:
– Когда ты решила стать пластическим хирургом?
– Я всегда хотела, – выпалила она в ответ.
Некоторое время они шли в молчании, а потом Наташа тихо проговорила:
– Ты очень любишь отца.
Жени не ответила. Слова прозвучали как обвинение.
– Да, – продолжала мать. – Его увечье определило и мою, и твою жизни. Мы женщины, взрощенные ладожским льдом.
– Ты – может быть. А я никогда не знала отца другим. Он был мне хорошим отцом. Особенно после того… как ты нас оставила.
– Понимаю.
– Взгляни фактам в лицо. Ты от нас убежала. Может быть, у тебя и были для этого причины, но могла бы немного и подождать. Тогда мне было еще двенадцать лет. В этом возрасте девочки нуждаются в матерях. А у меня матери не стало. И не потому, что ты умерла, а потому, что решила уйти от нас.
– Уйти? Как ты можешь так говорить? Я тебя любила, была в отчаянии…
– Еще бы! – Жени ускорила шаг. – Я знаю только одно – ты меня бросила. Да ладно, это старая история. Теперь я взрослая. И прошлое не имеет никакого значения.
– Я не бросила тебя, Женя. И Дмитрия тоже. Я бросила его.
Жени не ответила.
– Лед, – снова начала Наташа, – унес его мужское начало.
– Что ты имеешь в виду?
– Яички. Это первое, что у него отняли.
Жени продолжала идти. Ей казалось, она никогда не сможет постигнуть глубины того, что сделал лед с ее семьей.
Они помолчали.
– Ты его простила? – наконец спросила Жени.
– Давно, – ответила Наташа и через несколько минут добавила: – Он направил меня сюда. Странно: тот же самый человек, который засадил меня в тюрьму, пожертвовал собой, чтобы вызволить меня оттуда. Так я слышала. Сложный человек – Георгий. Страсть всегда в нем кипела. То ненавидел меня всем сердцем, то простил. Кто знает, может, он поступил так, сознавая свою вину. Когда-то любил меня, потом из неосуществимой любви родилась ревность.
Жени слушала с большим вниманием, удивляясь сложности отношений между родителями. Жизнь матери определила любовь, а не лед, думала она. Так вот как чувствуют женщины.
– Сам он мне ничего не сказал, – объявила Наташа. – Последний раз я его видела в день суда, рядом с тобой.
Они обменялись взглядами, но Жени не могла понять их значения:
– А как он смог отправить тебя сюда?
– Говорят, что-то предложил. А может, согласился на предложение, которое сделали ему. Что бы там ни было, решил: в обмен на разрешение мне выехать из СССР подписать ложное признание. Ведь это был период десталинизации. При Сталине отец занимал видный пост, который получил в благодарность за проявленный во время войны героизм.
Жени кивнула. Все это она знала.
– А сам он был сталинистом? – спросила она.
Наташа пожала плечами:
– Был сыном своего народа. Машинистом по профессии. Но он был умным человеком, хотя и не имел образования. Его влияние распространялось лишь в сфере торговли. Не думаю, что он встречался с людьми из партийной верхушки – теми, кто делал политику. И уж конечно, не был знаком со Сталиным и кем-либо из его окружения.
– А что за признания он сделал?
– Я слышала, что подписался под целым списком преступлений, о которых никогда и не слышал.
– Но зачем?..
– В Америке вы этого не понимаете, – Наташина улыбка сделалась отстраненной. – Во время десталинизации требовались козлы отпущения. Нужны были имена, виноватые. Твой отец был достаточно известен как герой войны. Поставив подпись, он удовлетворил жажду людей к отмщению. А партии дал возможность проявить великодушие: его не расстреляли, а отправили в лагерь. Показали, какие они милосердные. Он принял ярлык преступника, предателя, в обмен на мою свободу. Как я могла его не простить?
Да, – простая история детства – мать бросила, отец арестован – превращалась в сагу, историю предательства, расцветшего из любви, и любви, приводящей к самопожертвованию. Что-то такое было у Достоевского. Как мало она понимала тогда на занятиях по литературе!








