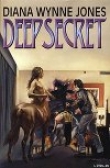Текст книги "Седьмой лимузин"
Автор книги: Дональд Стэнвуд
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
КНИГА ВТОРАЯ
КАРЛ
Глава девятнадцатая
Гривен не мог рассказать Алану Эшеру всего, сколь бы мило это ни было с его стороны. Трудно было отнестись к Алану иначе, кроме как к нелепому фантазму, сотворенному из ребра Элио Чезале. Разумеется, Карл любил потолковать о себе, о своей молодой безгрешной жизни вплоть до 1926 года, когда он впервые повстречался с Люсиндой. Большую часть последующих лет он потратил втуне, потерял понапрасну, опускаясь все ниже и ниже по бесчисленным темным коридорам, но начало ему запомнилось в ослепительном холодном свете.
В тридцать четыре года он все еще скрывался в тени собственной репутации Серьезного Молодого Человека, Многообещающего Драматурга, Лауреата высокопрестижной премии Клейста. За два года до этого постановку его пьесы осуществил в Байрейте сам Макс Рейнхардт. Подсознательные импульсы главного героя превращали его в сущего Голема, сокрушающего все вокруг по канонам и на фоне экспрессионистической и кубистической реальности. Карл щедро черпал из разных источников, но умел нащупать разом едва ли не все болевые точки интеллектуального современника.
Великий Г. Б. Пабст решил экранизировать пьесу, и вот Гривен перебрался в Берлин и попал в новую Вавилонскую башню, – Ной Бабельсберг – какую представляла собой киностудия УФА. В качестве сценариста он получал весьма неплохие деньги, хотя его участие в написании сценария свелось всего лишь к полудюжине титров. Главным образом, он просто сидел на съемках, наблюдая за тем, как выстраданные им реплики превращаются в бессловесную мимику в исполнении киношного Голема, который умел разве что бешено закатывать глаза. Тем не менее, критика зашлась криками восторга, и таким образом к 1926 году у Карла Гривена имелись три перспективных договора, четыре высокопарных – и не нашедших режиссера – киносценария в ящике письменного стола… и алый «Бугатти» Двадцать третьей модели.
Поздним апрельским вечером он проехал под Бранденбургскими воротами, отправляясь в поместье Эриха Поммера на грандиозный прощальный прием, который тот устроил по случаю отъезда Полы Негри. Кинозвезда отбывала на следующей неделе в Голливуд, прельстившись, как и многие другие, гонорарами студии «Парамаунт», и «мир кино» говорил только об этом. Стены киностудии УФА вот-вот готовы были лопнуть, как скорлупа яйца, брошенного в крутой кипяток.
Но ни тени этого суматошного волнения не упало на озаренные светом свечей лица собравшихся за пышным обеденным столом в доме у Эриха. С великим тщанием каждому заранее было отведено строго оговоренное место. Жены режиссеров – по правую сторону, присяжные сценаристы режиссеров – по левую, чтобы до тех и до других было бы так же просто дотянуться, как до салатницы. Гривен, сидя рядом с Пабстом, то и дело передавал ему соль.
– Пола! – перекрывая стук серебряных столовых приборов, закричала одна из присутствующих дам. – Пальмы! Бутлегеры! – Она словно бы перечисляла реалии с другой планеты. – Ты наверняка передумаешь.
Пола Негри, пожав плечами, разыграла небольшую пантомиму: расписалась на воображаемом чеке. Пабст, жуя круассан, проигнорировал взрыв всеобщего смеха.
– Все это началось с отъездом Любича, – пробормотал он в самое ухо Гривену. – Голливуду наплевать на искусство, ему подавай искусствообразие. Даже Эриха туда переманивали.
Гривен бросил взгляд во главу стола, где по-царски восседал Эрих Поммер.
– А как насчет вас? – поинтересовался Пабст. – Вы бы там процветали.
Гривен проигнорировал тонкую иронию этого замечания, предпочтя ответить на прямой вопрос, без подтекста.
– Я хочу снимать. Здесь. Если не получится, вернусь в театр.
Пабст поднял брови.
– Что ж, это меня не удивляет. Вы, Карл, всегда были сообразительным молодым человеком. Не желаете ломиться в открытую дверь. – Он жестом как бы объединил всех собравшихся за столом. – Да ведь и мы в этой игре всего лишь пешки. Откуда нам знать, сколько еще Ирвингов Тальбертов и Джесси Ласки появится в будущем?
Эти слова преследовали Гривена на обратном пути от Поммера. Эрих, за коньяком и сигарами, даже согласился прочесть новую рукопись Карла! Ему хотелось снять Лию де Путти. Или эту новую шведскую девчушку Гарбо. Свернув в своем «Бугатти» на Фазанен-штрассе, Карл продолжал предаваться сладким грезам.
Уже за несколько кварталов Гривен осознал, что мчится прямо в гущу каких-то неприятностей. Непривычное красноватое зарево поднималось со стороны Тиргартена, и, неторопливо сбрасывая скорость, он услышал гневный ропот толпы. Громкий и чреватый опасностью, похожий на гул болельщиков, возвращающихся со стадиона, но сопровождающийся звоном разбитого стекла и полицейскими сиренами. Один из прохожих бросился в его сторону, за ним другой, – и вот уже машина увязла в скопище людей.
В мигающем свете уличного фонаря над толпой, похожей на полчище боевых муравьев, развевались знамена; в самой глубине ее творилось что-то страшное. Конные полицейские размахивали дубинками налево и направо, били не глядя. У Гривена имелся нюх на выживание в экстремальных ситуациях, поэтому он вместо того, чтобы развернуть машину и попробовать, возбуждая всеобщие подозрения, удрать с места событий, пригнулся, вжался в руль и принялся дожидаться, пока все это безумие минует его и покатится дальше по улице. Волнение он перенес на «Бугатти», живо представив себе его прекрасный остов ободранным и кровоточащим.
Коммунисты дрались с национал-социалистами, рёмовские СА выступали в роли вожаков и подстрекателей. Коричневорубашечник разбил витрину и расколол голову женскому манекену.
Стрельба – ниоткуда и отовсюду – нагоняла на толпу ужас, превращая людей из участников идеологического сражения в беззащитные жертвы. И вот молодой человек рухнул вниз лицом на мостовую прямо в свете передних фар «Бугатти». Выглядело это так, словно в парня выстрелили с неба. Девушка схватила его за плечи, затрясла, затем припала лицом к его спине, а толпа обтекла эту ужасную мизансцену с обеих сторон. Темная лужа на мостовой становилась меж тем все шире и шире.
Гривен не видел человеческого кровопролития с тех пор, как участвовал в битве на Сомме, и забыл, как волнует его это зрелище и как взывает к подсознанию. Выскочив из машины, он подбежал к девушке и опустился на колени возле нее.
– Помогите мне. Я знаю больницу тут поблизости.
Истекающего кровью юношу некуда было пристроить в двухместной машине, кроме как на колени к девушке. Доктора, увидев раненого, только пожали плечами. И Гривен успел как следует рассмотреть Люсинду Краус как раз в те минуты, когда врач сообщал ей прискорбную весть. На руке у нее была красная повязка Компартии, чулки – все в крови, черные волосы убраны под бархатный берет.
Его звали Йозеф Курц, объяснила она Гривену, и он не был ее «парнем», он был товарищем в наступающей и неизбежной классовой борьбе. Они встретились в группе комсомольского агитпропа в ходе демонстрации против концерна «И. Г. Фарбен» и с тех пор работали вместе…
Гривен (что впоследствии вошло у него в привычку), игнорируя смысл выслушиваемого, всматривался ей в лицо. Выглядела она юной мадонной, слегка подуставшей от постоянно обращенных к ней мужских взглядов. Даже со всей своей марксистской трескотней она привлекала к себе взгляды и Гривена, и двух молодых докторов, не всегда оставляя таковые без ответа.
– Мне кажется, я еще не поблагодарила вас по-настоящему, – сказала она после того, как врачи удалились. – Я им обоим солгала насчет Йозефа. Он безумно любил меня.
Сиделка повела Люсинду переодеться. Через пару минут Люсинда появилась в больничном халате, полы которого торчали у нее из-под пальто, а перепачканное платье и чулки были уложены в бумажный пакет. Люсинда осматривалась по сторонам, словно впервые осознав, что находится в тошнотворно-зеленом больничном коридоре – и что он никуда не денется после того, как над ней и над ее отважным молодым коммунистом уже опустили занавес. И тут она заплакала, и Гривен, поднявшись с места, подал ей носовой платок.
– Слезами горю не поможешь. Пойдемте, я отвезу вас домой.
Она сказала, что живет в Ганзейском квартале. «Бугатти» помчался по залитым предрассветным свечением жилым районам.
Когда они прибыли на место, она соизволила обратить внимание на его машину.
– Итак, господин Карл Гривен, вы, должно быть, богаты, если можете позволить себе такую игрушку.
– Именно игрушку, к тому же выдавленную из пролетарского тела вместе с потом.
Люсинда шваркнула дверцей и решительно отправилась прочь от машины.
– Не люблю, когда надо мной издеваются.
– Первый признак истинной революционерки. – Он выключил мотор, выбрался из машины. – А почему бы не дать этому берету малость отдохнуть?
Она пребывала в ярости, и у Гривена не было ни малейших сомнений, что эта стычка закончится в постели. «Кто вы такой, чтобы смеяться надо мной?» – стало лейтмотивом ее высказываний по дороге в жилье, стены которого были обклеены троцкистскими плакатами и киноафишами. Одна из афиш рекламировала «Безрадостную улицу» – и Гривен указал Люсинде свою фамилию среди других, набранных мелким шрифтом.
– А, припоминаю, я о вас слышала. – Ее глаза сузились. – Пьеса с этим дурацким Големом.
Он присел на край широкой неубранной кровати.
– Да, и кое-что другое. Главным образом, переработки.
– Фростинг. – Моя раковину, в которой плавала кофейная гуща, она мотнула головой в сторону афиши. – Эта Фростинг олицетворяет и прославляет маленькую буржуазочку.
– Но она висит у вас на стене.
– Эта афиша принадлежала Йозефу. – Люсинда зажгла лампочку без абажура и принялась в этом безжалостном свете рассматривать свою окровавленную одежду. – Посмотрите на Эйзенштейна, на Довженко. Ваш труд тоже мог бы послужить делу революции.
– Верите или нет, но «Броненосец Потемкин» я видел. Не на всякий фильм напасешься лестниц и мужланов. – Он тщетно ждал от нее улыбки. – А не лучше ли вам присесть?
– Мужчины! – загремев кастрюлями и сковородками, она метнула это слово, как дротик. – Наглые, самоуверенные во всем, от мозгов до самого низу. – Люсинда швырнула свое пальто в сторону Гривена. – Не смотрите на меня с таким изумлением и снисходительностью! Сколько вы собираетесь мне заплатить? – Смахнув слезы, она задрала больничный халат выше талии. – Вам ведь это нужно, не так ли?
Гривен встал, поискал выключатель, погасил свет.
– Больше всего мне хочется, дорогая, чтобы вы наконец замолчали.
Соитие началось со взаимного раздражения; Люсинда безучастно лежала на спине, принимая ласки Гривена с такой миной, с какой банковский служащий выдает вам деньги с вклада, причем, по вашему желанию, мелкими купюрами. Гривен меж тем успел заметить у нее на стене литографии Георга Гросса, с которых порочно подмигивали размалеванные проститутки.
– Люсинда, дорогая моя, – кротко сказал он. – Это всего лишь еще одна роль, которую вам вздумалось сыграть.
Застыв, она раскрыла глаза и разгневанно посмотрела на него. Потом, сообразив, в какой ситуации находится, отчаянно рассмеялась. И предалась ему по-настоящему. К середине утра она лежала, кроткая и вроде бы довольная, рядом с ним.
– Эта мысль пришла в голову Йозефу, – прошептала она словно через зарешеченное окошко на исповеди. – Мы встретились в университете и решили превратить эту комнату в штаб-квартиру местной ячейки. Йозеф был великолепен, но мы постоянно сидели без денег, а когда его вышвырнули с работы в школе, их и вовсе не стало. И вот он заговорил об эксплуатации одного класса другим и о том, как мы можем побить буржуазию ее же собственным оружием. Он подцеплял на улице маленьких жирных банкиров и лавочников, а я избавляла их здесь от прибавочной стоимости. – Люсинда положила голову на грудь Гривену, опустила глаза. – Можешь ничего не говорить, я сама все понимаю. Он был котом, а я… ну ладно, нам нужно было что-то есть.
Она сделала паузу, ожидая какой-либо реакции от Гривена. Но он промолчал.
– Ну что, Карл? Ты шокирован? Скажи, что шокирован!
– Мне кажется, тебе пора отправить эту комнатку и все, что в ней находится, на помойку. И покончить с прошлым. – Он поднял руки, сложил в трубочки, наставил на нее воображаемым биноклем. – Положись на то, что у тебя есть.
Люсинда в недоумении посмотрела на него, затем покачала головой.
– Не говори загадками, Карл!
– Ты по-настоящему красива. Только не смущайся, пожалуйста, как школьница. Я как-никак специалист. – Он указал на афиши, на которых лицам Лили Даговер и Асты Нильсен в этом доме от руки были пририсованы усики. – Все наши киноребята говорят, что камера любит только лица определенного типа, а другие, напротив, делает незначительными, но это сущий вздор. Камера бесстрастна. Это всего лишь большой стеклянный глаз. Аплодисменты обеспечиваются теми парнями, которые трудятся по другую сторону от объектива.
Люсинда попыталась отшутиться, но прозвучало это неуверенно и как-то фальшиво.
– Опять строишь из себя умника, Карл? И скольким девчонкам ты уже вешал такую лапшу на уши?
– Тебе первой. И я не предлагаю тебе ничего непристойного. Дай мне день. Всего один день, я все устрою. Когда видишь себя на экране, возникает ощущение, будто у тебя украли собственную тень. Немногие способны выдержать столь пристальную инспекцию. Но ты сможешь. Честно говоря, ты для этого создана.
Она закурила и, раз, за разом затягиваясь, задумалась. Гривен впервые увидел ее так близко и почувствовал себя одновременно и осчастливленным, и загнанным в угол.
– Йозеф умер, дорогая. Переходим ко второму действию.
Люсинда уже приняла решение. Гривен определил это по тому, как она теперь начала держаться, по тому, как, причесываясь, прогибалась, словно женская фигура, установленная на носу корабля.
– Бедняжка Йозеф. – Всхлипнув, она притянула Гривена к себе. – Ему всегда хотелось сделать для меня что-нибудь хорошее.
Глава двадцатая
«Когда Люсинда начала играть, она вошла в самую пору. Подумайте об этом, Алан. Каково, по-вашему, соблазнить всю публику?»
Эрих Поммер окутал себя облаком благородного дыма гаванской сигары лучшего сорта, вместе с Пабстом и Карлом Гривеном наблюдая за первым выступлением Люсинды. Она с самого начала привлекла к себе внимание этого Великого Человека. Гривен предвидел это заранее. Он выдержал борьбу со вторым режиссером, которому нравилось наряжать дебютанток в пышные юбки и водружать им на голову напудренные парики.
Гривену удалось настоять на том, чтобы Люсинда оделась поплоше, позаурядней – и чтобы сюжетом предложенного ей этюда было поведение девушки времен войны, получающей с фронта телеграмму о гибели жениха. И без его подсказки она умела управлять чужими эмоциями. Не рыдала, даже не всхлипывала. Она играла только глазами, мрачно тлеющими и больными после получения трагического известия. Глядя на нее, исполняющую эту миниатюру, Гривен почувствовал, что на него самого накатывает нечто, чему он бессилен подыскать определение.
Луч кинокамеры погас, в зале зажегся свет. Поммер нарушил молчание первым.
– Люсинда Краус. Это ее настоящее имя, Карл?
Карл хотел ответить кивком, но потом передумал.
– Полагаю, что так, мой господин.
Поммер раздавил ошметок сигары.
– Что ж, башковитые молодые женщины всегда нагоняют на меня тоску. Особенно после того, как я на одной такой женился. Но в этой и впрямь что-то есть. А вы что скажете, Георг?
Пабст, сложив руки кончиками пальцев друг к другу, по-прежнему любовался на пустой экран.
– Я восхищен. Но не уверен, что мне это понравилось.
– Вы ее используете? – спросил Поммер.
Режиссер искоса посмотрел на Гривена, произнес чуть ли не просительно:
– Позвольте мне немного подумать.
Поммер тяжело кивнул, давая понять, что аудиенция на этом оканчивается.
– Ладно. Предложим ей стандартный контракт. Я хочу, чтобы эти пробы показали режиссерам. Если и не вам, Георг, то уж кому-нибудь она приглянется наверняка.
На выходе Пабсту и Гривену пришлось пробираться через полупостроенный макет к фильму «Метрополис». Спускаясь по зигзагообразной лестнице, предназначенной для разрушителей машин из двадцать первого столетия, Пабст примирительно подал руку Гривену.
– Не дуйтесь, Карл.
– Вы видели пробы. Я насчет нее не ошибся.
– Не ошиблись. Она безупречная исполнительница, это ясно. – Глубоко вздохнув, Пабст пожал плечами, потом потрепал Гривена по затылку. – Мальчик мой, просто нам с вами нравятся в этой жизни разные вещи.
Остальные режиссеры студии УФА, тем не менее, в той или иной степени разделили восторги и надежды Гривена. Фриц Ланг ввел Люсинду в «Метрополис», специально придумав для нее не предусмотренную сценарием роль, и через две недели она обнаружила, что, вся в ослепительно сверкающей черной коже, возглавляет боевые отряды своих собратьев-пролетариев, саботирующих подземные системы обеспечения гигантского города, причем зовут ее – в роли злого робота – Марией.
Обедая в перерывах между съемками с Гривеном, она заставляла его смеяться до слез в роли все той же странно и порочно подмигивающей Марии. А в тот вечер, когда давали премьеру с последующим приемом и трескучая утопия, соответственно, была уже отснята и смонтирована, Люсинда шепнула ему на ухо: «Я согласна, дорогой. И я буду соответствовать своей роли, сам увидишь. Даже комнату афишами не обклею».
В его холостяцкую жизнь она вписалась с удивительной непринужденностью. В его шкафу появилось на диво мало платьев, по крайней мере, поначалу. Литографии Гросса притулились к более крупноформатным работам кисти Кандинского, уже у него висевшим. Если бы она еще только не скрежетала зубами по ночам! В удивительном для него самого порыве раскаяния Гривен спросил однажды у Люсинды, не удручает ли ее родителей тот факт, что они так открыто живут вместе не расписываясь. Она искоса посмотрела на него – устало, удивленно, загадочно – и пробормотала что-то насчет того, что они умерли еще до ее рождения. Затем откатилась на свой край кровати.
К счастью, такие минуты выдавались редко. И, как правило, после ожесточенной стычки они занимались любовью, так что их мастерство в обоих этих занятиях быстро пошло в гору. Люсинда, правда, так и не простила Гривену насмешек над собственным марксизмом. А сам Гривен, когда ему едва перевалило за двадцать и он еще учился в Гейдельберге, посетил в Цюрихе знаменитое кафе «Одеон» и видел там Ленина, который пытался в тот миг обсчитать официанта. Когда Люсинда в конце концов смирилась с тем, что это подлинная история, она надолго затихла в его объятьях. «Ты все превращаешь в шутку, Карл. И я никогда не смогу привыкнуть к этому».
Почувствовав укол совести, Гривен рассыпался в извинениях. Он представлял себе ее чем-то вроде вакуума, который ему предстояло заполнить лучшими качествами собственной натуры.
Берлин 1926 года таил немало каверз для человека типа Гривена, который, при всем напускном нигилизме, воображал себя рыцарем «новой вещности» – ведущего художественного направления в среде его сверстников. Это поколение сумело ощутить за воинскими парадами и пропагандистской шумихой ядовитый запах фосгена, оно помнило его с войны, равно как и ощущение, с которым штык в твоей руке вонзается в чужое тело.
Но суровая военная реальность не могла продолжаться вечно, и какое-то время спустя Гривену пришлось возвратиться в страну иллюзий. Дом, родители, сестра, кузены и кузины, совместные трапезы. Когда он вернулся, мать страшно расплакалась и не решилась посмотреть ему в глаза. «На что это было похоже?» – без конца спрашивали у него родственники, смущаясь и вместе с тем волнуясь. Он не расплескал горевшего в глубине души огня, затаил самые жгучие воспоминания, никому не признавался в том, что испытывал на самом деле.
Да, прошлое надлежало изгнать, уничтожить, разъять на части. Только после этого он мог бы составить компанию тем, кто тоже уцелел после этой войны, в их попытках построить новый и лучший мир, белоснежный, конструктивно-отчетливый, анти-сентиментальный, – тот самый, контуры которого он сейчас набрасывал в разговорах с Люсиндой.
В те вечера, когда они отправлялись на сердитые спектакли Эрвина Пискатора и Берта Брехта, в те уикэнды, когда они уезжали за город и затевали автомобильный марафон по всей стране на алом «Бугатти», Гривен ознакомил Люсинду с футуристическим культом скорости; в долгих поездках в Дессау он позволял ей садиться за руль. Они побывали в Баухаусе, осмотрев стальные и стеклянные интерьеры студии, в которой художники разрабатывали хромированную мебель и рационалистические чайники, призванные преобразить стиль жизни современного человека. Люсинда осматривала все это с большой увлеченностью, но на обратном пути в Берлин, жуя сыр бри, высказала неудовольствие:
– Эта ваша революция, базирующаяся на хорошем вкусе, никогда не сработает, Карл. У буржуя можно отнять свободу, даже жизнь, но он никогда не расстанется с кожаными крагами и часами с кукушкой. – Она указала на длинный стремительный нос Двадцать третьей модели. – Их надо расшевелить, их надо заставить рискнуть своей головой.
Ее слова не раз вспоминались Гривену, пока он сидел в Нововавилонской башне, в сценарном отделе, разбираясь со сценарием, представлявшим собой очередную версию из жизни Фридриха Великого. Как и предсказывал Георг Пабст, Эрих Поммер отправился этим летом за океан, чтобы посмотреть, как поставлено дело на студии «Парамаунт», а его осиротевшая паства бродила по студии УФА, опасаясь высунуть нос наружу.
Готические городки, средневековые замки, поля сражений периода наполеоновских войн – все это поддавалось имитации чисто сценическими средствами. На макете, в декорации. Не отсюда ли «вкус к деталям» и «клаустрофобическая интенсивность», заставившие весь мир завидовать кинопродукции Веймарской Германии? Гривен понимал манию своих соотечественников удерживать все под собственным контролем, но ему смертельно надоели небеса с оптическими эффектами, создаваемыми на циклораме, и деревья, к корню которых был прикреплен инвентарный номер.
Но при всем при том он так и не нашел темы, которая устроила бы его настолько, чтобы он решился на собственную постановку. Не нашел к тому вечеру, когда во дворце возле берлинского Зоо состоялась премьера «Метрополиса». Люсинда держалась на премьере возле него, на ней под меховой столой было нечто невесомое и прозрачное, нечто, заставлявшее мужчин, поглядевших в ее сторону, каменеть. Он был горд, высматривая ее на экране среди неистовствующих толп и фантастических небоскребов, и внушал себе, что его ревность на протяжении всего торжественного приема была недостойной и ребяческой.
– Напишите для вашей дамы что-нибудь настоящее – и мы сразу же запустим фильм, – пообещал новый руководитель кинопроизводства, отведя Гривена в сторону.
Гривен не спешил поделиться с ней этой новостью до тех пор, пока они с Люсиндой, попрощавшись с остальными, не вернулись домой. Но она никак не выразила своих чувств до поры до времени. И лишь когда они погасили свет, сказала:
– Знаешь ли, Карл, однажды у меня была купюра в миллион марок. Кажется, в 1924, в период инфляции. Сколько капиталистов измывались над столькими рабочими ради того, чтобы заполучить такую сумму. А я израсходовала ее – разом! – на пачку сигарет. Интересно, у кого сейчас эта купюра?
Этой ночью они так и не легли. Гривен поил ее кофе и делился своими замыслами, тогда как сам сидел за машинкой. В понедельник утром, когда он въехал в ворота студии УФА на своем «Бугатти», черновик сценария лежал у него в портфеле. Во второй половине дня он подписал контракт, согласно которому брал на себя сценарий и режиссуру первого фильма, главную роль в котором должна была играть Люсинда Краус.
«Миллион марок одной купюрой», в соответствии с интуицией Гривена, вышел из стен студии на берлинские улицы. Он также догадался не подсовывать зрителю Люсинду ни с чрезмерной назойливостью, ни с чрезмерной откровенностью. Сперва публике предстояло запомнить ее лицо – лицо довоенной содержанки богатого, отвратительно богатого торговца скотом, который поддерживает ее жизненный стиль, вручая по миллиону марок наличными; при этом он искренне надеется, что ревнивая жена пребывает в неведении. Но Люсинда (женщина-вамп, каковою она оказалась) обманывает его, заведя интрижку с молодым офицером (которому вскоре предстоит погибнуть в бою), и швыряет направо и налево деньги своего благодетеля.
Дальше сюжет развивается вокруг купюры в миллион марок и людей, в чью жизнь она входит. От магната кораблестроения к веймарскому священнику и далее к прижимистой старой вдове, которая кладет ее в кубышку в годы войны. Но тут начинается инфляция – и редкостная купюра вливается в число бессчетных и ничего не стоящих новых, вбрасываемых в обращение государственным печатным станком. Она переходит из рук в руки в обмен на все более и более эфемерные радости – автомашину «Бугатти» (Гривен использовал на съемках свою собственную), ящик французского шампанского, зимнее пальто, буханку хлеба. В конце концов купюра оказывается лишь одной из обесценившихся бумажек в пухлой пачке, которую держит в руке Люсинда (жалкая и откровенно проституированная тень себя прежней), бредя в непогоду по заснеженной улице. Этими деньгами Люсинда расплачивается с уличным сапожником, который прибивает ей каблук.
«Иронический разрез нашего времени!» «Сногсшибательно!» – Критикам нравится, когда их сшибают с ног. И после премьеры они не поскупились на похвалы в адрес Люсинды.
Остальным исполнителям досталось в фильме ничуть не меньше экранного времени, но публика видела только Люсинду, жаждала только ее, окуналась в ее пороки и сокрушенно разделяла с нею бездну ее падения. Теперь Люсинда начала появляться в белом горностае и цветных шарфах а ля Айседора Дункан. В таком виде она садилась в Двадцать третью модель Гривена.
– Разумеется, – говорила она преследующим ее повсюду репортерам. – Разумеется, у меня действительно была такая купюра. Не в таких скандальных обстоятельствах приобретенная… сами понимаете. Но время было страшное и… ну да, надо же было что-то есть.
Гривен не упрекал Люсинду в таких забавах: нельзя ведь упрекать кошку, играющую с мышью. Но почему-то успех «Миллиона марок…» не принес ему той радости, которую он надеялся ощутить. В глубине души он понимал, что эта картина – пустышка, а символическое звучание, которое усмотрела в ней критика, следовало объяснять ее – критики – собственными комплексами.
Он рассматривал этот фильм как пропуск в компанию режиссеров. На студии УФА ему теперь было доступно все. Но кое-что пошло вкривь и вкось, особенно в его взаимоотношениях с подругой жизни. Ему не хотелось строить свою карьеру на эксплуатации сомнительного прошлого Люсинды. Его следующий фильм должен быть обязан своим успехом только ему самому.