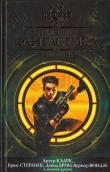Текст книги "Лучшая зарубежная научная фантастика: Сумерки богов"
Автор книги: Брюс Стерлинг
Соавторы: Гарднер Дозуа,Мэри Розенблюм,Элизабет Бир,Питер Уоттс,Йен Макдональд,Роберт Рид,Джей Лейк,Доминик Грин,Сара Монетт,Адам Робертс
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 68 страниц)
Об откорректированных помнили только одиночки с причудливой памятью вроде меня или Хорейси. Отчасти именно так ФБИ на нас и выходило. Скажем, юноша из Общинников влюбляется в свою рабыню. За такое наказывать нельзя: он выше по положению. Карая и запрещая, ты признавал, что проступок в принципе возможен. Поэтому убирали сам факт нарушения: федеральный агент быстренько прыгал назад – и рабыня еще ребенком совершенно безболезненно погибала от несчастного случая. Семье мальчика выносили предупреждение, чтобы та в следующий раз выбирала невольников аккуратнее.
Но иногда даже спустя три недели после операции парень по–прежнему искал свою любовь, и становилось понятно, что он – обладатель очень необычного типа памяти. Конечно, существовал способ исправить дефект, заставив уникума постоянно общаться с самыми разными людьми. Если же он не желал разговаривать, то оставалось всего два выхода: он или пополнял ряды агентов ФБИ, или же его самого корректировали.
Ходили слухи об обстоятельствах, из–за которых приходилось уничтожать целую кучу народа. Один старый агент как–то рассказал мне, что из–за некоей Дианы Спенсер ему пришлось избавиться в прошлом от четырех поколений одной семьи, но почему, так и не сообщил; наверное, дело было связано с королевской фамилией, но мой собеседник к тому времени очень сильно перебрал, и я его остановил, прежде чем он сболтнул лишнего. Вскоре после нашего разговора он исчез, но вполне возможно, что просто умер, а мне никто не сообщил. Правда, я никогда никого не спрашивал об этом агенте и не знаю, помнит ли о нем хоть кто–нибудь.
Я же до сих пор испытываю грусть и нежность при мысли о ЛаНелле, моей няньке из Свободных. Я, похоже, любил ее больше собственной матери (как и многие мальчики из Лийтов; в таком возрасте мы еще не осознаем последствий, а нянек видим подолгу и каждый день, тогда как мать – два часа по воскресеньям). Если мне все это не приснилось, то ЛаНелла перестала существовать, когда я пошел в первый класс. Я тогда приехал домой на рождественские каникулы и сразу спросил, где она. Меня довольно скоро отвели к какому-то милому человеку, и он пообещал, что, когда я вырасту, смогу стать агентом ФБИ.
В общем, вмешательство в недавнюю историю не имело значения: власти меняли ее, когда находили удобным, гражданские постоянно пытались и обычно или терпели неудачу (им не хватало ни правительственных ресурсов, ни простоты намерений), или преуспевали без особых трансформаций реальности. Уходя в прошлое, обычные люди нарушали закон. Федераты устраняли Свободных и Общинников, предотвращая сам факт преступления, а Лийтам выписывали заоблачные штрафы. И хотя наказание за краткосрочные прыжки всегда было суровым, на самом деле никакого вреда они не приносили, – не важно, ловили мы путешественников или нет.
Прыжки в далекое прошлое также не влекли за собой последствий; если ты убивал Александра, то следующие двести лет история переживала немалые потрясения, но потом чудовищная, неповоротливая дехрония временного потока все равно находила путь в прежнее русло. А если, к примеру, путешественник уходил в поздний дриас, то, чтобы он там ни делал, его поступки полностью исчезали. Сейчас школьные экскурсии в палеолит – дело вполне обычное.
Но иногда кто–то отправлялся в мезоисторию, и тогда каузальная дельта достигала максимума в настоящем. Когда Федеральное бюро изотемпоральности узнавало о таком прыжке, то всякое происходило: у парочки битв мог смениться победитель, лингвистические линии между английским, франшским, расским и эспано в Армориках сдвинуться на сотни миль, Нелегальные Штаты Арморики приобретали или теряли штатов по десять, а на троне Конфедерации вновь оказывался Йорк.
Если бы не законы физики, все могло оказаться куда хуже. При постоянной, равномерно!!, мгновенной каузопропагации или, к примеру, консервативной в плане будущей каузальности – хватило бы любого признака – после каждого путешествия, изменяющего прошлое, мы бы тут же оказывались в другой истории, миллионы или даже миллиарды людей прекращали бы существование, их бы заменял кто–то другой, а память всего человечества переписывалась бы в мгновение ока. Целый мир мог исчезнуть, не успев даже пискнуть.
К счастью для тех из нас, кто все–таки не прочь посуществовать еще немного, Эйнштейн доказал, что каузопропагация – процесс стохастический, дискретный, метатемпоральный и пусть не строго консервативный, но предрасположенный к минимальным изменениям.
Мезоисторические путешественники во времени почти всегда хотели вернуться в примерную точку отправки. Более того, до их возвращения все созданные ими изменения можно было отменить, поэтому преступники находили себе живого человека в качестве балластного тела. При использовании инертных объектов для таких целей, скажем, грязи с берега реки или упавшего дерева в лесу, агенты могли найти их прямо на месте машины времени и разорвать каузальную связь (распылить и деструктурировать ее – взорвать балласт, потом сжечь, перемолоть и развеять пепел). И тогда прыгун прекращал существование совершенно бессмысленно.
Но если темпоральное поле протягивалось в прошлое и захватывало живого человека, тогда при должном везении балласт, оказавшись в будущем, уходил с места прибытия, его было довольно трудно засечь, а сам путешественник во времени мог вернуться. (Иногда балластом становились животные, например олени; такой трюк мог сработать, правда, возвратившись, преступник оказывался в лесу, понятия не имея, где конкретно находится).
В общем, Хорейси и я находили балласт в интервале между отправкой и возвращением. Когда мы выполняли свою задачу, в дело вступали другие агенты и изменяли объект настолько, что направленные вперед изотемпоральные волны не могли на нем зафиксироваться, не отражались, и каузопропагация прекращалась. Нет депозита – нет возврата, по словам Хорейси. Я, когда она так говорила, вечно прикрывал рот ладонью, чтобы какие–нибудь скрытые камеры не зафиксировали улыбку. Иногда мне казалось, что напарница желает себе смерти; я ей нравился, тут, разумеется, не было никаких проблем, но она, похоже, не понимала, какая опасность ей угрожает из–за того, что она нравится мне.
Как я уже сказал, наша работа – искать балласт. А когда мы его находили, на сцену выходили обычные агенты и проводили рутинную процедуру по изменению объекта для разрыва связи. У них в запасе имелось то ли пятьдесят, то ли сто манипуляций, некоторые из них даже были относительно гуманны.
– Может, залингуешь его? – спросил я. – Голландский акцент, странное поведение, прибыл голым с непонятными ранами – этого хватит для доджсоновского словаря?
– Думаю, да. Включить систему на голосовое распознавание.
– Система включена, – сказал Сердечник.
Хорейси уставилась в потолок, глубоко вздохнула и перевела римановы глаза в светонепроницаемый режим; я завидовал этой способности, хотя напарница и говорила, что ничего такого особенного нет, все равно как прикрыть веки. Может, она действительно не понимала, чем полная темнота отличается от красной мути.
Хорейси задержала дыхание, сосредоточилась, выдохнула, медленно сосчитала от одного до десяти и впала в легкий транс:
– Голландец, голландский мальчик, голландский мальчик рисует, голландская гавань, голландская кухня, голландский шоколад, Амстердам, тадам–тадам-тадам, Роттердам, уж в Роттердаме–то они погуляют, лесбиянка, парень присунул лесбиянке, тупой школьный юмор, Шекспир, Ричард Второй, Болингброк, канава, аллея, принц Хал, Хал и его друг Фал, Хал–канал, ветряные мельницы, Чосер, ткачиха из Бата, Бат–бан–баня, пора сходить в баню, невеста Франкенштейна должна пойти в баню, сумасшедший ученый, Фрэнк – сумасшедший ученый, Фрэнк Фрэнсис Фрэнсис Тируитт, Тируитту песню веселую…
Ее тихий, бесстрастный, быстрый монолог продолжался, периодически прерываясь глубокими медленными вздохами. Я наблюдал за изображением, которое проецировалось на стену: бледно–зеленые слова или выражения выскакивали на экран, рой голубых точек – близких по смыслу значений – собирался вокруг них быстро растущей грибницей, выпрастывая оранжевые побеги антонимов, красные петли непонятно как связанных с делом слов и серые волокна этимологических связей. Структуры сращивались, стабилизировались или повторяли цикл развития, и скоро в информационном массиве проявилась гомологичность; структуры отталкивались, крутились, притягивались друг к другу, сливались воедино, таща за собой прародителей, пока я наконец не поднял руку и тихо не произнес:
– Сердечник, достаточно.
Фраза «Сердечник, достаточно» какое–то время мерцала бледно–зеленым цветом, а потом исчезла, сменившись единственным словосочетанием «ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН».
Хорейси зашевелилась, переключила глаза. Села рядом со мной, слишком близко, если судить по правилам этикета, но на таком расстоянии, чтобы я не решил, будто она предлагает себя. И я опять подумал о том, как поступил бы, если бы она все–таки подошла вплотную, и сразу испугался, ведь тогда кто–то мог заметить, что тут не самое обычное дело и Лийт не просто пользуется своей напарницей из Общинников; что, если она действительно мне нравится и кто–то об этом узнает?
– Четыре возможные синекдохи, – констатировал я. – И даже одна катахреза намечается. Возьму ее и посмотрю, кто гломит.
– Компания не нужна?
– В той части города очень много банд. Сейчас мне надо просто навести справки, и вдвоем ходить не стоит. Так сразу несет копами, а с копами там всякие несчастья происходят.
Хорейси кивнула, я только порадовался, что она не стала настаивать. В физической драке ее помощь увеличила бы мои шансы всего на девять процентов, а из–за Жукоглазой леди (так ее звали информаторы) коммуникабельность падала на целых двадцать два.
Она обняла меня; надеюсь, на камере жест выглядел достаточно раболепным, но, полагаю, раньше он так и смотрелся.
– Будь осторожен, – сказала она.
Я мягко оттолкнул ее и ответил:
– Я всегда осторожен, – и изо всех постарался сделать равнодушное лицо, когда она улыбнулась. Еще одна шутка, понятная только нам.
По большей части существуют всего четыре причины, по которым около шестнадцати из семнадцати прыгунов в мезоисторический период (то есть приблизительно 3151 человек из 3349) отправляются в путь:
1) одержимость какой–то исторической проблемой (сейчас практически на всех фотографиях, сделанных на месте убийства прэзиданта Рейгана, стоит около десятка человек с камерами и в костюмах по моде следующих трех веков);
2) финансовые схемы со сложными процентами (мы полагаем, что в изначальной истории Биржевого пузыря 1641 года вообще не существовало);
3) фантазии, из–за которых человек думает, что смог бы перещеголять любого исторического завоевателя (через Профилаксическую программу Уэннесса за десять лет проходит столько потенциальных Гитлеров и Наполеонов, что ими можно заселить целый квартал многоэтажек);
4) серийные убийства (в дебрях истории есть немало мест, где маньяков практически невозможно поймать).
Но Пероном, скорее всего, двигала какая–то другая причина. Хорейси считала, что среди тех, кто не укладывался в общую схему, можно выделить еще два класса, и, по ее мнению, Альварес принадлежал к шестому. Если она была права, то ситуация была намного хуже, чем казалась на первый взгляд. Я даже не мог подсчитать насколько.
– Я ищу парня, которого, скорее всего, кличут Безухим. Сделка обычная, ты знаешь, с «бенджаминами» у меня всегда хорошо. – Я показал женщине пять полуторатысячных долларовых купюр, и Пиклс осклабилась при виде улыбающегося Дизраэли. – Его также могут звать Голландским Эйнштейном или доктором Голландцем, и эти имена он любит, в отличие от Безухого.
Пиклс редко мылась, но по–прежнему одевалась так, чтобы показать товар лицом. Я отодвинулся от нее, но она все равно подсела ближе. Я видел, как двигаются ее губы: полторы, три, четыре с половиной… Она была бы счастлива и десятой доле той суммы, что я плачу, – но после семи с половиной тысяч она обязательно запомнит наш разговор.
Через минуту Пиклс кивнула:
– О новом парне я слышала, но не встречала. У него уха нет, если мне память не изменяет. – Она захихикала или, скорее, затряслась, собирая мокроту. – Понял, да? – Похоже, думала, что пошутила. – Он сейчас вычислителем работает в Гейгер–банке Брока. Я там поставила на четыре–одиннадцать–сорок четыре, но ни черта, так что фальшивка все это.
Пиклс продавала информацию всем: полиции, Бюро по контролю алкоголя и оружия, всяким сверхсекретным агентствам, всем местным бандам и, скорее всего, еще кому–то, о ком я понятия не имел. Если ты что–нибудь сообщал ей. то, считай, рассказывал всем; я хотел, чтобы Безухий знал – его ищут.
Я уже провел четыре такие беседы с информаторами в двух барах, находящихся где–то в децимиле от квартиры Альвареса Перона. И два раза услышат, что Безухий работает вычислителем в Гейгер–банке Брока.
Гейгер–банк – это всего лишь игра в числа, особый флер которой придает то, что для генерации цифровых последовательностей в ней используют счетчики Гейгера, лежащие на блоках остеклованных ядерных отходов. Странно, что сочетание 4–11–44 еще пользовалось популярностью. Прошло сто пятьдесят лет с тех пор, как бомбардировщики «Шерман» вкатали в землю каждое железнодорожного депо от Атланты до океана; в ирландской части города вкусы меняются медленно.
Но сейчас речь шла не о гетто настоящего, а о богемных кварталах с дешевым жильем, которые были здесь шестьсот лет назад. Саутуорк приходился домом чудаковатым художникам и ученым вроде Чосера, Данстейпла, Леонела Пауэра и Тируитта, некоторым молодым аристократам и всяким мошенникам, знающим меру.
Игра в числа – забава довольно старая, Фибоначчи упоминает о ней в том же трактате, где пишет об арабских цифрах. Несомненно, в Саутуорке 1388 года немало людей знало, как выстроить цифровую последовательность, и если один из них улетел в будущее, став балластом Перона, то в этой округе он без работы не останется. Что вполне имело смысл.
Посеяв достаточно слухов о Безухом, я отправился к Броку. Хорейси вечно бранила меня за излишне прямой подход, но у меня на то были две веские причины: во–первых, он часто срабатывал; во–вторых, по–другому я не умел.
Телефон оповестил меня, что звонит Хорейси. Я ответил:
– Принять.
Как обычно, словно чему–то удивляясь, она спросила:
– Ну как, ты веришь в мою теорию о дополнительных классах?
Я сдержанно улыбнулся, повернув экран так, чтобы она видела мое лицо:
– Появились доказательства, что Перон входит в шестую категорию?
– Возможно. Встретимся у тебя где–то через час?
– Конечно. Не вижу причин, по которым мне надо торопиться туда, куда я сейчас направляюсь.
– Тогда увидимся. – Она повесила трубку. Вот еще одна черта, которую я люблю в Хорейси. Она всегда обходится без этих глупых «благослови тебя Боже», а ведь куча народа без них просто не может. Закончила разговаривать – нажала отбой, как разумный человек.
Я развернулся, решил сесть на левитранс для Лийтов; так я доберусь до места раньше Хорейси, ей–то придется пользоваться Общинным.
По тротуару шла целая семья людей со смуглой кожей. Они в точности походили на тех, кого я видел в музеях, только на этих была одежда, и они друг с другом разговаривали.
Благодаря многолетней тренировке я всегда могу сохранять невозмутимость. Да и в любом случае практически ни на что не реагирую. Но сейчас моему обычному равнодушию бросили невиданный вызов.
Я справился. Посмотрел на них, но отсутствующе, как человек, который ни о чем не думает, а потом еще и улыбнулся.
Дедушка группы – а там были еще мама, папа и два ребенка – взглянул на меня, улыбнулся в ответ и произнес:
– Прекрасный день, не правда ли? Солнечный денек в Денвере – разве это не замечательно? – Он говорил с акцентом, напоминавшим диалект Конфедерации.
– Только что об этом думал. Ясно, светло и не очень холодно.
Он мило кивнул, и мы пошли каждый своей дорогой. Я не позволил себе побежать, схватиться за телефон и даже особо задуматься.
Эта семья бронзовокожих людей была самой большой каузопропагационной аномалией, которую я когда–либо видел. А повидал я их немало. Дело, похоже, в сотни раз важнее, чем я предполагал.
Дополняя положения Эйнштейна, Шредингер показал, почему довольно часто вперед всех малых изменений пробивалось что–то огромное, хотя обычно первыми распространялись те, что в наименьшей степени затрагивали энергию, каузальность или энтропию.
По идее современные электронные приборы должны были изменяться сразу – там всего–то квант–точкам надо перейти в альтернативное состояние. Потом приходил черед старомодных электронных записей, там шла лишь пара тысяч электронов на бит. Бумага требовала целой калории на страницу, поэтому до нее флуктуации добирались лет за двадцать или вроде того. И только потом напинати изменяться более грубые объекты: кораблекрушения происходили в других местах, пустели и наполнялись могилы, приобрел иные формы мебель и здания, перемещались деревья и дороги. Для этого требовались мегаджоули, а может, и того больше, такие метаморфозы отнимали века, а потому с остальными практически не смешивались.
Но меньше всего влияет на события и требует наиболее сложной перестройки долгосрочная память в мозгах социально изолированных людей. Она не меняется, пока ей не приходится этого делать, и призрачные версии иного мира живут в некоторых головах, пока отшельник или монах, принесший обет молчания, – или какой–нибудь одинокий чудак вроде меня или Хорейси – наконец не умирает.
И не спрашивайте меня про математику. Я понимаю не ее, а цифры. Я могу сказать вам, что 524,287 – это число Мерсенна, так как оно просто вот такое, но если вы захотите, чтобы я вывел собственный вектор или производную, то мне придется заглянуть в межсеть, где какой–нибудь парень уже давно проделал всю работу за меня.
Если вы не понимаете разницы между этими двумя способностями, то математику не поймете никогда – как и я.
Но, согласно теории герра Шредингера, когда в истории происходит сдвиг, некоторые изменения распространяются диспропорционально и беспорядочно, так как измерения консервации изогнуты, а их ортогональность несовершенна. (У меня чуть ли не картинка в голове возникает.) Именно поэтому в реальном мире появляются удивительные несоответствия в интервале между уходом и возвращением путешественника. Задолго до того, как пара миллионов квантовых компьютеров вспомнит кучу новых фактов, а в часто используемых словарях изменится правописание сорока слов, какая–нибудь автострада прыгнет на девять ярдов к западу, и построят ее на четыре года раньше. А иногда происходят большие изменения, тогда как на местах все остается по–прежнему: мы с Хорейси до сих пор помним те четыре часа, когда Денвер вдруг стал эспаноговорящим городом Аурарией, но все левитрансы КТО, как и раньше, ходили точно по расписанию.
Уравнения Шредингера также показали, почему любое изменение, как большое, так и малое, может остаться даже после того, как первоначальный сдвиг устранен. Шредингер говорил: если посадить кота в ящик, а потом уничтожить его родителей, то животное или исчезнет, или на его месте появится другое, неотличимое от прежнего, и этого нельзя узнать, пока не заглянешь внутрь. На протяжении двух лет в Питтсбурге время от времени появлялся мост; статуя Афины в Нью–Йорке могла превратиться в Долли Мэдисон или Элизабет Кэди Стэнтон; пассажиры, спускающиеся с гравилайнера в зал ожидания Международной Денверской станции, могли буквально на секунду увидеть, как взлетает крылатая ракета эпохи Гражданской войны с опознавательными знаками Фронтира.
Эти аномалии каузопропагации пропорциональны масштабу изменений, совершенных в прошлом. Что бы ни сделал Перон в Лондоне 1388 года, в результате на улице Денвера появились люди, которые исчезли четыреста лет назад, причем говорили они по–английски и акцентом походили на завезенных ирландских рабов.
Одно можно сказать точно: в ФБИ на горячую линию для сообщений об аномалиях поступит немало звонков. Если мы быстро не найдем Безухого, то придется разгребать гору бумажек.
Не успев зайти в дом, я сразу сообщил напарнице о том, что видел прямо на улице целую семью со смуглой кожей – причем еще и говорящую по–английски!
– Значит, поступок Перона запустил настолько большие изменения, что они отчасти затронули Великую чистку. Неудивительно, что Бюро назначило такие бонусы. Наверное, когда пытались замерить важность события, изотемпоральный автомат вертелся, пока у него игла не сломалась, – закончил я мысль.
Даже Хорейси, у которой в голове нет ни одной цифры или уравнения, удивилась:
– Думаю, нам надо срочно отправляться в этот Гейгер–банк и выяснить, что там можно найти. Времени у нас мало, поэтому лучше мне пойти с тобой, и плевать, что некоторые твои доносчики боятся Жукоглазой.
– Они навряд ли испугаются больше, чем я сейчас.
В поезде мы говорили о каких–то сиюминутных деталях задания, о рутине, так как все необычное, связанное с делом, вселяло в нас настоящий ужас.
Стоял рождественский сезон покупок, и левитранс Общинников был забит до отказа. Чтобы уединиться, пришлось потратить деньги на купе. И хотя окно было затемнено, мы могли и без всякого укрытия притворяться парой. Хорейси опять села гораздо ближе, чем позволял этикет. Я мог ее даже обнять. Разумеется, я – Лийт, она – Общинник, и после такого она вскоре бы исчезла. Пусть я был далек от общества и с людьми общался мало, но об этом не забывал никогда. И все же не мог не думать, как легко моя рука могла скользнуть вокруг ее талии.
Бюро рекрутировало людей вроде меня и Хорейси за аномальные воспоминания и нелюдимость. Если у Непризнанных Штатов Арморики в показателях ВВП изменялись две последние цифры, то я это замечал, и если в третьей речи Шельмеца из «Усилий любви» Вон изменял «О, вы» на «ты», Хорейси сразу улавливала такое несоответствие. Она уже изучила почти всего Чосера, поэта наиболее близкого к точке воздействия из тех, что были у нее в памяти, и сказала:
– Есть три небольших изменения, косвенных, такие получаются, когда подмастерье печатника умирает при рождении, а его замена делает другие ошибки.
Кстати, есть еще одна странность – я просканировала список подмастерьев в третьем издании Лондонского реестра известных личностей за тысяча трехсотый – тысяча триста девяносто девятый годы, и там все в порядке, но вот из второго издания за тысяча четырехсотый – тысяча четыреста девяносто девятый годы исчезли все женские имена.
– Может, у них был пунктик и они называли девочек мужскими именами? – предположил я.
– Все сразу? Когда дело касается детских имен, стопроцентных пунктиков не бывает. И к тому же во всех других ремеслах осталась куча девочек. Значит. Перон что–то сделал с книгопечатанием. – Хорейси явно расстроилась.
Поезд скользнул в огромный торговый комплекс, который недавно появился к югу от центра. Я помню, как он возник: тогда какой–то парень по имени Вариан прыгнул назад, решил уговорить Муссолини разорвать союз с Гитлером и послать папу римского на все четыре стороны. Понадобилась уйма времени, чтобы найти балласт Вариана, так как им оказалась красивая девушка, говорившая только на неолатинском. Одна из свободных ирландских банд сразу нашла ее. забрала в рабыни и продала на юг, в Мексеспанию.
– А неплохой центр получился, хотя мы провалили то дело, – заметил я. – Куча рабочих мест, да и здание красивое.
Хорейси сразу сфокусировала на мне апертуры. Моя попытка завязать светскую беседу, как обычно, оказалась донельзя нелепой и расстроила ее еще больше:
– Той бедной девочке пришлось очень плохо. Нужно стараться избегать неудач. В любом случае эта аномалия с лондонской переписью населения доказывает, что Перон сделал в прошлом что–то очень плохое.
Как только дело касалось пола, Хорейси слетала с катушек. Я, скорее, всего, взбесил ее еще больше, вспомнив о Вариане. Той девушке–балласту пришлось несладко.
На следующей пешеходной дорожке мы свернули налево, и я схватил ее за локоть и ткнул пальцем в сторону станции левитранса с северной стороны центра; на людях надо было действовать без всяких нежностей, и я за этим проследил. Тем не менее Хорейси взяла меня за руку. Тут никаких проблем не возникало; мы такое проделывали, притворяясь парой, и ФБИ не возражало до тех пор, пока я не начинал ухаживания. Не знаю, зачем нам нужно было такое прикрытие. Может, ей просто нравилось так ходить. Мне, по крайней мере, нравилось.
– Это дело начинает чертовски меня пугать, – сказала она.
Сначала она сердится, потом боится и, чтобы успокоиться, держит меня за руку. Я занес наблюдение в ментальную папку под названием «Как понимать Хорейси». Я уже давно заметил, что она ценит, когда ее понимают.
До следующего поезда оставалось еще немного времени, и мы прошлись по фальшивым викторианским магазинам, или «магазинникам» (большинство из них настаивали именно на таком написании). Владельцы разодели своих ирландцев в старомодные костюмы, и в лучах яркого зимнего солнца виднелись сплошные береты да цилиндры. Все остальные торговцы, продававшие индульгенции и сосиски, стояли, нарядившись в лепреконов Санта–Клауса. Впечатление было жутковатое: в моем детстве лепреконы считались монстрами, которых рабы могли сотворить и натравить на нас, но потом где–то во времени что–то соскользнуло, или кого–то ликвидировали, и теперь существовали плохие лепреконы-монстры и хорошие лепреконы–слуги.
– А ты помнишь, когда они все были плохими? – спросил я.
– О да. Из–за них вся моя жизнь изменилась. В девятнадцать лет я работала нянькой в богатой семье, читала сказки детям и однажды в ветхой книжке с потрепанными страницами, которую открывала уже раз десять, увидела, что у Вилли Вонки на шоколадной фабрике работали хорошие лепреконы. Я рассказала об этом своей матери, и она сдала меня копам.
– А те превратили в копа тебя.
– Ага. – Она снова улыбнулась, гримасничая, – наверное, ей понравилась моя шутка. Может, поэтому Хорейси и руку мне сжала сильнее. – Рождество – такой красивый праздник. Надеюсь, ничего не переменится и оно не исчезнет.
Она явно чувствовала себя счастливой. Может, из–за украшений? Правда, если все дело в них, то обычно люди говорят такое ночью, а не при дневном свете, разве нет?
Мы работали на ФБИ не только из–за странных воспоминаний, но и потому, что плохо ладим с людьми. Взаимодействие с балластами нас практически не меняло, да и едва ли имело значение, ведь ни с кем другим мы практически не общались. О таких, как я и Хорейси, в документах об охотниках на балласт говорят, что мы – люди без души. Я это лично читал, даже базу хакнуть пришлось.
Да и черт с ним. Я любил эту работу. Она не давала скучать, позволяла использовать многие мои навыки и сделала меня богатым человеком, даже по меркам Лийтовского обеспечения. И пусть у нас не было душ, но иногда мы с Хорейси все–таки веселились и прекрасно чувствовали себя в компании друг друга.
Мы добрались до северной станции Общинников, откуда должны были поехать в трущобы к востоку от центра города. Снова взяли купе. До отправления поезда оставалось десять минут, но нам предстояло многое обсудить наедине.
Вполне возможно, Безухий действительно окажется в Гейгер–банке Брока и решит с нами поговорить. Правда, несмотря на наши надежды, такой исход был маловероятен. Балласты охотно шли на сотрудничество, когда им приходилось нелегко на улице, но этот работал вычислителем, не бедствовал и, вероятно, уже обзавелся какими–то привязанностями.
Я поделился соображениями с Хорейси, и она коснулась моей руки – напарница опять села рядом, – а потом сказала:
– Кто часто напоминает мне, что нельзя выдвигать теории, не собрав достаточного количества данных?
До меня дошло лишь через секунду.
– Я.
– И?
– Ну да.
Она вновь состроила причудливую улыбку–гримасу; вдобавок ко всему Хорейси любит оказываться правой.
Мы обсудили то, что уже знали.
– Какая погода была весной? – спросила она. – Я никогда такого не помню.
– После прибытия прошло три весенних метелицы. И резкое похолодание в конце марта – минус семь по Цельсию двадцать восьмого марта и минус три двадцать девятого.
Поезд снялся с места и заскользил к центру города. Хорейси кивнула, открыла апертуры по всей поверхности глаз и уставилась в большое окно, вбирая малейшие детали красивого и свежего декабрьского дня.
– Тогда он точно нашел друзей и какое–то убежище, где–то достал еды, – протянула она. – Полной изоляции не получится.
Главная штука в разрыве каузальности между путешественником и балластом заключалась в том, что обрывать связь надо было как можно скорее. Так создавалась ситуация, при которой возникало самое простое решение Принципа непоследовательности: балласт становился жителем нашего мира, словно так было всегда, а путешественник во времени исчезал. Дехрония вставала на нашу сторону и стирала большинство изменений. Для наилучшего эффекта разрыв следовало проводить очень быстро.
Но так уже не получится.
Конечно, с человеком можно было поступить, как с комком грязи, бревном или оленем: рандомизировать, химически обработать и рассеять. Просто большинство охотников за балластом не любили похищать или обманывать людей, чтобы потом превратить их в пыль и уничтожить. Иногда мы с Хорейси думали, что Профилаксическая программа Уэннесса была всего лишь ширмой для комфортной работы следователей, и как только нас снимали с дела, любой балласт превращался в пережаренную сардельку. Я вздрогнул.
– Замерз? – спросила Хорейси.
– Нет, мрачная мысль пришла в голову.
– Мы имеем дело с чем–то огромным, судя по той семье, которую ты видел, – сказала она, – при таком раскладе бонус ФБИ обретает смысл.
Хорейси успокаивала себя, говоря о том, что мы и так хорошо знали.
Мы сошли на станции Уэлтон и остановились, пока по пути Д не пролетел левитранс Лийтов, спеша в Смоллвилль. Я задумался, останется ли мир прежним, когда они доберутся до станции, доедут ли туда те, кто сел на поезд в Денвере. От одной мысли стало не по себе.
Хорейси вновь взяла меня за руку. Я накрыл ее ладонь своею, так казалось лучше.
Солнце по–прежнему ярко светило, но ветер набрал силу, мне в нос как будто забили гвоздь, а сухой холодный воздух царапал кожу. На фонарях тревожно хлопали рождественские венки и флаги; я даже пожалел ирландских рабов, которым пришлось так высоко забираться.
Сменив тему, Хорейси спросила:
– О скольких аномалиях тебе уже известно?
Она не убрала руку, за что я был ей благодарен.
– В статистических данных немало изменений. Бейсбол, похоже, стал гораздо интереснее – очки выше, все свидетельства о перехвате хоумрана на четвертой базе исчезли, а в командах теперь по девять игроков вместо одиннадцати. За центрального и правого шортстопа играет один человек, а боковой филдер вообще исчез.