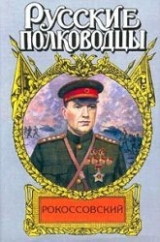
Текст книги " Рокоссовский: терновый венец славы"
Автор книги: Анатолий Карчмит
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Чайковский вытер полотенцем вспотевшее лицо, лег на кровать, отвернулся к стене и замолчал.
Вскоре в камеру привели едва державшегося на ногах пожилого человека, с профессорской бородкой и взлохмаченными рыжими с проседью волосами. Он сея на койку и, закрыв лицо руками, просидел более часа, затем лег в постель. Целые сутки старика никто не беспокоил, и он потихоньку пришел в себя.
– Судя по вашему разговору, любезные, вы военные? – неожиданно спросил он.
– Да, военные, – ответил Грязнов.
– А вас за что?
– Контрреволюционные элементы, – горько усмехнулся Грязнов.
–Произошла какая-то неувязка, – добавил Шестаков. – А вы кто будете?
– Воронов Михаил Иванович, – ответил старик, поправляя подушку. – Я из Красноярска. В институте занимался законами о наследственности и изменчивости организмов. Теплилась еще недавно такая наука, генетикой называется. – Он хотел сказать еще что-то и не смог: его душил кашель. Наконец он с надрывом в голосе продолжил дальше. – А теперь – враг народа. Терплю побои, издевательства... Но ничего, осталось недолго, может, скоро, дай бог, все эти мучения кончатся.
– Скорее бы, – подал голос Чайковский, который уже несколько дней не вставал с постели. – У меня порок сердца. Просил следователя показать врачам, а он и ухом не повел. До чего мы дожили! Куда только смотрит товарищ Сталин?
– Косьян, ты Сталина не трогай, – сказал Шестаков. – Он здесь ни при чем. Сталин, Советская власть были и будут на стороне народа.
– Вас еще не пытали, любезный? – уточнил ученый.
– Нет, у меня со следователем полное взаимопонимание.
– У меня вначале тоже так было, – сказал Чайковский, присев на постели. – А потом: говори, отвечай, проклятый враг народа! А, подлец, не хочешь говорить? Следователь открывал дверь и кричал: «Оболдуй, развяжи ему язык!» И тот Оболдуй с гирями-кулаками, с тупой, как у настоящего дебила, мордой, рязвязывал мне язык не один раз. Теперь мне все безразлично, я что угодно подпишу – лишь бы скорее кончилась эта мука.
– Удивляюсь я – до чего же тесен мир у руководителей нашей страны, – сказал Воронов, присев за стол рядом с Шестаковым. -Как незатейливы у них мысли о самом прогрессивном обществе на земле – социализме.
– О чем Вы это говорите? – с возмущением спросил Шестаков. – Это уже не лезет ни в какие ворота.
– Вот видите, товарищ бывший корпусной комиссар, – старик уставился на Шестакова. – Вам до сих пор невдомек, что диктатура, на вершине которой восседает Сталин, рассматривает народ как лес для порубки.
Шестаков жестом руки пытался остановить старика, но тот, присев рядом с Чайковским, продолжал:
– Выслушайте меня, пожалуйста, и не перебивайте. Вполне возможно, что эти мысли я высказываю в первый и последний раз. Имейте мужество их выслушать.
– Я категорически не разделяю ваших взглядов! – воскликнул Шестаков.
– Пожалуйста, это ваше право. – Воронов покраснел, руки его дрожали, взлохмаченные волосы придавали ему вид непримиримого спорщика. – Разве вы не видите, любезные мои, что народ трепещет от страха, который парализует его волю и терзает душу? – Он покосился на молчавших сокамерников и продолжил. – Страна не может терпеть диктатуру одного человека, не презирая его и не питая к нему ненависти. Эта ненависть, на первый взгляд, смирных и послушных, как овцы, граждан бурлит и клокочет в их душах. Ведь только туда защитники вождя заглянуть не могут.
– Народ Сталина поддерживает! – бросил Шестаков. – Вы говорите неправду!
– Нет, любезный, я говорю правду, – глухо сказал старик, побледнев. – Всеобщий страх днем вынуждает людей поддерживать вождя, неистово аплодировать ему, а ночами эти же самые люди кусают себе локти от возмущения,
Шестаков вспыхнул, вскочил со стула:
– Вот теперь я убедился, что вы самый настоящий враг народа!
Грязнов и Чайковский уставились на старика: что он скажет
в ответ на это внезапное обвинение.
– Знаете, любезный, – более спокойно продолжал рассуждать Воронов, – сам по себе напрашивается вопрос: кто же такие враги народа? Ученые, командиры производства, поднимающие экономику страны, так называемые кулаки, которые умели и хотели работать на своеЗ родной земле. Может, военные, такие, как вы, отдающие свои знания, силу и энергию на повышение боевой мощи Красной Армии? – Старик тяжело поднялся, включил в камере свет и встал посередине комнаты. -Разве этим люди враги народа? А может, враги народа те, но чьей воле страдает народ? Кто по туполобому самодурству единолично правит страной и уничтожает генетический фонд нации?..
– Хватит! Сейчас же прекратите! Иначе я вызову охрану! -прикрикнул на старика Шестаков.—Где же выросло такое пакостное зелье?
– На воле, любезный, на воле, на сибирской земле.
– Вы губите свою душу! ~ зло произнес Шестаков.
–А вы предавайте своих друзей, – ответил старик. Он повернулся и поднял глаза к тюремному окошку. На его седой бородке дрожали капельки слез.
Чуть меньше чем через месяц в полный голос «заговорили» Грязнов и Шестаков. В их письменных показаниях фигурировало больше «заговорщиков» против Советской власти, чем в «признаниях» Чайковского. Среди них важное место занимал их бывший сослуживец Рокоссовский.
Всех, кто сидел в камере читинского острога, постигла одна и та же участь – они были расстреляны.
Глава тринадцатая 1
При въезде в Ленинград Рокоссовский смотрел в решетчатое окно «воронка» и не мог отвернуться – не было сил. Лучи солнца скользили по траве, мелькали одетые в зелень деревья, телеграфные столбы, машины, прохожие. Но через два часа уже было темно и холодно – он сидел в одиночной камере в известной своими порядками старинной тюрьме «Кресты» – символе самодержавной власти русских царей.
Сколько людей перебывало в этом централе? Одни были искателями лучшей жизни; другие совершали уголовные преступления; третьи – покушались на устои власти. И вот теперь не-веселая доля привела сюда тех, кто, казалось 4>ы,'боролся аза лучшую жизнь, равенство, братство.
Каменная ограда тюрьмы была высокой и суровой. Ни один звук не проникал через стены ееказемаТов. Серая, убогая жизнь человека, попавшего сюда на годы, делала его похожим на цветок, выросший без солнечного света.
Камера была маленькой. Одна железная кровать, табуретка, привинченная к полу, тумбочка и столик. Небольшое квадратное отверстие в стене, у самого потолка, было устроено так, что пропускало лишь бледный клочок света, который назойливо дразнил воображение Рокоссовского: на воле поют птицы, земля радуется солнцу, по синему небу плывут облака, цветет сирень, распускаются розы, но все это для других, а не для меня.
В течение недели его не вызывали на допрос, не обра1цали на него никакого внимания, будто напрочь забыли, зачем его сюда привезли. Прогулки внутри тюрьмы разрешали ему такие короткие, что он не успевал ощутить прелести свежего воздуха.
Рокоссовский старался не думать о предстоящих допросах, -он не сомневался, что они когда-нибудь начнутся, – а старался предаваться воспоминаниям. Сегодня вечером, после мутной похлебки с кусочком черствого хлеба, он улегся на кровать и, положив руки под голову, думал о земле, где прошло детство, -где он вырос и возмужал.
В тюремной тиши краски далекого прошлого были очень живыми и яркими, словно картины талантливого художника-пёй-зажиста, когда на них смотришь издалека. Он вспомнил учебу в варшавской школе. С первым и третьим классом занимался один учитель. Он до сих пор помнит его имя – Эрвин Мельник. Это был добрый и умный педагог, владеющий тремя языками -польским, немецким и русским. А как он играл на скрипке произведения Шопена и Огинского! Заслушивались его исполнением родители и вся школа.
В часы самостоятельной работы в первом классе учитель привлекал лучших учеников третьего класса для оказания помощи малышам. Он и теперь видел себя возле кудрявой белокурой девочки Зоей. Он все время помогал ей больше, чем другим ученикам. И в каникулы они часто гуляли вместе, ловили рыбу и купались в затонах летней Вислы.
Но летело время. Он оказался в городишке Груец, она осталась в Варшаве. Время от времени они обменивались детскими посланиями. И когда ему пошел восемнадцатый год, она приехала на лето в Груец к родственникам. Ему особенно запомнился тот день, когда они встретились впервые, уже будучи почти взрослыми. Вот они поднялись со скамейки в саду, идут в лунную ночь по безлюдной улице, внезапно останавливаются, говорят о чем-то несерьезном, но своем, личном, потом сидят под раскидистым кленом.
Ему нравились черты лица той девушки, прямой носик, копна светлых, как дневное облако, волос, худенькая, невысокая фигурка. Ему казалось тогда, что в ней было все, что является неотъемлемой привилегией жизнерадостной, гордой юной красавицы.
Однажды она пришла с книгой. «Посмотри, Констанцы, -сказала она. – Ты ведь знаешь больше меня. Стоит ли читать?» Он тогда глянул на книгу: «Р. Chmielewski, Adam Mickiewicz, 1902 rok, Warszawa4. «Почитай, это интересная книга, – сказал он ей. – Но она написана взрослым языком, боюсь, что ты не все поймешь». «Ты думаешь, что я маленькая, – капризно проговорила она. – Я все равно буду читать». «Ну, зачем же обижаться, Зосенька, читай себе, читай», – он тогда не сводил с нее глаз.
Когда он твердо решил уйти в армию, она отговаривала его, но он был непреклонен. Накануне они сидели поздно вечером на скамейке у дома в яблоневом саду. Они тогда готовы были к юношеской любви, как розы к весеннему цветению, но стеснялись об этом друг другу сказать.
Рокоссовский грустно улыбнулся и подумал: «Где ты теперь, Зосенька? Жива ли ты, вышла ли замуж, есть ли у тебя дети?»
Рокоссовский так забылся в воспоминаниях, что от резкого стука в дверь он невольно вздрогнул. Звякнул замок, открылась дверь. Тюремщик рявкнул:
– Проверка!
– У нас все в порядке, – поднялся он.
– Хорошо, так и доложим!
2
На следующий день после обеда загремели засовы и открылась дверь камеры. Рядом с дежурным тюремщиком стояли два конвоира и за ними еще какой-то начальник, который вышел вперед и сказал:
– Рокоссовский Константин Константинович?
–Да.
– На выход, к следователю.
Через несколько минут он сидел в кабинете перед аккуратно одетым мужчиной, лет тридцати, с тонким крючковатым носом, массивным лицом. Его слегка прищуренные, неопределенного цвета глаза с любопытством изучали арестанта.
Кабинет был мрачным, тяжелым. Огромный однотумбовый стол, сейф, легкий чернильный прибор, будто хозяин стола боялся, что его могут использовать для нападения, одно кресло, на котором сидел следователь, и-один, как и в камере, привинченный к полу стул. Судя по всему, дневной свет в этом кабинете не уважали: окна были завешены стального цвета шторами. Над головой следователя в рамке из темного багета висел портрет Сталина. Он был изображен сидящим в фуражке военного покроя, в шинели, во рту держал рукой трубку и, наклонившись вправо, словно просвечивал насквозь сидящего на стуле. Казалось, его взгляд спрашивал: не могу понять тебя, Рокоссовский, ^ что ты за птица?
Следователь, слегка шевеля красными губами, взял пухлую папку из высокой стопки, лежащей справа, и углубился в чтение. Затем он поправил густые волосы, ниспадающие на высокий лоб, отложил в сторону ручку.
– – Ну, что ж, Константин Константинович, я думаю, мы можем начать?
– Начинайте, это ваше право.
– Как вы понимаете, я следователь НКВД. Меня зовут Никита Иванович Кавун.
– Очень приятно, – слегка улыбнулся Рокоссовский.
– А теперь скажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах поляк, уроженец Вильно, Адольф Казимирович Юшкевич, резидент польской разведки, смог завербовать вас и заставил работать в пользу враждебного нам государства, – сказал Кавун и, слегка наклонившись к столу, не глядя на бумагу, сделал какие-то пометки. Возможно, только известным ему способом он фиксировал реакцию подследственного на это тяжелое обвинение.
– Это неправда, – сказал, покраснев, Рокоссовский. Он глянул добрыми глазами на следователя. – Никита Иванович, это чистейший вымысел.
– Это вы говорите! – с чувством собственного превосходства
воскликнул Кавун. – А мы располагаем неоспоримыми фактами, что он завербовал вас в 1916 году еще в Каргопольском полку, будучи унтер-офицером пятого эскадрона. И, чтобы поглубже внедриться в Страну Советов, правдами и неправдами пролез в командиры полка, в котором вы тоже служили и ходили у него в лучших друзьях. '
– Значит, по-вашему; Юшкевич с целью шпионажа в пользу польской разведки проливал кровь за революцию? – спросил у следователя Рокоссовский. – После тяжелого ранения сбежал из госпиталя, чтобы продолжать бить Колчака, Врангеля. Выходит, так, согласно вашей версии?
– Это тоже один из приемов матерых разведчиков, – продолжал гнуть свою линию следователь. – Быть всегда на виду, проявлять рвение в службе.
– Воевать за Советскую власть и безоглядно отдавать жизнь за ее идеалы – это вы называете приемом?
– Тут выбирать не приходится: или пан, или пропал.
Рокоссовский с недоверием посмотрел на следователя и с
обидой в голосе произнес:
– Я должен вас разочаровать: ваши доказательства шиты белыми нитками.
– Откуда у вас такая уверенность? '
– Мне доподлинно йзвестно, что Юшкевич, командуя полком в дивизии Блюхера, геройски погиб в борьбе с Врангелем. Это случилось 28 октября 1920 года под Перекопом.
– Полноте, – скептически заметил Кавун. – Сведений о его гибели нет, свидетелей тоже. Мы располагаем проверенными данными, что Юшкевич нелегальным путем ушел в. Польшу<з районе Радошкович под Минском, когда вы командовали Самарской дивизией. И вы знаете, почему он выбрал этот участок границы.
– Вы намекаете на то, что я помог ему уйти? – повысил голос Рокоссовский.
– Вы угадали, – улыбнулся следователь. – И спорите вы из чистого упрямства.
Кавун перелистал страницу дела и, внимательно взглянув на подследственного, углубился в чтение.
Молчание тяготило Рокоссовского. Ему захотелось закурить, но он не стал спрашивать разрешения у Кавуна: посчитал это унизительным.
– Жаль, я ждал от вас другого поведения, – нарушил молчание Кавун, поглядывая на свои заметки. – Что вы были завербованы Юшкевичем, вы категорически отрицаете?
– Да, категорически отрицаю.
– Тогда расскажите, как вы помогали своему другу нелегально перейти границу, – спокойно сказал следователь. – Кстати, начальника пограничного отряда Ковалева Владимира Игнатьевича вы хорошо знали?
– Да, его участок границы входил в направление, которое прикрывала Самарская дивизия. Мыс ним были в хороших дружеских отношениях.
– Так вот, Ковалев дал нам показания, как вы с его помощью переправляли через границу Юшкевича, – проговорил Кавун. Он достал из дела лист бумаги и протянул Рокоссовскому: – Можете ознакомиться.
Рокоссовский, прочитав документ, изменился в лице. Он молча вернул его следователю.
– Ну, что вы теперь скажете? – спросил следователь с торжеством в голосе.
– Если у вас мертвые ходят через границу... – голос у Рокоссовского погас, у него вертелось на языке грубое слово, но он не стал его произносить.
– Чем вы можете доказать, что Юшкевич погиб?
Рокоссовский, ошеломленный показаниями пограничника,
с упреком посмотрел на Кавуна. «Неужели он всерьез уверен в том, что я шпион? – подумал он. – Как мог дать такие ложные показания Ковалев?» Он смотрел на следователя со все возрастающим удивлением: Горькая улыбка пробежала по его губам. Это было единственное, что он мог себе позволить для выражения гнева.
– Я был уверен, что у вас доказательств о смерти Юшкевича нет, – ухмыльнулся Кавун.
– Вы и здесь ошибаетесь.
– Вот это вы зря.
– Жив человек, у которого Юшкевич умер на руках.
– Где живет?
– В Москве, на улице Горького, номер дома не помню.
– Где работает?
– В Наркомате просвещения. Белозеров Андрей Николаевич./
– Мы потратили с вами уйму времени, – с досадой сказал Кавун. – Для пользы дела хотелось бы еще кое-что выяснить. Ответьте мне на вопрос: если вы не имеете никакого отношения к польской разведке, то почему вы, командир дивизии, на занятиях по оперативной подготовке под Минском утверждали, что панская Польша не развяжет с нами войну. Как прикажете понимать ваши слова? Не подрыв ли это боеготовности Красной Армии?
– О том, что Польша в одиночку не нападет на Советский Со-
f.
f

юз, я это утверждаю и сейчас, – решительно сказал Рокоссовский. – Почему? Я повторять не собираюсь. Судя по всему, у вас материалы имеются. Я там объясняю причины.
> – Нам осталось выяснить еще один вопрос, Константин Кса-
верьевйч, – сказал Кавун, сделав ударение на последнем слове.
– Пожалуйста, выясняйте.
– Почему вы поменяли отчество, чем оно вам не нравилось?
– Это мое личное дело, – сухо ответил Рокоссовский, – и к тому, о чем мы сегодня говорили, никакого отношения не имеет.
■ – Ну, а все-таки, – продолжал Кавун. – Стоит ли из-за моего
вопроса сразу лезть в бутылку. У нас с вами должны быть доверительные отношения. Удовлетворите, пожалуйста, мое любопытство.
– Причиной этому было то, что «Ксаверьевич» непривычное
слово для русского уха и его постоянно перевирали, писали то Савельевич, то Ксавельевич, то еще получше, – пояснил Рокос-совский. – Человек задним умом крепок. Теперь каюсь: молод был, не надо было этого делать. .
– Что ж, на сегодня хватит, – сказал Кавун, собирая в папку бумаги. – А вы, Константин Константинович, хорошо подумайте, о чем мы с вами сегодня толковали. Не все сразу сознаются в содеянном. Честное признание и раскаяние являются смягчающими вину обстоятельствами. Теперь мы будем встречаться с вами часто. Лучше будет для нас с вами, если вы расскажете все начистоту.
– Мне не о чем рассказывать.
– Как знать, – загадочно улыбнулся следователь.
В сопровождении конвойных Рокоссовский покинул кабинет. Когда он вернулся в камеру, был уже вечер. Подали ужин. Он насилу выпил стакан чаю и съел кусочек хлеба.
Как загнанный в клетку дикий зверь, он ходил по камере (четыре шага туда, четыре – обратно) и все думал и думал. Предъявленные ему обвинения сильно озадачили и поставили его в тупик. Сегодня он убедился – намерения НКВД в разладе с действительностью. Раз его хотят поймать на такую дохлую наживку, вначит, у них дела идут из рук вон плохо. Сколько ни-думал, сколько ни гадал Рокоссовский – все равно не мог понять: кто же основной организатор этой глупой затеи. Зачем и кому надо делать из него польского шпиона? И то, что следователь знает многие подробности его служебных разговоров, подтверждает предположение, что особисты следили за каждым его шагом.
Рокоссовский вспомнил анкету, которую ему дали заполнить, когда назначали командиром корпуса. Будто кадровикам не было известно, что он не состоял в национал-шовинистиче-ских, троцкистской и других контрреволюционных организациях, не отклонялся и не колебался от генеральной линии партии, не служил в белой армии, в антисоветских националистических отрядах. Все равно его заставили ответить на каждый пункт анкеты.
Много воды утекло с тех пор, как установилась Советская власть, а мы почему-то считаем, что внутренние враги спят и видят, чтобы ее уничтожить. Пример самого справедливого общества, лучший в мире уклад жизни, а не грубая и никем не обузданная сила перемелет в порошок любого противника.
Где-то к полуночи он, не раздеваясь, лег в постель и скоро уснул. Всю ночь его мучили тревожные и беспокойные сны. То он гулял со своей Юлией на берегу реки Селенги, то они стояли у памятника декабристам и целовались... Потом он видел маленькую Аду. Она заливалась в отчаянном плаче, а он носил ее цо комнате, напевая какую-то мелодию. Ему стало так жарко, что он рванул на себе тюремную робу и тут же проснулся. Он присел на койку, затем собрал на полу оторванные пуговицы и положил их в карман. В квадратном окошке под потолком еще не было видно признаков рассвета, но он уже не мог уснуть и снова начал мерить шагами камеру.
Глава четрнадцатая 1
Прошло почти девять месяцев, а следователь Кавун не сумел довести дело Рокоссовского до суда тройки. Он рвал на себе волосы: ему впервые попался такой крепкий орешек. Бывало, ме-сяц-два, от силы три – и люди не выдерживали, сдавались. А этот стоит на своем – не виноват, и все. Пробовали выбить из него показания – и это не помогло. А ведь начальство давит: где признания и собственноручная подпись шпиона Рокоссовского? Грозят даже понизить в должности. «Что ж, сломаешься, никуда не денешься. Ты у меня еще заговоришь, упрямый осел», -так думал Кавун, находясь в своем кабинете. Он ждал Рокоссовского.
Открылась дверь, и конвоиры ввели в кабинет подследственного. Рокоссовского трудно было узнать: его спортивная фигура осунулась, лицо было в синяках, красная царапина шла от уха к подбородку, посиневшие губы были сжаты.
– Здравствуйте, – сказал Кавун, окинув узника недружелюбным взглядом.
– Можно сесть? – тяжело поднял глаза Рокоссовский.
- Садитесь.
– Спасибо.
– Твоя вежливость у меня уже сидит в печенках.
Рокоссовский с презрением глянул на следователя и промолчал.
Кавун пошел с места в карьер.
– На всех тактических и штабных учениях практиковать опрос пленных по имеющимся словарям пленных изображают один-два командира, отвечающие только на японском языке. С июля сего года во всех штабах установить один день в пятидневку, закрепив в этот день один час, в течение которого весь разговор в штабе лицами начальствующего состава, используя словарь, вести только на японском языке. Изучению японского военно-разговорного языка придать исключительное значение, поставив целью к декабрю сего года всему начальствующему составу овладеть суммой слов, необходимых для опроса пленных. -Закончив читать, Кавун оторвал взгляд от бумаг и уставился на Рокоссовского. – Это ваш приказ?
– Да, – нехотя ответил тот. – Это приказ по пятнадцатой дивизии.
– Чем же вас так ублажили японцы, что приказали своим подчиненным изучать их язык?
– Это требование тогдашнего командира Забайкальской группы войск Грязнова, а ныне командующего Забайкальским военным округом.
– Вы отстали от жизни, Константин Константинович. Ой как вы отстали. – Кавун покачал головой. – Грязнов арестован еще в прошлом году.
– То есть как арестован?
– Так же, как и вы.
. – Странно. Это был прекрасный командир.
– А что тут странного? – следователя явно забавляло поведение Рокоссовского. – Ваш Грязнов признался, что был завербован японской разведкой. Он ждал, когда японцы оккупируют Дальний Восток, и готовился встретить их во всеоружии. А за то, что его подчиненные лопотали бы на японском языке, знаете какое бы он получил вознаграждение? Хм, нам, простым людям, и не снилось. – Кавун кашлянул и, внимательно разглядывая Рокоссовского, добавил: – А вы, выходит, ему помогали. Вот такая вышла на деле петрушка.
– В изучении языка будущего противника я ничего плохого не вижу.
– Если бы дело было только в изучении языка.
Рокоссовский посмотрел в холодные глаза Кавуна.
– Похоже, вы мне и шпионаж в пользу японской разведки собираетесь пришить?
– Дело покажет. Ясно одно – вы были тесно связаны с Грязновым и ходили у него в друзьях. Вполне возможно, что вы с ним работали на японцев заодно.
– Это ложь! – зло сказал Рокоссовский. – Лучше сразу обвиняйте меня, что я работал на английскую и французскую разведки. Семь бед – один ответ.
– Вы не язвите, гражданин Рокоссовский! – повысил голос Кавун и, выйдя из-за стола, положил перед ним протокол допроса. – Подпишите!
– Я ничего подписывать не буду.
– Снова за свое.
– Я сто раз об этом говорил: я ни в чем не виновен!
– Тогда скажите, вы были знакомы с Чайковским Косьяном Александровичем?
– Да, был. Он служил в штабе Забайкальского военного округа. В его ведении были бронетанковые и механизированные войска, и мы с ним часто решали служебные вопросы.
– А по неслужебным делам вы с ним общались?
– Несколько раз встречался на охоте, на рыбалке, – со скрытым раздражением в голосе ответил Рокоссовский. – Он повернулся к Кавуну. – В связи с чем возник этот вопрос?
– Он тоже дает очень интересные показания не в вашу пользу, -сказал Кавун, занимая свое место за столом. – Гражданин Рокоссовский, я даю вам время, подумайте, где вы встречались в неслужебной обстановке с Грязновым, Чайковским и другими. Для следствия представляет особый интерес – о чем вы говорили, к чему готовились. В следующий раз у меня будет к Вам очень много вопросов. Я еду в командировку в Читу и буду очень занят. – Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету и, остановившись напротив Рокоссовского, произнес: – Видите, как я с вами откровенен. Хотелось бы, чтобы и вы платили мне той же монетой.

Кавун нажал на кнопку звонка, и на пороге появились конвоиры.
– Уведите!
Был яркид и солнечный день мая 1938 года. Пока открывали заднюю дверь «воронка», Рокоссовский окинул взглядом голубое поднебесье, откуда доносились трели какой-то птицы; легкий ветерок обдавал лицо приятной прохладой.
– В машину! – подал команду старший конвоир.
«Как же хочется на волю», – подумал Рокоссовский, с трудом отрывая глаза от розовых тюльпанов на газоне у дома НКВД.
До поздней ночи просидел Рокоссовский на кровати. Он подтянул коленки, обнял их руками, положил на руки подбородок и на несколько часов подряд превратился в живую скульптуру.
Дело принимало новый оборот – его собираются обвинять в шпионаже теперь уже в пользу японской разведки. Пока только прозрачно намекают. По всей вероятности, Кавун и собрался ехать в Забайкалье, чтобы собрать на него материал.
Рокоссовский перебрал в памяти всех своих бывших сослуживцев по Забайкалью, особенно тех, на кого намекал следователь, и ничего предосудительного в их поступках не нашел.
Комкор Грязнов – это талантливый и сильный военачальник. У Рокоссовского не вызывало сомнений, что он, обладая даром управлять войсками, в то же самое время был простым и скромным человеком. Он воевал в Первую мировую войну, а в Гражданскую уже в двадцать лет командовал дивизией. «Нет, нет, не может этого быть, чтобы Грязнов был японским шпионом, – подумал он. – Это очередной бред особистов».
Рокоссовский думал о том, что они были почти одногодками, их военные судьбы были очень похожи. Может быть, поэтому они жили в дружбе. А больше всего они узнавали друг друга па рыбалке и охоте.
Живо вспомнилась Рокоссовскому охота и рыбалка на таежной речке, название которой он уже забыл. Грязнов, он и Чайковский проехали километров пятьдесят на машине и через два часа дошли до заимки, расположенной у крутой каменистой горы, северный склон которой покрывали могучие лиственницы, сосны и кедры. В ущелье протекала горная речка, а из-под горы вырывался на волю говорливый родник.
Заимка была построена из бревен, земляной пол с двумя окошками, печь из дикого камня, обмазанного белой глиной,

стол, сколоченный из неотесанных досок, в углу нары, а вместо табуреток – чурбаки.
Поздно вечером у печки хлопотал Чайковский, готовил ужин, а Грязнов и он сидели на нарах, травили анекдоты и наблюдали – повар не разрешал никому прикасаться к продуктам, пока не будет готова царская еда. В полутьме светились огоньки папирос, дым от них уходил в приоткрытое окошко. В заимке пахло дымком и свежим сеном. Небрежно привалясь спиной к стене, Грязнов, взволнованный удачной охотой, попыхивал папиросой и говорил:
– Как только я забрался на скалу, вижу – внизу пасутся две козы. Винтовка у меня, как вы знаете, первый класс. Мне ее Уборевич подарил за одну очень удачную операцию. Прицеливаюсь под левую лопатку и – бах! – с первой же пули удача.
Он тоже тогда убил козла. Не повезло только Чайковскому -он два раза промахнулся. После ужина с двумя-тремя рюмками водки они спали как убитые.
Утром, на зорьке, они вышли на рыбалку. Ночью было холодновато, даже в затишке река подернулась ледком, но день обещал быть Теплым.
Рокоссовский как теперь видел тайгу. Она раскинулась без конца и края. После зимы, посеревшая, местами раскрашенная в зеленый цвет кедром и сосняком. Громадные отвесные утесы были густо йокрыты мхами и лишайниками.
Они тогда выбрали широкий тихий плес в излучине реки. Чайковакий сидел под кустом лозняка, недалеко от него внимательно следил за поплавком Грязнов, правее<вакинул две удочки он. На серебряной глади глубокого омута подрагивали от шаловливого ветра поплавки. И вдруг его поплавок резко нырнул под воду и пошел к середине реки. Сердце у него тогда зашлось от радости. Он вытянул из воды рыбину, которая шлепнулась о землю и затрепыхалась в траве.
– Косьян, смотри! – крикнул Грязнов.
– Не кричи своей луженой глоткой, рыбу распугаешь! – ответил тот с некоторой завистью. – Подумаешь, сазан, килограмма на полтора, не больше. Прошлый раз, помнишь, я поймал килограмма на четыре.
– Имей скромность, – улыбнулся Грязнов. – Не загибай.
На Рокоссовского нахлынула такая волна сладких воспоминаний, что она вытеснила из головы мысли о его безотрадном тюремном существовании, и он на время забыл о ноющей боли в спине после позавчерашних побоев. «Где вы теперь, друзья, вспоминаете ли когда-нибудь нашу рыбалку?»
Конечно, РокоссовскиЗ не мог знать, что Грязнова заста-вили подписать письмо Ворошилову, где он просил «серьезно проверить через органы НКВД» Рокоссовского по «подозрительным связям с контрреволюционными элементами». Он многое знал, о многом догадывался, но пока еще не в полном объеме представлял, до какого абсурда была доведена охота на «врагов народа», какие унизительные и жестокие экзекуции осуществлялись над людьми, свято верившими в социализм. '
Еще долго РокоссовскиЗ блуждал по лабиринту памяти, как заяц по снегу. Особенно они были безрадостными, когда он думал о семье. Он не имел понятия, где теперь живут жена и дочка, что с ними произошло после его ареста. Он делал несколько попыток написать письмо по старому, псковскому адресу, но ему ни разу не дали ни ручки, ни бумаги.
2
Летели дни, месяцы, и уже минуло более года, как РокоссовскиЗ без суда находился в тюрьме, в одиночной камере. Несколько месяцев его не вызывали на допрос. Видимо, нарочно тянули время, чтобы он окончательно убедился, что к расследованию его дела готовятся серьезно. Он изнемогал от одиночества. Ему хотелось хоть с кем-нибудь поговорить, пусть даже с тем же следователем, все равно – был бы живоЗ человек. Правда, иногда во время прогулки удавалось переброситься с кем-нибудь одним-двумя предложениями, но это были ничего не значащие слова. Все эти месяцы Рокоссовский был предоставлен самому себе. Не сломили его допросами, неоднократными избиениями -может быть, теперь решили взять одиночеством? Он старался мобилизовать силу воли, чтобы хоть как-нибудь заполнить окружающую его пустоту.








