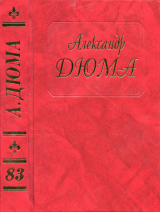
Текст книги "Регентство. Людовик XV и его двор"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
В этот момент еще одна особа разделяла с герцогом скандальную привилегию всецело занимать собой Париж: то была герцогиня Беррийская, которая, по слухам, не пожелала сделать ни единого шага в пользу узника, своего бывшего любовника, и поступила так из ревности к мадемуазель де Валуа.
Во время Страстной недели герцогиня Беррийская, несмотря на свою беременность, удалилась, как обычно, в монастырь Дев Голгофы, в покои, где она жила в дни пасхальных религиозных обрядов или охваченная внезапным порывом набожности, что с ней порой случалось.
Эти покои были маленькой кельей, где она жила, словно простая монахиня, спала на постели, твердой как камень, и молилась, стоя на коленях на сыром каменном полу и не желая подложить под них ни циновку, ни подушку.
И потому, видя, как рыдает и молится подобным образом августейшая кающаяся грешница, святые девы ничего не могли уразуметь в мирских сплетнях, проникавших к ним сквозь монастырские стены и утверждавших, что грехи античной Магдалины – лишь мелкие проступки в сравнении с грехами нынешней Магдалины.
На этот раз, соблюдая все пасхальные обряды, герцогиня Беррийская проявляла к себе еще большую строгость, чем обычно; дело в том, что она пребывала под гнетом предсказания, которое произвело на нее необычайно сильное впечатление. Перед тем как уединиться в монастыре, принцесса переоделась так, чтобы не быть узнанной, и отправилась к весьма известной в то время гадалке, которая, внимательно рассмотрев ее ладонь, промолвила:
– Ваши роды будут крайне опасными, но, если вам удастся пережить их, вы проживете долго.
Это предсказание поразило принцессу тем сильнее, что оно совпало с другим пророчеством, сделанным ей в годы ее юности и предвещавшим ей, что она не доживет до своего двадцатипятилетия.
Несмотря на все предосторожности, предпринятые принцессой, случай или рок подтвердил правоту гадалки; на восьмом месяце беременности герцогиня Беррийская упала, и это погубило ее ребенка.
Тотчас же после падения принцессу охватила лихорадка; на следующую ночь у нее начался бред, а какое-то время спустя ей стало так плохо, что в Париже распространился слух о ее скорой смерти.
Когда она впала в это состояние, врачи признались в своем бессилии помочь ей. И тогда, чтобы испробовать для ее спасения все средства, решили пустить в ход знахарство вслед за медициной и завели речь об элексире Гарюса, весьма модном в то время. Гарюса вызвали; он осмотрел принцессу и нашел ее состояние настолько плохим, что не захотел ни за что поручиться.
Поскольку никакой надежды более не оставалось, герцог Орлеанский, невзирая на негодование Ширака, все же решил довести дело до конца. Гарюс поставил условием, что с того часа, когда принцесса примет его эликсир, и до момента выздоровления или смерти она полностью принадлежит ему. Он потребовал также, чтобы в спальне принцессы, помимо него самого, все время находились две сиделки, дабы они могли бодрствовать у ее постели, когда ему потребуется недолгий отдых. Все было согласовано, обещано и клятвенно подтверждено. Принцесса приняла настой, а Гарюс и две сиделки обосновались в ее спальне.
Лекарство оказало благотворное действие сверх всякой надежды: принцесса тотчас же ощутила себя лучше. В течение нескольких минут все опасались, что испытанное ею облегчение, как это было когда-то с Людовиком XIV, окажется кратковременным. Но к вечеру улучшение ее состояния стало еще заметнее и продолжалось весь следующий день, так что спустя сутки после приема лекарства Гарюс уже полагал, что может ручаться за спасение принцессы.
Однако Гарюс не взял в расчет Ширака. Ширак негодовал, видя, что какой-то знахарь добился успеха там, где медицина потерпела неудачу. Он слышал, как Гарюс говорил, что в том состоянии, в каком находится принцесса, то есть после приема эликсира, всякое слабительное будет смертельным. Врач подстерег минуту, когда Гарюс, разбитый усталостью, уснул на оттоманке, и, появившись в дверях спальни, повелительным жестом призвал к молчанию обеих сиделок, которые, зная о влиянии Ширака на герцога Орлеанского, не осмелились воспрепятствовать его действиям; приблизившись к постели принцессы, он подал ей какое-то питье.
Принцесса, пребывавшая в полусне, выпила то, что ей было предложено, не поинтересовавшись, что за снадобье ей подали и чья рука поднесла его, и Ширак удалился с пустой чашкой в руках.
Через несколько минут принцесса приподнялась в постели, испуская страшные крики и жалуясь, что она испытывает все признаки отравления.
От этих криков Гарюс проснулся, спрашивая, что случилось. Сиделкам пришлось все ему рассказать. И тогда, в полной ярости, он выбежал в гостиную, где в ожидании действия лекарства находились герцог и герцогиня Орлеанские, и, громко крича, изобличил Ширака в преступлении.
Тотчас же все бросились в спальню больной, которой оказалось достаточно десяти минут для того, чтобы снова впасть в безнадежное состояние. Но как раз в этот момент, выказывая удивительное бесстыдство, появился Ширак, который стал во всеуслышание и с улыбкой на губах похваляться тем, что он сделал; затем, с ироничным поклоном пожелав герцогине Беррийской счастливого пути, врач вышел из комнаты.
Два дня спустя герцогиня скончалась, ни на минуту не приходя более в сознание.
Пока длилась агония дочери, герцог Орлеанский долгое время оставался подле ее изголовья. Но в конце концов, поддавшись уговорам герцога де Сен-Симона, он перешел вслед за ним в небольшой кабинет, где, стоя у открытого окна и оперевшись на балкон, смог вволю наплакаться.
Горе его было настолько глубоким, а рыдания настолько бурными, что, при его предрасположенности к апоплексическому удару, какое-то время можно было опасаться наступления у него приступа удушья. Поскольку ему нужно было пройти через спальню принцессы, чтобы удалиться, в конце концов удалось убедить его сделать это прежде, чем она умрет. Но, когда безутешный отец снова увидел простертую на ложе смерти дочь, которую он так любил, ему недостало сил сделать и шага дальше: он опустился на колени у ее изголовья и не поднимался до тех пор, пока она не испустила дух.
И лишь после этого он вернулся в Пале-Рояль, поручив герцогу де Сен-Симону позаботиться обо всем и во всеуслышание распорядился, чтобы не только все слуги принцессы, но даже и его собственные слуги подчинялись лишь приказам герцога.
Подробности вскрытия остались в секрете. Однако прошел слух, что тело принцессы, хотя она родила всего лишь за три месяца до этого, выглядело так, как если бы она снова была беременна.[11]
Герцогиня Беррийская была погребена без всякой траурной церемонии и без надгробного слова, ее тело не сопровождали гвардейцы, и его не окропляли святой водой; сердце ее было отнесено в монастырь Валь-де-Грас.
Траурный кортеж был таким, какой полагается богатому частному лицу; единственная королевская почесть, оказанная этому бедному телу, состояла в том, что оно упокоилось в древней базилике Дагоберта. Король носил траур полтора месяца, а двор – три месяца.
Герцогиня Беррийская оставила после себя единственную дочь.
Однажды в монастырь госпитальеров в предместье Сен-Марсо явился какой-то незнакомец и попросил настоятельницу принять в свою обитель маленькую девочку примерно двух лет, сопровождаемую гувернанткой. После того как стоимость пансиона была установлена, незнакомец заплатил за пять лет вперед. Затем он отправился за девочкой и привел ее вместе с гувернанткой в монастырь. Карета была заполнена тюками белья, отделанного кружевом, и тканей для платьев. Кроме того, там был небольшой столовый сервис из чистого серебра.
По прошествии некоторого времени после смерти герцогини Беррийской мадемуазель де Шартр, ставшая аббатисой Шельской, потребовала отдать ей девочку, называя ее своей племянницей; лишь тогда открылась тайна рождения этого ребенка.
По словам Дюкло, двадцать или двадцать пять лет спустя он видел эту монахиню в одном из монастырей Понтуаза. К этому времени все ее состояние свелось к пенсиону в триста франков.
Почти в то же время, что и эта смерть, имевшая место 21 июля 1719 года, в полночь, случились две другие смерти, которые перевернули бы весь мир, произойди они на десять лет раньше, а теперь произвели впечатление не большее, чем если бы речь шла о смерти обычных людей.
Первой из них была смерть г-жи де Ментенон.
После смерти короля г-жа де Ментенон жила в Сен-Сире. Она завела там нечто вроде этикета вдовствующей королевы. Когда королева Англии приезжала к ней обедать, обе они сидели в креслах. Их обслуживали юные воспитанницы школы, и сотрапезницы держались между собой на равной ноге.
Один лишь герцог Менский мог приезжать повидать ее, не спрашивая на то разрешения. Он часто являлся засвидетельствовать ей свое почтение, а она, со своей стороны, всегда принимала его с материнской нежностью. Понижение ранга ее приемного сына она восприняла с большей печалью, чем смерть короля. И, дабы в некотором смысле умереть так же, как она привыкла жить, г-жа де Ментенон слегла в постель на другой день после того, как ей стало известно об аресте герцога Менского; три месяца она провела в горячке и изнеможении и по прошествии этих трех месяцев скончалась в субботу 15 апреля 1719 года, в возрасте восьмидесяти трех лет.
Второй смертью, такой важной, случись она в прежнюю эпоху, и такой безвестной в то время, к которому мы подошли, была смерть отца Ле Телье, королевского духовника, скончавшегося 2 сентября того же года.
Между тем война с Испанией продолжалась, и 16 июня мы захватили Фуэнтеррабию, а 11 августа – Сан-Себастьян.
Наконец, в течение того же августа шевалье де Живри с сотней солдат, погруженных на английскую эскадру, захватил город Сантонью и сжег там три испанских корабля, в то время как маршал Бервик вторгся в Каталонию и завладел городом Уржелем и его замком.
X
Мадемуазель де Шартр. – Причины ее ухода в монастырь. – Ло. – Апогей его системы. – Герцог Бурбонский. – Ришелье выходит из Бастилии. – Бретонские дворяне. – Сосредоточение власти в руках герцога Орлеанского. – Альберони. – Испанская королева. – Лаура Пескатори. – Опала Альберони. – Письмо короля. – Изгнание. – Всеобщий мир. – Бретонцы. – Господин де Монтескью. – Понкалек, Монлуи, Талуэ и Куэдик. – Казнь. – Крах системы Ло. – Чума в Марселе.
За некоторое время до того, как смерть забрала у регента одну из его дочерей, другую дочь отняла у него религия.
Мы уже говорили о слухах, ходивших по поводу мадемуазель де Шартр: это были точно такие же толки, какие ходили по поводу герцогини Беррийской и мадемуазель де Валуа. Причина ее ухода в монастырь осталась тайной. Принцесса Пфальцская признается в своих «Мемуарах», что ей самой были неизвестны мотивы, вызвавшие у мадемуазель де Шартр желание быть монахиней.
Ришелье же обходится без всяких обиняков и прямо заявляет, что это произошло одновременно «из ревности к мадемуазель де Валуа и ради того, чтобы иметь сераль».
Мадемуазель де Шартр прожила уже почти целый год в монастыре, где 23 августа 1718 года она приняла постриг, как вдруг 14 сентября 1719 года ее назначили аббатисой.
Должность аббатисы Шельской была куплена регентом у мадемуазель де Виллар, сестры маршала, получившей взамен пожизненную ренту в двенадцать тысяч ливров в год.
«Это была, – говорит Сен-Симон, – весьма странная аббатиса: то чрезмерно строгая, то напоминавшая монахиню лишь одеянием. Музыкантша, хирургиня, богословша, управительница – и все это перескакивая с одного занятия на другое, пресыщаясь ими и уставая от них».
В то самое время, когда умерла герцогиня Беррийская, а мадемуазель де Шартр сделалась аббатисой и сменила свое княжеское имя на скромное имя сестры Батильды, карьера Джона Ло достигла своего апогея, и весь Париж, устремлявшийся к улице Кенкампуа, принял странный облик, причиной которого явились совершившиеся социальные перемены.
И в самом деле, едва ли не все капиталы были затронуты, поколеблены, сокрушены или основаны вследствие странного головокружения, охватившего тогда всю Францию: люди приезжали из провинции, из Англии и даже из Америки, чтобы принять участие в этой удивительной игре с акциями, создававшей и разрушавшей капиталы за время между восходом и заходом солнца.
Только в период с 3 января по 1 апреля Джон Ло, в силу королевских указов, выпустил банковских билетов на семьдесят два миллиона ливров.
Было совершенно невозможно, чтобы регент отказал в контроле над финансами столь популярному человеку. И потому разговоры о том, чтобы предоставить ему этот контроль, шли постоянно; единственная причина, удерживавшая регента от такого решения, заключалась в том, что Ло не был католиком.
К счастью, Ло бы еще менее щепетилен, чем регент: вверенный заботам аббата де Тансена, он отрекся от своей веры и перешел в католичество.
Это отречение Ло доставило аббату де Тансену посольскую миссию в Риме.
Оно не было слишком дорогой ценой, ибо каждый день Ло добывал более чем странные указы, и было вполне очевидно, что гроза, мало-помалу собиравшаяся над ним, рано или поздно должна обрушить на его голову град и молнии.
Во-первых, это было постановление регентского совета, запрещавшее осуществлять посредством звонкой монеты какие бы то ни было платежи свыше шестисот ливров. Несколько месяцев спустя вышло новое постановление, согласно которому платежи не могли быть выше десяти ливров серебром и трехсот ливров золотом. Наконец, последнее вступившее в силу постановление запрещало кому бы то ни было, под страхом взыскания, хранить у себя дома более пятисот ливров в звонкой монете; этот запрет распространялся даже на религиозные и мирские общины.
Треть суммы, обнаруженной у нарушителя, получали в виде награды доносчики.
Тотчас же все запасы звонкой монеты были обменены на банковские билеты, что повысило общую стоимость акций банка Джона Ло, которая, если верить тому, что утверждал в 1767 году г-н де Неккер в своем «Ответе аббату Морелле», доходила до шести миллиардов ливров.
Что же касается самого Ло, то он менял свои деньги не на банковские билеты, а на поместья. В начале своей деятельности он купил у графа д’Эврё за 1 800 000 ливров графство Танкарвиль в Нормандии. Принцу де Кари-ньяну он предложил 1 400 000 ливров за Суассонский дворец; маркизе де Бёврон – 500 000 ливров за владение Лильбон и, наконец, герцогу де Сюлли – 1 700 000 ливров за принадлежавший ему маркизат Рони.
Регент же, в противоположность Ло, воспользовался доставшимися ему барышами лишь для того, чтобы осыпать ими весь мир, но не золотыми монетами, а бумажными деньгами. Он подарил миллион Парижскому Божьему приюту, миллион Парижской богадельне и миллион Сиротскому дому; полтора миллиона были употреблены им на то, чтобы освободить из заключения узников, попавших туда за долги; наконец, маркиз де Носе, граф де Ла Мот и граф де Руа получили из его рук вознаграждения по пятьдесят тысяч ливров каждый.
Герцог Бурбонский не последовал этому примеру; заполучив огромные суммы, он перестроил Шантийи и скупил все поместья, которые пришлись ему по вкусу. Он питал интерес к диким зверям и устроил зверинец куда лучше королевского; он любил роскошных скакунов и в один раз выписал из Англии сто пятьдесят скаковых лошадей, стоивших ему от тысячи пятисот до тысячи восьмисот ливров каждая. В течение одного-единственного празднества, которое он устроил в честь регента и несчастной герцогини Беррийской, празднества, длившегося пять дней и пять ночей, им было потрачено около двух миллионов.
Тем временем завершилась история с лопнувшим заговором Челламаре.
Князь, как мы уже говорили, был отпущен на свободу первым и выслан в Испанию.
Регент позвал к себе Лагранж-Шанселя, автора «Филиппик», и спросил его, действительно ли он думает о нем все то, что там сказано.
– Да, монсеньор, – дерзко ответил ему поэт.
– Тогда вам очень повезло, – промолвил регент, – ведь если бы вы написали подобные гнусности вопреки собственной совести, я приказал бы вас повесить.
И он удовольствовался тем, что сослал поэта на острова Сент-Маргерит, где тот оставался в течение трех или четырех месяцев. Но поскольку враги регента распустили слух, что он велел отравить там Лагранж-Шанселя, то по прошествии указанного времени принц не нашел лучшего средства опровергнуть эту новую клевету, чем открыть двери тюрьмы мнимому мертвецу, который поспешил вернуться в Париж, еще более преисполненный ненавистью и желчью.
Что же касается герцога де Ришелье, то, находясь в Бастилии, он заболел, и тогда герцогу Орлеанскому разъяснили, что если узнику не посчастливится и он умрет в тюрьме, то против жестокости регента начнется хор проклятий, способный замарать его память. В итоге регент позволил себе расчувствоваться.
Вначале он разрешил Ришелье выйти на свободу, но на условии, что герцогиня де Ришелье, его мачеха, и кардинал де Ноайль заберут его из Бастилии и будут держать в Конфлане до тех пор, пока у него не появятся силы выехать в свое поместье Ришелье, где он должен будет оставаться вплоть до получения нового приказа.
Так что 30 августа 1719 года Ришелье вышел из тюрьмы, отправился в Конфлан, через стены которого он стал перелезать по ночам уже через неделю, и, когда он уже был готов отправиться в изгнание, ему было дано разрешение провести в Сен-Жермене все то время, какое должна была длиться его ссылка.
Три месяца спустя он нанес регенту визит, имевший целью послужить их примирению. Регент, не умевший ненавидеть, протянул герцогу руку и обнял его.
Герцога и герцогиню дю Мен, напомним, препроводили: его – в замок Дуллан, ее – в цитадель Дижона. Оба они вышли из заключения еще до конца года, умиротворив регента: герцог дю Мен – безоговорочным запирательством, герцогиня дю Мен – полным признанием вины.
В замке Со они вновь встретились с маркизом де Помпадуром, графом де Лавалем, Малезьё и мадемуазель де Лоне, которые, выйдя из тюрьмы прежде их, дожидались там хозяев замка, чтобы возобновить те очаровательные празднества, какие Шольё, несчастный слепец, не имевший возможности видеть их, называл белыми ночами Со.
Что же касается кардинала де Полиньяка, то он даже не был арестован, и регент удовольствовался тем, что сослал прелата в его Аншенское аббатство.
Так что в конце ноября в Париже с немалым удивлением узнали об аресте четырех бретонских дворян, чье судебное дело было связано с заговором Челламаре.
В течение этого года и года предыдущего во внутренней политике Франции произошли большие изменения. Вначале, чтобы сделаться популярным, Регентство опиралось на Парламент и знать. Новое правительство выступало против той королевской власти, которая выглядела столь неповоротливой в руках Людовика XIV; оно пыталось управлять посредством утопий Фенелона и герцога Бургундского. Но вскоре было замечено, что возвращение Парламенту права ремонстраций воскресило оппозицию, а учреждение регентских советов породило немало затруднений. Поэтому право ремонстраций, дарованное Парламенту, мало-помалу у него забрали, а упраздненные советы заменили государственными секретарями.
Однако мало-помалу и сами государственные секретари оказались подчинены единой воле. Правительство регента осознало, что вся его сила заключается в сосредоточении власти, и 31 декабря 1719 года вместо семидесяти министров, составлявших различные советы Регентства, остались лишь: Дюбуа, государственный секретарь по иностранным делам; Ле Блан, государственный секретарь по военным делам; д’Аржансон, хранитель печати, и Ло, генеральный контролер финансов; все четверо были душой и телом преданы регенту.
Как мы видели ранее, первые события войны не благоприятствовали делу Филиппа V. То, что французская армия переправилась через Бидасоа, Фуэнтаррабию заняли после капитуляции, Сан-Себастьян взяли штурмом, три корабля сожгли в порту Сантоньи, город Уржель и его замок захватили войска маршала Бервика, а цитадель Мессины попала в руки имперцев и англичан, заставило Филиппа V начать размышлять, и следствием его размышлений стал вывод, что все эти несчастья порождены честолюбием Альберони.
Тем не менее Альберони остался во главе испанского правительства, он по-прежнему был причастен ко всем важнейшим делам в мире, и предвечная мудрость, творящая историю прежде, чем историки ее пишут, решила, что, поднявшись благодаря игре судьбы на вершину власти, Альберони рухнет с нее по прихоти случая.
Помимо той основной политической методы, о которой мы говорили и которую Альберони применял в общеевропейских делах, бывший звонарь располагал еще и приватной методой, применяемой им для личного самосохранения: она состояла в том, чтобы не позволять ни одному выходцу из Пармы проникать в королевский двор Испании. То ли он не хотел иметь рядом с собой свидетеля низости своего происхождения, то ли опасался, что какой-нибудь земляк сможет оказывать на королеву часть того влияния, которое он приберегал целиком для себя одного.
Однако это не помешало юной принцессе добиться от мужа разрешения вызвать к себе свою кормилицу Лауру Пескатори, крестьянку из окрестностей Пармы.
Дело в том, что королева Испании, когда она желала чего-нибудь, имела в своем распоряжении средства, которым, несмотря на всю свою гениальность, ничего не мог противопоставить кардинал Альберони.
Филипп V, еще молодой и, подобно своему деду, пылкий, ежедневно испытывал нужду в женщине, однако его религиозные правила не позволяли ему искать удовлетворения этой нужды вне брака. Когда юная королева прибыла в Испанию, их первое свидание наедине длилось целые сутки, и по окончании этого свидания ей стало понятно, что этот человек, с его сильными страстями, всегда будет ее рабом; и потому, хотя царствование ее было ночным, именно она благодаря своей власти правила Испанией.
Так что Лаура Пескатори приехала в Мадрид, и королева назначила ее своей azafatа, то есть старшей камеристкой.
Тотчас же по приезде Лаура узнала о том противодействии, какое кардинал оказывал ее вызову в Мадрид, от самой королевы, и, несмотря на улыбку, с которой встретил ее Альберони, она поклялась в вечной ненависти к нему, подобной той ненависти, какую она увидела с его стороны.
Дюбуа имел шпионов во всей Европе, а особенно при королевском дворе Испании. Ему стало известно о семейных спорах, поднявшихся по поводу появления там Лауры Пескатори, и он решил воспользоваться ненавистью этой женщины.
Дюбуа был гением такого рода интриг.
Он предложил Лауре миллион, если она поссорит кардинала с королевой. Как только ссора возникнет, он будет спокоен.
Спустя неделю после завершения этих переговоров Альберони получил письмо от Филиппа V, которым тот предписывал ему покинуть Мадрид в течение двадцати четырех часов, а Испанию в течение двух недель и запрещал писать королю, королеве или кому бы то ни было еще.
Кроме того, офицеру гвардейцев было поручено препроводить его к границе.
В Барселоне королевский наместник предоставил опальному министру эскорт из пятидесяти человек; местность, где ему предстояло проехать, кишела бандитами, и Альберони, который прежде вел большую войну во имя своего властелина, вскоре должен был, вероятно, вести малую войну ради себя самого.
И в самом деле, в теснине Трента-Пассос карета кардинала и его эскорт подверглись нападению двух сотен местных разбойников, сквозь толпу которых пришлось пробиваться с оружием в руках.
В десяти льё далее был замечен еще один отряд, по-видимому догонявший изгнанника; однако на тех, кто составлял этот отряд, были мундиры гвардейцев его католического величества, так что, вместо того чтобы бежать от них или оказывать им сопротивление, их стали поджидать. И в самом деле, этот отряд явился от имени Филиппа V.
После отъезда Альберони было обнаружено, что он захватил с собой ценные документы, в том числе завещание Карла II, назначившего Филиппа V наследником испанской монархии. С какой целью сделал это опальный министр? Вероятно, для того, чтобы передать ее императору, который, после того как эта бумага будет уничтожена, снова заявит о своих правах на трон, принадлежавший некогда Карлу V.
Командир гвардейцев заставил Альберони выйти из кареты; сундуки кардинала были вскрыты, а сам он обыскан; в итоге все его бумаги были изъяты и увезены в Мадрид.
Дюбуа известили об опале Альберони даже раньше, чем регента; он знал, по какой дороге проследует опальный министр, направляясь в Италию, ему было известно, что тот должен пересечь Юг Франции, и он послал г-на де Марсьё, знавшего кардинала еще по Парме, встретить его на границе.
Делалось это под предлогом оказать Альберони честь, но подлинная цель встречи состояла в том, чтобы, воспользовавшись негодованием опального министра, узнать от него какие-нибудь секретные сведения о Филиппе V и королеве, сведения, которые Дюбуа рассчитывал употребить с пользой для себя.
Увидев г-на де Марсьё, Альберони в ту же минуту понял, какое поручение тот получил.
– Вы явились узнать секрет испанской монархии? – спросил он. – Что ж, я скажу его вам: Филипп Пятый – это человек, который нуждается лишь в двух вещах: в женщине и в молитвенной скамеечке.
Следствием опалы Альберони стало то, что можно было предвидеть: Дюбуа добился всеобщего мира.
Филипп V присоединился к договору о Четверном альянсе, и 17 февраля маркиз де Беретти-Ланди, посол испанского короля, подписал этот договор в Гааге.
Однако в то самое время, когда кардинал поднялся на борт судна в Антибе, не менее важное событие привлекло взоры всей Европы к другому краю Франции. Мы уже говорили, что провинциальные штаты Бретани, вместо того чтобы с возгласами одобрения, как это было принято, согласиться с добровольным дополнительным налогом в пользу правительства, ответили, что они смогут принять во внимание это требование лишь после того, как увидят и изучат счета.
Как только маршалу де Монтескью, губернатору провинции, стал известен этот ответ, он ввел войска в Ренн, Ванн, Редон и Нант и, кроме того, запретил бретонским дворянам собираться без позволения короля.
Как известно, бретонские дворяне составляли особую породу, грубую, малокультурную и необщительную; в то время как остальная знать Франции чахла в лучах солнца Версаля, она оставалась твердой, решительной и гордой, пребывая в тени своих друидических памятников и старых лесов.
И потому для бретонской знати было невыносимо это ущемление ее прав.
Бретонцы, старые друзья Испании во времена Лиги, в ту эпоху, когда испанская монархия была противником Франции, примкнули к партии Филиппа V, враждовавшей с регентом, и послали депутацию в Мадрид.
Господин де Мелак-Эрвьё, глава посольства, имел поручение выступить перед лицом Филиппа V от имени бретонской знати.
Филипп V ответил бретонцам следующим письмом, которое помечено Сан-Эстебаном и датировано 22 июня 1719 года:
«Господин де Мелак-Эрвьё доставил мне предложения со стороны бретонской знати, касающиеся интересов обеих корон. Я полагаюсь на то, что вышеназванный господин добросовестно передаст мой ответ этим дворянам; однако я хочу уверить их лично, что я чрезвычайно признателен им за славное решение, которое они приняли, и что я поддержу их, насколько это в моих силах, радуясь возможности заявить им об уважении, испытываемом мною к столь верным подданным короля, моего племянника, которому я желаю лишь добра и славы.
Я, КОРОЛЬ».
Славное решение, которое приняла бретонская знать и которое она довела до сведения Филиппа V, заключалось в отделении Бретани от Франции.
План был прост: штаты Бретани собираются и принимают постановление, где говорится, что, поскольку права провинции нарушены, она объявляет себя независимой.
Две женщины дали толчок этому грандиозному замыслу, давнишней мечте Морбиана и Финистера: то были владетельницы замков Канкоэн и Бонамур.
Одна женщина предала свой родной край: то была г-жа д’Эгула…
Благодаря ей Ле Блан был осведомлен обо всем, что творилось в Бретани. А Ле Блан, как уже говорилось, был правой рукой Дюбуа.
Господин де Монтескью получил приказ действовать жестко.
Это был именно тот человек, какой требовался для подавления мятежа, будь то даже в Бретани, краю вечных мятежей и невероятных расправ.
Пьер д’Артаньян де Монтескью, маршал Франции, был потомком древних Монтескью, наследников Хлодвига, как это заявил в одной из своих грамот сир де Монтескью, ставший герцогом Афинским. Он провел на военной службе более полувека, и душа его стала за это время каменной, а рука – железной.
При первом известии о восстании он потребовал прислать ему войска, и, как если бы этому человеку, пращуры которого стояли у колыбели французской монархии, пожелали дать солдат, у которых тоже имелись известные предшественники, ему были посланы преемники тех знаменитых драгун, что утопили в крови восстание в Севеннах, этой Бретани Южной Франции, и те из них, что были еще живы.
Сражение длилось три месяца, и по прошествии этих трех месяцев Бретань была покорена, а триста или четыреста бретонских крестьян и десяток дворян оказались в заключении.
Четырех из них было решено отправить на эшафот: то были Понкалек, Монлуи, Талуэ и Куэдик.
Обычные суды тянулись долго, а для подобного мятежа требовалась расправа быстрая и жестокая.
Для этой цели в Нанте была размещена королевская судебная палата, которая и вынесла приговор.
Двадцать шестого марта, в десять часов вечера, при налетевшей в темноте буре, на главной площади Нанта был сооружен эшафот, затянутый черной тканью, как это полагается дворянам. Народ, совершенно ошеломленный, никак не мог поверить, что эти четыре головы вот-вот упадут с плахи, как ему невозможно было бы поверить, что способны опрокинуться те древние друидические камни, рядом с которыми он всегда проходил, испытывая удивление, смешанное с почтением.
В половине одиннадцатого площадь осветилась: пятьдесят солдат, держа в руках пропитанные смолой факелы, образовали кольцо вокруг эшафота.
Почти в то же самое время появились четверо приговоренных; это были красивые молодые люди, которым на всех четверых было от силы сто сорок лет. Они были спокойны, тверды и одновременно послушны.
Тем не менее, когда остригли их прекрасные длинные волосы, этот древний символ свободы франков, еще и в наши дни сохранившийся нетронутым в Бретани, они вздрогнули.
Монлуи, самый молодой из всех, уронил слезу и вполголоса обратился к палачу, умоляя его отнести матери эту рыжую, как у льва, гриву.
В полночь все четверо с улыбкой на устах приняли поцелуй ангела смерти.
Многие заговорщики остались в тюрьме; другие добрались до Испании, и эти оказались самыми несчастными. Те, кому отрубили голову, покоились в отеческих гробницах, а те, кого держали в заключении, видели сквозь решетку тюремной камеры небо отчизны; но изгнанники!..








