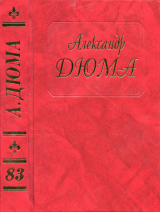
Текст книги "Регентство. Людовик XV и его двор"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Человек этот обладал необычайным мужеством, если сумел выдержать столько мучений и при этом ни в чем не признаться. Он был главарем огромной шайки, члены которой, по слухам, поклялись друг другу делать все для спасения того из них, кто окажется схвачен. Картуша сопровождали на казнь двести стражников, и по пути к эшафоту он не заметил в толпе никакого движения.
Находясь в ратуше, он проявлял поразительное хладнокровие, вплоть до того, что послал за чрезвычайно красивой девушкой, своей любовницей, и, когда она пришла, заявил парламентскому докладчику, который вел его дело, что у него нет никаких показаний против нее и ему просто хотелось увидеть ее, обнять ее и попрощаться с ней. В четверг вечером он отужинал, а в пятницу утром позавтракал. Парламентский докладчик спросил у него, хочет ли он кофе с молоком, который обычно пьют по утрам; в ответ на это Картуш сказал, что такой напиток не по его вкусу и что он предпочел бы стакан вина с булкой. Ему принесли вина, и он выпил его за здоровье двух своих судей.
Так закончил свою жизнь Картуш. Его ум, его остроумие и его твердость заставляют испытывать сожаление по поводу его участи".
J
"В воскресенье, 8-го числа сего месяца [август 1723 года], пребывая в Мёдоне, кардинал Дюбуа, первый министр, почувствовал себя крайне плохо. Испускание мочи сопровождалось у него гнойными выделениями, оставлявшими весьма болезненные ссадины. Было решено, что ему следует сделать операцию, причем немедленно. Он хотел вернуться в Версаль, заявляя, что воздух Мёдона ему не подходит. Вопрос состоял в том, как перевезти его туда. Поскольку он не мог выносить движения никакого экипажа, большую карету, носящую название дроги, оборудовали матрасами, подвесив их на веревках, пропущенных сквозь крышу. Когда карета была таким образом оборудована, и, судя по всему, сделали это хорошо, его ни за что не могли перенести туда с кровати; в итоге ему пришлось на ней остаться. У него постоянно был жар. Ночь на воскресенье прошла немного лучше. Вчера, в понедельник, в полдень, его перенесли в королевских дорожных носилках в Версаль, двигаясь с чрезвычайной осторожностью; четыре ливрейных лакея сменяли друг друга, поддерживая носилки с боков и не давая им раскачиваться. Полагаю, что, оказавшись на его месте, любой человек с его характером и его вспыльчивостью был бы взбешен из-за подобного положения. Сзади следовали три кареты, запряженные шестеркой лошадей: в одной карете ехали капелланы, в другой – врачи, а в третьей – хирурги. Неплохой эскорт! Так они и прибыли в Версаль. Когда он был уложен в кровать, послали за монахом-францисканцем, который явился принять у него исповедь. Кардинал де Бисси отправился в часовню, чтобы взять там дароносицу и принести ему Святые Дары. Из приходской церкви принесли елей, и бедняга был вынужден претерпеть все это беспокойство. После чего г-н де Ла Пейрони, главный хирург короля, сделал операцию, которая обычно длится четыре часа, а в данном случае заняла всего три минуты. Операция состояла в том, чтобы проделать отверстие для выпуска гноя… По моему разумению, это означало находиться в жесточайшей крайности, ибо вечная работа, которой был занят этот человек, желавший все делать сам, вызывала в его теле воспаление и, должно быть, была совершенно противопоказана ему при такой болезни.
Я не знаю, как он чувствует себя сегодня, поскольку вчера вечером, через час после операции, там грохотал гром и сверкали молнии, а такое не идет на пользу больным. Говорят, что в воскресенье в Мёдоне весь двор пребывал в необычайном переполохе: одни были бледны, другие выглядели более спокойными. Несомненно, его смерть повлечет за собой немалые перемены в тех кругах!..
Сегодня, 10-го, в день Святого Лаврентия, в четыре часа пополудни, в Версале скончался кардинал Дюбуа. Он умер, будучи архиепископом Камбре, и при этом ни разу там не был, что само по себе достаточно удивительно. Его смерть сделала вакантными должности и бенефиции, способные принести в общей сложности пятьсот тысяч ливров. Этот первый министр будет вскоре забыт, ибо он не оставил после себя ни основанных на его средства учреждений, ни занявшей высокое положение семьи. Он никогда не причинял никому большого зла. О нем должен скорбеть герцог Орлеанский, ибо кардинал был человеком умным и пользовался его полным доверием. Его не очень любили, он был высокомерен, груб и вспыльчив. Ему напророчествовали беду, сказав, что его одолеет и погубит язва мочевого пузыря. Болезнь эта, по всей видимости, была следствием застарелого сифилиса.
Самый распространенный слух состоит в том, что кардинал Дюбуа не принял последнего причастия и будто бы заявил, что может принять его лишь из рук кардинала. Однако ни одного кардинала там не оказалось. Со временем этот факт прояснится.
В среду, в десять часов вечера, тело Дюбуа перенесли в церковь Сент-Оноре, где каноником служит его племянник, человек благонравный и богобоязненный, нисколько не почитавший своего дядю. Оно осталось в церкви, где его должны выставить для всеобщего обозрения на целую неделю. Утром, пока служили мессу, простой народ наговорил кучу дерзостей по поводу несчастного кардинала. Так, говорили, что произнести надгробное слово кардиналу должна Ла Фийон, известная сводница, поскольку сам он, в свое время, был известным сводником". («Дневник Барбье».)
* * *
"Духовенство, не устраивавшее своих ассамблей начиная с 1715 года, сделало это в мае 1723 года и единодушно избрало председателем собрания кардинала Дюбуа, дабы не лишать его ни одной из почестей, на которые он мог притязать, и дабы в государстве не осталось ни одного высшего органа, который не был бы обесчещен. Кардиналу это чрезвычайно польстило, и, чтобы быть ближе к собранию и пользоваться время от времени своим положением председателя, он переместил королевский двор из Версаля в Мёдон, выставив предлогом возможность доставить королю удовольствие от нового местопребывания.
Близость Мёдона к Парижу, наполовину сокращавшая путь от двора к столице, частью избавляла кардинала от болей, которые вызывало у него передвижение в карете. Уже давно страдая язвой мочевого пузыря, следствием своего прежнего распутства, он не раз встречался с самыми опытными врачами и хирургами, причем тайком, но не потому, что краснел из-за первопричины своей болезни, а потому, что всем министрам стыдно признаваться в своих недугах.
Поскольку король проводил в это время смотр своей военной свиты, кардинал пожелал насладиться на нем почестями, полагавшимися первому министру и почти не отличавшимися от тех, что воздавались особе короля. За четверть часа до приезда государя он сел верхом и проехал перед строем солдат, которые приветствовали его, держа шпагу в руке…
Однако кардинал очень дорого заплатил за это маленькое удовольствие. Езда верхом привела к тому, что у него лопнул гнойник, а это заставило врачей полагать, что вскоре у него начнется гангрена мочевого пузыря. Они заявили кардиналу, что если не сделать ему немедленно операцию, то он не проживет и четырех дней. Разгневавшись на медиков, он впал в страшную ярость. Герцог Орлеанский, уведомленный о состоянии больного, с великим трудом немного успокоил его и убедил не возражать против переезда в Версаль, но там разыгралась новая сцена. Когда лечащие врачи предложили ему исповедоваться перед операцией, ярость его перешла все границы и он принялся неистово бранить всех, кто к нему приближался. В конце концов, изнемогая от слабости после стольких приступов ярости, он послал за францисканским монахом и затворился с ним на четверть часа. Затем речь зашла о том, что ему необходимо пройти обряд предсмертного причащения. «Предсмертное причащение! – воскликнул он. – Легко сказать! Ведь для кардиналов существует особый церемониал. Пусть поедут в Париж и разузнают все подробности у Бисси». Хирурги, понимая сколь опасно для него малейшее промедление, сказали ему, что тем временем можно сделать операцию. Каждое новое предложение вызывало у него очередной приступ ярости. После долгих уговоров со стороны герцога Орлеанского кардинал все же дал согласие на операцию, и она была сделана Ла Пейрони; однако характер язвы и гноя дал понять, что больной долго не протянет. Пока кардинал находился в сознании, он не переставал поносить лечащих врачей, скрежеща при этом зубами. За конвульсиями отчаяния последовали предсмертные судороги, и, когда он уже не в состоянии был видеть, слышать и богохульствовать, его соборовали, что заменило ему предсмертное причащение. Он умер на другой день после операции.
Так закончил свои дни этот баловень фортуны, осыпанный почестями и богатствами… Ассамблея духовенства, председателем которой он был, устроила торжественное богослужение об усопшем. Одна из панихид проходила в кафедральном соборе, где присутствовали высшие судебные власти, то была почесть, воздаваемая первым министрам; но нигде никто не решился произнести надгробное слово кардиналу…
Несомненно, кардинал Дюбуа обладал умом, но он стоял намного ниже своей должности. Более способный к интригам, чем к управлению, он энергично следовал к цели, не охватывая всего, что с ней было связано. То дело, которое интересовало его в данную минуту, отнимало у него способность уделять внимание любому другому делу. У него не было ни той широты, ни той гибкости ума, какие необходимы министру, обремененному различными делами, которые нередко должны сочетаться. Стремясь к тому, чтобы ничто не ускользало от него, и не будучи в состоянии справиться со всем, он на глазах у всех зачастую бросал в огонь ворох уже запечатанных писем, чтобы, по его словам, снова войти в курс дела. Его административной деятельности более всего вредило недоверие, которое он внушал, а также сложившееся у всех мнение о его душе. Он настолько простодушно пренебрегал добродетелью, что гнушался лицемерия, хотя и был преисполнен лживости. Пороков у него было больше, чем недостатков; в достаточной степени лишенный мелочности души, он не был свободен от сумасбродства. Он никогда не краснел по поводу своего происхождения и рассматривал священническое одеяние не как покров, под которым можно скрыть любую социальную принадлежность, а как первое доступное честолюбцу низкого происхождения средство возвыситься. И если он заставлял других воздавать ему все полагающиеся по этикету почести, то в этом нисколько не было ребяческого тщеславия; это была убежденность, что почести, связанные с должностями и званиями, полагаются равным образом всем, кто их заполучил, независимо от происхождения этих людей, и что требовать для себя подобные почести это не только право, но и долг.
Заставляя других воздавать ему должное, он нисколько не соблюдал при этом собственного достоинства. Многие, не испытывая на себе никаких проявлений зазнайства с его стороны, часто сталкивались с присущей ему страшной грубостью. Малейшее возражение приводило его в бешенство, и, находясь в ярости, он на глазах у всех носился по креслам и столам в своих покоях.
Проснувшись в день Пасхи, последовавший за его возведением в кардинальский сан, чуть позднее обычного, он вспылил и накинулся на своих лакеев, браня их за то, что они позволили ему спать столь долго в этот день, когда, как им следовало знать, он намеревался отслужить мессу. Его поспешили одеть, в то время как он продолжал всех бранить. Затем он вспомнил о каком-то деле, велел вызвать секретаря и забыл не только отслужить мессу, но и послушать ее.
По вечерам он съедал обычно куриное крылышко. Как-то раз, в то время, когда ему подавали на стол, собака утащила курицу. Слуги не придумали ничего иного, как быстренько насадить на вертел другую и поджарить ее. В эту минуту кардинал приказал подать ему курицу; дворецкий, предвидя ярость, в которую тот впадет, если известить его о случившемся или предложить ему подождать позже обычного, решился на обман и хладнокровно произнес: «Монсеньор, вы уже отужинали». – «Я отужинал?» – переспросил кардинал. – «Разумеется, монсеньор. Правда, съели вы мало; по-видимому, вы были крайне озабочены делами; но, если вы желаете, вам подадут еще одну курицу; много времени это не займет». В этот момент к нему пришел врач Ширак, посещавший его ежедневно. Слуги предупредили медика о том, что произошло, и попросили его помочь им. «Черт побери! – воскликнул кардинал. – До чего же странная история! Мои слуги хотят убедить меня, что я уже отужинал. Но я этого совершенно не помню; более того, я чувствую сильный аппетит». – «Тем лучше! – ответил Ширак. – Работа вас изнурила; первые кусочки лишь пробудили у вас аппетит, и вы можете без всяких опасений поесть еще, но немного… Прикажите подать монсеньору, – сказал он, обращаясь к слугам, – а я погляжу, как он закончит свой ужин». Курицу принесли. Кардинал усмотрел явный признак своего здоровья в предписании Ширака, поборника умеренности в еде, отужинать дважды и, поедая курицу, пребывал в наилучшем настроении.
Он не сдерживал себя ни с кем. Однажды, когда принцесса де Монтобан-Ботрю вывела его из терпения, что было нетрудно сделать, он в крепких выражениях послал ее куда подальше. Она прибежала жаловаться регенту, который ничего не сказал ей в ответ, за исключением того, что кардинал был несколько резковат, но, впрочем, советчик он хороший…
Чтобы испытать на себе выходки кардинала, необязательно было выводить его из терпения. Маркиза де Конфлан, гувернантка регента, явившаяся к кардиналу, с которым она еще не была знакома, исключительно для того, чтобы нанести ему визит, и заставшая его в минуту дурного настроения, едва успела произнести: «Монсеньор…» – «Заладили „монсеньор, монсеньор!“ – прервал ее кардинал. – Это невозможно!..» – «Но, монсеньор…» – «Но, но! Не надо никаких но, если я говорю вам, что это невозможно!» Напрасно маркиза пыталась убедить его, что она ничего не хочет у него просить; не дав ей времени высказаться, он взял ее за плечи и повернул к выходу. Напуганная маркиза решила, что у него приступ безумия, и бросилась бежать, крича, что его следует посадить в сумасшедший дом.
Порой кардинала можно было успокоить, приняв в разговоре с ним его же тон. Среди его доверенных секретарей был расстриженный монах-бенедиктинец по имени Венье, человек весьма легкого нрава. Как-то раз, когда кардинал работал с ним, ему понадобилась какая-то бумага, которую он не нашел под рукой в надлежащем месте. Он тотчас впадает в ярость, бранится, кричит, что тридцать канцеляристов не в состоянии обслужить его как следует, что он хочет набрать их сто, но от этого лучше не станет.
Венье спокойно глядит на него, ничего не отвечая, и дает ему излить свой гнев. Хладнокровие секретаря и его молчание усиливают ярость кардинала, он хватает его за плечи, трясет его и кричит ему: «Да отвечай же мне, мучитель! Разве это не правда?» – "Монсеньор, – без всякого волнения произносит Венье, – возьмите дополнительно всего одного канцелярского служащего и поручите ему браниться вместо вас; у вас появится много свободного времени, и дело пойдет на лад". Кардинал успокоился и кончил тем, что рассмеялся".
("Тайные записки о царствованиях Людовика XIV и Людовика XV" Дюкло.)
***
Вот, согласно Сен-Симону, точный перечень доходов кардинала Дюбуа:
Камбре (архиепископство)
120 000 ливров.
Ножан-су-Куси (аббатство)
10 000 ливров.
Сен-Жю (то же)
10 000 ливров.
Эрво (то же)
12 000 ливров.
Бургей (то же)
12 000 ливров.
Берг-Сен-Винок (то же)
60 000 ливров.
Сен-Бертен (то же)
80 000 ливров.
Серкан (то же)
20 000 ливров.
324 000 ливров.
Должность первого министра
150 000 ливров.
Должность главноуправляющего почтой
100 000 ливров.
Английский пенсион (24 000 фунтов стерлингов)
960 000 ливров.
Итого:
1 534 000 ливров.
К
"Склонность регента к лени и распущенный образ жизни, который он вел, вскоре вынудили его передать все дела государственным секретарям, и он продолжал погружаться в любезный его сердцу разврат. Здоровье его заметно ухудшилось, и большую часть утренних часов он пребывал в состоянии оцепенения, делавшего его неспособным ко всякой прилежной работе. Ему предсказывали, что со дня на день у него случится апоплексический удар; искренне преданные ему слуги старались побудить его вести упорядоченную жизнь или, по крайней мере, отказаться от излишеств, которые могли убить его в одно мгновение. В ответ он говорил, что пустые страхи не должны лишать его удовольствий, хотя, пресыщенный всем, он отдавался разврату скорее по привычке, чем по желанию. Он заявлял также, что ничуть не страшится внезапной смерти, и выбрал бы себе именно такую.
Ширак, видя багровый цвет лица принца и его налитые кровью глаза, уже давно хотел пустить ему кровь. Утром 2 декабря, в четверг, он с особой настойчивостью побуждал его согласиться на кровопускание, и принц, желая отделаться от назойливых просьб своего медика, заявил, что у него теперь есть дела, которые нельзя отложить, однако в следующий понедельник он целиком отдастся лечащим врачам, а до тех пор будет вести безупречно правильный образ жизни. Об этом обещании регент помнил так плохо, что в тот же день отобедал, вопреки своей привычке лишь ужинать, и по своему обыкновению, ел очень много.
После обеда, затворившись наедине с герцогиней де Фалари, одной из своих угодниц, он развлекался в ожидании часа, когда ему предстояло работать с королем. Сидя бок о бок с ней перед камином, герцог Орлеанский внезапно валится на руки герцогини де Фалари, которая, видя, что он без сознания, в полном испуге поднимается и зовет на помощь, но никого не находит в покоях. Слуги принца, зная, что он всегда поднимается к его величеству по потайной лестнице и, когда он работает с королем, в его покоях никого нет, разошлись по своим делам.
Так что герцогине де Фалари пришлось выбежать во двор, чтобы привести хоть кого-нибудь. Вскоре в покоях герцога собралась толпа, но прошло еще около часа, прежде чем удалось отыскать хирурга. В конце концов хирург явился, и принцу пустили кровь. Но он был уже мертв.
Так умер, в возрасте сорока девяти лет и нескольких месяцев, один из самых приятных людей в высшем обществе, щедро наделенный умом, талантами, воинской доблестью, добротой и человечностью, и в то же время один из самых скверных принцев, то есть более всего неспособных к управлению государством".
("Тайные записки о царствованиях Людовика XIV и Людовика XV" Дюкло.)
* * *
ЭПИТАФИЯ ГЕРЦОГУ ОРЛЕАНСКОМУ
Прохожий, здесь почиет муж могучий,
Чья участь может счастьем показаться:
Умел он, право, жизнью наслаждаться,
А смерть считал за невозможный случай.
Безбожником его в народе мнили.
Сказать так – оскорбить его сверх меры:
Веселый Бахус, Плутос и Венера Святую
Троицу ему надежно заменили.
* * *
На мотив «Мирлитон»:
Однажды Дюбуа, у Кербера под стражей,
Узрев, что регент в преисподнюю явился,
Тотчас к нему с такою речью обратился:
"Ты зря пришел, здесь нету денег даже,
Монет нельзя услышать тут приятный звон,
И вовсе нет тут мирлитон, дон-дон!"

Людовик XV и его двор
I
Краткое напоминание о Людовике XV – Что происходило после смерти герцога Орлеанского. – Каким образом герцог Бурбонский был назначен первым министром. – Его происхождение. – Его физический и нравственный портрет. – Герцогиня Бурбонская, его мать. – Ее песенки. – Принцы. – Господин де Шароле. – Король. – Этикет Людовика XV. – Оскорбительные слухи о короле. – Фальшивая монета г-жи де Конде. – Душа Дюшоффура.
В субботу 15 февраля 1710 года Людовик XIV был разбужен в семь часов утра, то есть часом ранее обыкновенного, поскольку герцогиня Бургундская ощутила первые родовые схватки.
Король поспешно оделся и отправился к герцогине. На этот раз Людовику XIV ждать не пришлось или почти не пришлось.
В восемь часов три минуты и три секунды герцогиня Бургундская произвела на свет принца, который был назван герцогом Анжуйским.
Кардинал де Жансон тут же крестил новорожденного малым крещением. Вслед за тем младенец, которого положила себе на колени г-жа де Вантадур, был унесен в портшезе в предназначенные ему покои.
Сопровождали портшез г-н де Буффлер и восемь телохранителей.
В полдень г-н де Ла Врийер поднес новорожденному голубую орденскую ленту, и в тот же день весь двор съехался посмотреть на ребенка.
Этот только что родившийся младенец имел старшего брата, носившего титул дофина; что же касается новорожденного, то он, как мы уже сказали, получил титул герцога Анжуйского.
Шестого марта 1711 года оба ребенка заболели корью. Людовика XIV тотчас же известили о случившемся. Поскольку маленькие принцы были крещены лишь малым крещением, король приказал крестить их немедленно. Герцогине де Вантадур было дано позволение взять в качестве крестных отцов и крестных матерей для принцев первых же особ, которые попадутся ей под руку. Оба они должны были получить крестильное имя Луи.
Восприемниками дофина при крещении были г-жа де Вантадур и граф де Ла Мот.
Крестным отцом герцога Анжуйского стал маркиз де При, а в роли его крестной матери выступила г-жа де Ла Ферте.
Восьмого марта старший из двух детей умер; герцог Анжуйский наследовал тогда своему брату и принял, в свой черед, титул дофина.
Мы видели, как после смерти Людовика XIV юного Людовика XV привезли в Венсен; мы видели, как он вернулся в Париж, чтобы присутствовать на торжественном заседании Парламента, в ходе которого отменили завещание его прадеда и назначили регентом герцога Орлеанского. Мы говорили о принципах, которые прививал ему г-н де Вильруа, его гувернер; о дружбе, которую юный король питал к своему наставнику, аббату Флёри, и о его неприязни к Дюбуа; мы рассказали о тревоге, охватившей Францию и вселившейся в герцога Орлеанского, когда новая болезнь поставила Людовика XV на край могилы. Наконец, мы рассказали о том, как твердость Гельвеция спасла королю жизнь.
Потом мы присутствовали на церемонии провозглашения его совершеннолетним, затем на его коронации, затем стали свидетелями назначения герцога Орлеанского первым министром после смерти Дюбуа. Наконец, после смерти герцога Орлеанского, на руках у г-жи де Фалари скончавшегося 2 декабря 1723 года от апоплексического удара, Ла Врийер, сын Шатонёфа, государственного секретаря в царствование Людовика XIV, приведший в такое негодование мадемуазель де Майи, свою жену, когда ей стало известно, что она вышла замуж за какого-то мелкого буржуа; тот самый Ла Врийер, который сделался секретарем регентского совета, когда в эпоху Регентства такой совет существовал; так вот, Ла Врийер первым был извещен о смерти герцога Орлеанского.
Вначале он бросился к королю, потом к епископу Фрежюсскому, затем, наконец, к герцогу Бурбонскому и, полагая, что этот принц вполне может унаследовать звание первого министра, поспешил составить на всякий случай присяжную грамоту по образцу той, которую подписал герцог Орлеанский.
Епископ Фрежюсский легко мог завладеть в те часы должностью первого министра; его друзья советовали ему сделать это, и, возможно, какое-то время он и сам об этом подумывал. Но епископ Фрежюсский был человеком не только честолюбивым, но и терпеливым, что является соединением крайне редким и весьма затрудняющим любые попытки разрушить карьеру политиков, которые этим свойством обладают. К тому же он умел довольствоваться сутью власти, оставляя другим ее видимость, что, опять-таки, было большой редкостью. Поэтому он не счел нужным тотчас же открыто изъявлять желание, которое было осуществлено им впоследствии, и первым высказался за герцога Бурбонского, полнейшая неспособность которого к руководству была ему хорошо известна.
Как только о смерти герцога Орлеанского стало известно, все придворные направились в покои короля. Впереди них шел герцог Бурбонский.
Людовик XV пребывал в сильной печали: по его покрасневшим и влажным глазам можно было понять, что он пролил немало слез.
Едва только герцог Бурбонский и придворные вошли в кабинет и дверь за ними затворилась, епископ Фрежюсский во всеуслышание заявил королю, что после огромной потери, которую нанесла ему смерть герцога Орлеанского – тут епископ произнес более чем краткое похвальное слово покойному, – лучшее, что может сделать его величество, это просить герцога Бурбонского, присутствующего здесь, взять на себя бремя всех государственных дел и занять должность первого министра, которую только что оставил вакантной герцог Орлеанский.
Король посмотрел на епископа Фрежюсского, словно желая что-то прочитать в его глазах; потом, заметив, что выражение глаз епископа находится в согласии с его словами, он кивком дал знать, что принимает это предложение.
Герцог Бурбонский тотчас же поблагодарил короля. Что же касается Ла Врийера, пришедшего в полный восторг от того, как быстро и удачно завершилось столь важное дело, то он вынул из кармана присяжную грамоту первого министра, списанную с присяжной грамоты герцога Орлеанского, и во всеуслышание предложил епископу Фрежюсскому немедленно привести герцога Бурбонского к присяге.
Обратившись к королю, епископ Фрежюсский сказал ему, что это надлежит сделать, и герцог тотчас же принял присягу. Почти сразу после того, как присяга была принята, герцог вышел из кабинета. Толпа придворных последовала за ним, так что через час после кончины герцога Орлеанского и даже прежде чем его сын, находившийся в то время в Париже у своей любовницы, был извещен о смерти отца, все уже было завершено.
Посвятим несколько строк принцу, которому Ла Врийер и Флёри помогли с такой легкостью унаследовать от герцога Орлеанского должность первого министра.
Он был сыном Луи де Бурбон-Конде, отцу которого Людовик XIV дал в 1660 году герцогство Бурбонское в обмен на герцогство Альбре.
Его матерью была злоязычная мадемуазель де Нант, дочь Людовика XIV и г-жи де Монтеспан. Как и г-жа де Монтеспан, она унаследовала остроумие Мортемаров. Мы уже говорили вкратце о поразительных песенках, которые она сочиняла; у нас еще будет повод вернуться к ней и к ее песенкам.
В то время, к которому мы подошли, герцогу Бурбонскому минул тридцать один год. Он был высоким и худым как щепка; тело у него было сутулым, словно у горбуна; ноги его были длинными и тощими, как у аиста; щеки впалыми, губы толстыми, а подбородок настолько причудливо заостренным, что, по словам герцогини, матери принца, можно было подумать, будто природа наделила его таким подбородком для того, чтобы было за что его ухватить.
Поскольку пословица гласит, что достаточно иметь одну болячку, чтобы подцепить другую, герцог Бурбонский, наружность которого, как мы видим, и без того была весьма уродливой, в результате несчастного случая заполучил новое уродство.
Как-то раз зимой герцог Бурбонский был приглашен дофином и герцогом Беррийским принять вместе с ними участие в облавной охоте. Дело происходило в понедельник 30 января: стоял сильный мороз. Случаю было угодно, чтобы герцог Беррийский оказался на берегу довольно длинного замерзшего озера, тогда как герцог Бурбонский находился на другом его краю; как только появилась дичь, герцог Беррийский выстрелил, одна из дробинок ударилась о лед, рикошетом отскочила и, долетев до герцога Бурбонского, выбила ему глаз.
Герцог Бурбонский с завидным терпением перенес беду, но герцог Беррийский никогда не мог простить себе этого несчастья, невольным виновником которого он стал, и вечно печалился из-за него.
Когда принц был назначен первым министром, сочинители куплетов извлекли пользу из происшедшего с ним несчастного случая. Они распевали:
Глаза у герцога блестят – вот взор горячий! —
Хотя всего один из них, по правде, зрячий.
Другой – вставной, наверно из эмали,
Чтоб лживостью светить, ему хирурги дали:
Для должности министра глаз такой походит.
Ну а вторым он в поисках наживы всюду водит.
Все сказанное относится к внешнему облику герцога Бурбонского; что же касается его нравственных качеств, то это был учтивый человек, умевший со вкусом жить и обладавший величием, не очень умный и не очень образованный, но весьма склонный к интриганству и крайне скупой. На равных паях со своей матерью, открыто жившей с Лассе, он заработал на спекуляциях более двухсот пятидесяти миллионов ливров.
Как-то раз он показал Бранкасу пачку акций компании Миссисипи, полагая разжечь таким образом его алчность.
– Монсеньор, – промолвил Бранкас, – любая акция вашего прадеда стоит больше, чем все эти бумажки.
Этим прадедом был Великий Конде.
Герцог Бурбонский отличался чрезвычайной пылкостью: он был безумно влюблен в г-жу де Нель, которая сменила его на принца де Субиза. Герцог впал в отчаяние, и толки, которые вызывало это отчаяние, дошли до ушей нового любовника.
– Какого черта герцог Бурбонский жалуется? – удивился принц де Субиз. – Ведь я разрешил госпоже де Нель спать с ним, когда ему это заблагорассудится. По месту и почет.
Однако это разрешение нисколько не утешило герцога Бурбонского, и, чтобы заставить его забыть о любви, которую внушала ему г-жа де Нель, понадобилась невероятная любовь, которую внушила ему г-жа де При.
Герцог Бурбонский был женат, причем женат по воле Людовика XIV. В один прекрасный день Людовик XIV распорядился о браке герцога с мадемуазель де Конти, а принца де Конти – со старшей дочерью герцогини Бурбонской. Это распоряжение встретило энергичное противодействие со стороны обеих матерей, но, как известно, если Людовик XIV чего-либо желал, желание его было твердым. Он повелевал самовластно. Принцессе де Конти и герцогине Бурбонской пришлось склонить голову перед королевской волей. Впрочем, это обошлось королю в 500 000 ливров: по 150 000 ливров он дал каждому из принцев и по 100 000 ливров – каждой из принцесс.
Обе принцессы, еще до вступления в брак их детей, ненавидели друг друга, но после заключения этих брачных союзов они стали испытывать друг к другу омерзение.
Несколько песенок, сочиненных герцогиней Бурбонской в ответ на оскорбления со стороны принцессы де Конти, удостоверяют эту ненависть.
Герцогиня Бурбонская нередко напивалась пьяной: то была привычка, усвоенная принцессами двора Людовика XIV. Принцесса де Конти назвала герцогиню Винным Бурдюком.
Герцогиня дала ей отпор своим обычным ответным действием, то есть песенкой.
Вот она:
Зачем упреки мне бросать,
Любезная принцесса?
Зачем упреки мне бросать?
Любви я не пыталась вас лишать,
Когда к вам бравый воспылал повеса!
Зачем упреки мне бросать,
Любезная принцесса?
Зачем упреки мне бросать?
Ужель вино, что я привыкла смаковать,
Не стоит вашего избранника-балбеса?
Зачем упреки мне бросать,
Любезная принцесса?








