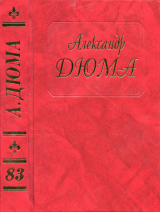
Текст книги "Регентство. Людовик XV и его двор"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
На всякий случай регент послал за г-ном де Сен-Симоном, чтобы подготовить, как он сказал ему сам, механику ареста г-на де Вильруа.
Герцог де Сен-Симон придерживался того же мнения, что и его высочество, и полагал, что вследствие своей заносчивости, хорошо всем известной, маршал не замедлит предоставить регенту удобный и безоговорочный повод арестовать его.
Герцог Бурбонский, присутствовавший на этом совещании, был того же мнения, что и г-н де Сен-Симон, однако он предложил не полагаться на случай и подготовить маршалу западню.
В итоге придумал эту западню г-н де Сен-Симон.
Было решено, что на ближайшем совете герцог Орлеанский будет вполголоса разговаривать с королем, и, если маршал, по присущей ему привычке, навострит уши и просунет между собеседниками свою голову, герцог Орлеанский поведет короля в свой кабинет; тогда, вне всякого сомнения, г-н де Вильруа захочет последовать за королем; регент запретит ему делать это, после чего, вероятно, г-н де Вильруа позволит себе какую-нибудь дерзкую выходку, которой и воспользуется его высочество.
Таким образом, все было подготовлено для ареста маршала.
События разворачивались именно так, как и предвидел г-н де Сен-Симон: маршал пожелал услышать то, что регент говорил королю, и решил последовать за королем в кабинет регента; но тогда регент вполне определенно сказал маршалу, что намеревается говорить с королем о каких-то личных делах и разговор этот должен происходить с глазу на глаз; в ответ на это маршал, все более усиливая повод к нареканию, заявил, что его величество не может и не должен иметь секретов от своего воспитателя; услышав это замечание, регент повернулся лицом к маршалу и сказал ему:
– Господин маршал, вы забываетесь, вы не взвешиваете своих слов, и только присутствие короля не позволяет мне обойтись с вами так, как вы того заслуживаете.
С этими словами его высочество низко поклонился королю и вышел из кабинета.
Маршал бросился вслед за регентом, чтобы извиниться перед ним, однако тот жестом дал ему понять, что никаких извинений не примет.
На протяжении всего дня маршал петушился, говоря, что лишь исполнял свой долг и ничего другого не делал, но, тем не менее, поскольку сознание собственного права завело его, вероятно, слишком далеко, он заявлял при этом, что на другое утро явится к регенту, чтобы объясниться с ним.
И в самом деле, на следующий день, с великолепной шпагой на боку, с которой он никогда не расставался, маршал пересек двор и явился к герцогу; поскольку, как обычно, толпа придворных на его пути расступалась и никаких изменений в почестях, которые ему оказывались, заметно не было, он громко спросил:
– Где господин герцог Орлеанский?
– Он работает у себя в кабинете, господин маршал, – ответил ему дежурный придверник.
– Мне надо увидеться с ним; пусть обо мне доложат.
И в то же мгновение г-н де Вильруа направился к двери, не сомневаясь, что она распахнется перед ним.
Дверь кабинета, и в самом деле, распахнулась, однако оттуда вышел Ла Фар, капитан гвардейцев регента: направившись к маршалу, он потребовал от него шпагу.
В то же самое время Ле Блан предъявил ему приказ об аресте, подписанный королем, тогда как граф д’Артаньян, капитан серых мушкетеров, приказал подать портшез, заранее приготовленный в незаметном уголке.
В одно мгновение маршала втолкнули в портшез, который после этого тотчас же заперли и вынесли через боковое окно, открывавшееся подобно двери и выходившее в сад.
Внизу лестницы оранжереи, окруженная двумя десятками мушкетеров, стояла в ожидании карета, чтобы отвезти маршала в Вильруа, место его ссылки.
Поместье Вильруа находилось примерно в десяти льё от Версаля.
Оставалось известить короля об этой расправе. Король, как все избалованные дети, любил всех, кто его хвалил, а так как никто не хвалил его больше, чем г-н де Вильруа, то король очень сильно любил маршала.
И потому при первом же известии об отсутствии г-на де Вильруа, не желая выслушивать никаких причин, оправдывавших этот арест, король принялся плакать; регент пытался утешить его, но на все доводы, какие он мог привести, юный государь никак не отвечал; видя это, регент поклонился ему и вышел из комнаты.
Весь остаток дня король пребывал в печали; но еще не то началось, когда на другой день, не видя епископа Фрежюсского, он поинтересовался, где тот находится, и ему ответили, что епископа более нет в Версале и никто не знает, где он.
В то же время распространился слух, будто между маршалом и епископом было заключено соглашение, посредством которого каждый из них, в случае если другой подвергнется ссылке, брал на себя обязательство добровольно удалиться в ссылку одновременно с ним.
Вильруа полностью убедил короля в том, что его окружают лишь враги и отравители и что своей жизнью он обязан только неустанным заботам своего воспитателя и своего наставника, и потому, видя себя разлученным с тем и другим одновременно, юный государь впал в подлинное отчаяние.
Регент никак не предвидел такого хода событий и оказался в смертельном затруднении. Дюбуа вообразил, не имея на то никаких оснований, что епископ Фрежюсский находится в Ла-Траппе, и, полагаясь лишь на эту догадку, туда отправили курьера, как вдруг стало известно, что епископ удалился всего-навсего в Бавиль, к президенту Ламуаньону.
Как только регенту стало известно, как следует относиться к отъезду епископа Фрежюсского, он поспешил сообщить королю, что его наставник вернется в течение дня; это несколько утешило юного государя. Курьер, уже севший в седло, чтобы ехать в Ла-Трапп, отправился в Бавиль, и, как регент и обещал королю, его наставник вернулся в тот же день.
Таким образом, епископ Фрежюсский оказался освобожден от своей клятвы. И в самом деле, он добровольно удалился в ссылку в тот самый день, когда был сослан г-н де Вильруа. И в том, что король приказал ему вернуться, не было его вины; ведь первейший долг подданного состоит в том, чтобы повиноваться государю, и епископ Фрежюсский повиновался ему.
С этой минуты регент стал понимать, что епископ являет собой мощную силу. Он долго объяснял наставнику короля причины, побудившие его пойти на такую крайнюю меру по отношению к г-ну де Вильруа, и в конце концов вынудил епископа оправдать эти действия. В глубине души епископ Фрежюсский был в восторге от того, что ему удалось избавиться от человека, чванство и спесь которого ему тоже не раз приходилось терпеть.
В итоге он сам представил и рекомендовал королю герцога де Шаро, которому регент предоставил должность воспитателя, прежде принадлежавшую г-ну де Вильруа.
Что же касается самого маршала, то его на положении узника отправили в Лион, поскольку поместье Вильруа находилось чересчур близко к Версалю.
Таким образом Дюбуа не только стал первым министром, но к тому же еще и избавился от двух своих врагов, которых ему приходилось опасаться более всего: Носе и Вильруа.
Академия воспользовалась этими обстоятельствами, чтобы избрать Дюбуа своим членом.
Тем временем один из тех людей, кто принес более всего зла Франции, умер в Виндзоре. Мы имеем в виду Джона Черчилля, герцога Мальборо. Ему отомстила за нас песенка, из страшного имени сделав имя смешное.
Между тем подошло время, назначенное для коронации, и эта торжественная церемония состоялась 25 октября.
Шесть светских пэров Франции были представлены на ней шестью принцами крови, чего прежде никогда не бывало: герцог Орлеанский выполнял роль герцога Бургундии, герцог Шартрский замещал герцога Нормандии, герцог Бурбонский – герцога Аквитании, граф де Шароле – графа Тулузы, граф де Клермон – графа Фландрии, а принц де Конти – графа Шампани.
Маршал де Виллар выполнял роль коннетабля Франции, а принц де Роган – главного распорядителя королевского двора.
Когда на короля возложили корону, он, вместо того чтобы оставить царственный венец на голове, снял его и положил на алтарь. Ему заметили, что по церемониалу коронования так делать нельзя, но юный государь ответил, что предпочитает нарушить церемониал и воздать за свою корону почести тому, кто ему даровал ее.
На обратном пути из Реймса король остановился на какое-то время в Виллер-Котре, где герцог Орлеанский устроил в его честь великолепные празднества; оттуда он переехал в Шантийи, к герцогу Бурбонскому, потратившему целый миллион на то, чтобы принять короля.
Видя такое роскошество, Канийяк заметил:
– Как видно, тут протекала река Миссисипи.
Именно во время своего пребывания в Виллер-Котре и Шантийи король впервые испытал удовольствие от охоты, и это развлечение стало впоследствии его страстью.
По возвращении в Париж герцог Орлеанский отбыл в Испанию, сопровождаемый герцогиней де Дюрас, шевалье Орлеанским и мадемуазель де Божоле, своей дочерью, брачный контракт которой с инфантом доном Карлосом был подписан 26 ноября.
Однако этот брак так и не был заключен.
Спустя неделю после подписания брачного контракта умерла принцесса Пфальцская, мать регента.
Все театральные зрелища были отменены на неделю, и траур длился четыре месяца.
Редко случалось, чтобы столь важные события не вызывали поэтического вдохновения у сочинителей эпиграмм.
Для покойной была предложена следующая эпитафия:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАЗДНОСТЬ.
Вспомним старую пословицу, гласящую: «Праздность – мать всех пороков».
Наряду с известным землетрясением в Португалии, побудившим метра Андре сочинить трагедию, смерть принцессы Пфальцской стала последним событием уходящего 1722 года.
XIV
Совершеннолетие короля. – Госпожа де При. – Госпожа де Пленёф. – Господин де При, посол в Турине. – Возвращение. – Опала Ле Блана и г-на де Бель-Иля. – Болезнь Дюбуа. – Его смерть. – Смерть регента. – Заключение.
Можно сказать, что 1723 год начался с совершеннолетия короля. 16 февраля Людовик XV вступил в четырнадцатый год своей жизни.
В тот день герцог Орлеанский присутствовал на утреннем выходе короля, засвидетельствовал ему свое почтение и попросил его дать распоряжения относительно будущего управления государством.
Двадцать второго февраля король присутствовал на торжественном заседании Парламента и объявил там, что, в соответствии с законами государства, ему угодно взять впредь управление Францией в свои руки; затем, повернувшись к герцогу Орлеанскому, его величество поблагодарил его за проявленные им заботы о государственных делах, попросил его продолжить эти заботы и утвердил кардинала Дюбуа в должности первого министра.
На этом заседании три человека были возведены в звание герцога и пэра: Бирон, Леви и Лавальер.
Возвращение Биронам их герцогства-пэрства явилось великим актом справедливости со стороны герцога Орлеанского. Это герцогство-пэрство было отнято у Шарля де Бирона, виновного в оскорблении величества. Оно было отдано его потомку, не виновному ни в чем. По данному поводу кое-кто высказал замечание герцогу, но он ответил:
– Справедливо, когда семья, погубившая себя своими проступками, может восстать из пепла благодаря своим заслугам.
К тому же времени следует отнести и опалу Ле Блана и г-на де Бель-Иля, давшую знать о начале влияния г-жи де При.
Госпожа де При была дочерью Вертело де Пленёфа, богатого финансиста, одного из старших служащих канцлера Вуазена; он составил себе огромное состояние и держал открытым превосходный дом, в котором его жена с великим радушием принимала гостей, выказывая при этом любезность и блестящее остроумие. Среди своих детей г-жа де Пленёф выделяла, желая сделать ее предметом самой нежной своей привязанности, малышку Агнессу, которой предстояло позднее стать г-жой де При; но, по мере того как дочь взрослела, становясь юной девушкой и в конце концов все больше нравясь другим, она начала все меньше нравиться своей матери; через какое-то время глубочайшая любовь матери обратилась в сильную и открытую ненависть соперницы. И потому было решено как можно скорее выдать мадемуазель де Пленёф замуж, чтобы, благодаря ее отсутствию в доме несчастного откупщика, вернуть туда доброе согласие, которое изгнало оттуда ее присутствие.
Нашлось несколько искателей ее руки, среди которых был и маркиз де При.
Маркиз де При, происходивший из знатной семьи, был крестным отцом короля и входил в окружение г-жи де Вантадур; правда, он не имел никакого состояния и затянувшийся мир остановил его карьеру офицера, но состояние было у Пленёфа, а вместо того чтобы продолжать военную карьеру, маркиз де При мог броситься на поприще дипломатии. Так что была заключена сделка, и брак состоялся. Госпожу де При представили королю, она пустила в ход все свое обольстительное остроумие, а оно было огромно, когда ей этого хотелось, и в итоге г-н де При был назначен послом в Турине.
Там г-жа де При повидала высший свет и приобрела те аристократические манеры, какие сделали ее одной из самых опасных, но одновременно и самых элегантных женщин эпохи, в которую мы только что вступили.
В 1719 году г-жа де При вернулась в Париж. Это была уже женщина в полном смысле этого слова, женщина, пьянящая, словно вино; прелести в ее очаровательном лице было еще больше, чем красоты, она была наделена живым и проницательным умом, талантами, честолюбием и ветреностью; вместе с тем она обладала огромным присутствием духа и самой благопристойной внешностью.
Герцог Бурбонский увидел г-жу де При и влюбился в нее; она поняла важность этой победы и не заставила его чахнуть от любви. Вначале их любовная связь была тайной; в их распоряжении был небольшой дом на улице Святой Аполлинии и неприметный экипаж без гербов, изнутри напоминавший великолепный будуар, а снаружи – наемную карету. Герцог Бурбонский был ревнив, как и полагается влюбленному во время медового месяца, и г-н д’Аленкур, сын маршала де Вильруа, занимавший до принца то же место подле г-жи де При, получил отставку.
Женщины с задатками г-жи де При ничего не делают даром; маркиза имела, или полагала, что имеет, основания жаловаться на Ле Блана и графа де Бель-Иля, внука Фуке; чтобы погубить Ле Блана, она воспользовалась подвернувшимся случаем – банкротством Ла Жоншера, казначея чрезвычайных военных расходов, которого заключили в Бастилию; а поскольку Ла Жоншер был ставленником Ле Блана, она обвинила Ле Блана в том, что он запускал руку в его кассу и таким образом предопределил это банкротство. Герцог Бурбонский, побуждаемый г-жой де При, обратился к герцогу Орлеанскому, требуя навести в этом деле порядок. Герцог Орлеанский отослал его к Дюбуа. Дюбуа не имел никаких причин поддерживать Ле Блана, который не был его приверженцем, зато у него имелись обязательства перед г-ном де Бретёем, так ловко вырвавшим страницу из приходского реестра, что после ее исчезновения аббат сделался холостяком; в итоге Ле Блан и г-н де Бель-Иль были отправлены в Бастилию, Королевская палата Арсенала получила приказ провести следствие по их делу, а военное ведомство было отдано Бретёю.
Так что эта история закончилась к удовольствию г-жи де При и герцога Бурбонского; Дюбуа же занялся руководством ассамблеи духовенства, не собиравшейся после 1715 года.
То была последняя почесть, увенчавшая эту странную жизнь: предсказанию Ширака, заявившего, что первому министру осталось жить не более полугола, предстояло вот-вот осуществиться.
Уже через несколько дней все догадались, что Дюбуа нездоровится. Он приказал переместить королевский двор из Версаля в Мёдон, пользуясь как предлогом возможностью доставить королю удовольствие от нового местопребывания, а в действительности для того, чтобы наполовину укоротить путь, который ему самому следовало проделать; уже давно страдая от язвы мочевого пузыря, он не мог более выносить езды в карете и с трудом терпел передвижение в портшезе.
В субботу 7 августа он почувствовал себя настолько плохо, что врачи заявили ему о необходимости подвергнуться операции, очень серьезной и очень болезненной, но настолько безотлагательной, что если она не будет сделана, то, вероятно, он не проживет и трех дней; и потому они призвали кардинала дать распоряжения перенести его в Версаль, чтобы эта операция была сделана как можно скорее.
Услышав эту новость, министр впал в ярость и послал врачей и хирургов куда подальше; тем не менее операция состоялась; однако на другой день, в пять часов – спустя ровно сутки после операции, минута в минуту, – Дюбуа скончался, не переставая бушевать и браниться.[15]
Дюбуа умер вовремя: он сделал свое дело, став в тягость всем, особенно регенту. В день операции было крайне жарко и в воздухе собиралась гроза. И в самом деле, через несколько минут раздался гром.
– Ну-ну, – воскликнул регент, потирая руки, – вот, надеюсь, погода, которая заставит нашего негодяя убраться!
Вечером того самого дня, когда Дюбуа умер, регент написал Носе, отправленному в ссылку по настоянию кардинала:
«Мертвая гадина не кусает! Жду тебя этим вечером на ужин в Пале-Рояле».
То было надгробное слово первому министру.
Однако герцогу Орлеанскому предстояло ненадолго пережить человека, с которым он так легко простился. Его собственная задача тоже была выполнена.
Смерть Дюбуа, которая должна была стать для регента уроком, явилась для него всего лишь возможностью с еще большей легкостью предаваться удовольствиям, ставшим для него необходимыми. Однако в некотором смысле смерть послала регенту все предостережения, сделать какие было в ее власти: он ходил с понурой головой, багровым лицом и одурманенным видом. Ширак каждый день делал герцогу Орлеанскому внушение, и каждый день тот отвечал ему:
– Дорогой мой Ширак, умереть от апоплексии дано не всякому, кто этого хочет! А это так быстро и легко!
Каждый день Ширак приходил к регенту, чтобы пустить ему кровь, и каждый день регент откладывал кровопускание на завтра.
Наконец 2 декабря, в четверг, Ширак стал давить на него с такой настойчивостью, что принц, желая отделаться от медика, назначил кровопускание на следующий понедельник.
В тот день он работал у короля. Возвращаясь в свой кабинет, где лежала папка с заранее подготовленными бумагами, он увидел г-жу де Фалари, ожидавшую его у двери.
Это зрелище явно доставило ему удовольствие.
– Входите же, – сказал он ей. – У меня в голове тяжесть, а вы своими байками развлечете меня.
Они вместе вошли в кабинет и сели бок о бок в двух креслах подле камина.
Внезапно г-жа де Фалари, начавшая рассказывать какую-то историю, почувствовала, что герцог навалился на нее всей тяжестью человека, упавшего в обморок. Она попыталась приподнять его. Герцог был без сознания, а вернее сказать, он был мертв.
Его смерть оказалась легкой, как он всегда желал; она была подобна его жизни и поразила его в объятиях сна.
Какая-то иностранная газета сообщила, что герцог Орлеанский умер в присутствии своего постоянного исповедника.
Герцогу Орлеанскому было сорок девять лет, три месяца и двадцать девять дней.[16]
Бросим теперь взгляд назад и коротко скажем о событиях, которые произошли за истекший период, и о людях, которые играли в нем важную роль.
Общество претерпело огромные изменения уже в конце царствования Людовика XIV, и эти изменения стали ощущаться в начале века.
События, более сильные, чем люди, сокрушили политическую власть, находившуюся в руках старого короля. Люди, более сильные, чем королевская воля, не поддались гнету этой воли.
Лежа на одре смерти, Карл Великий проливал слезы из-за грядущего нашествия варваров, которые должны были разрушить труд всей его жизни. Людовику XIV предстояло проливать слезы из-за изменений общества, которые вот-вот должны были уничтожить труд всех лет его царствования.
Политическая цель Людовика XIV заключалась в единовластии, в королевском абсолютизме; он хотел сказать: «Государство – это я», и он это сказал.
Он мог бы сказать то же самое и по поводу общества. Какое-то время неоспоримым было бы утверждение: «Общество – это он».
Но, точно так же как королям надоело подчиняться его опеке, обществу надоело следовать его примеру.
Короли вырвались из-под его влияния благодаря его поражениям.
Общество вырвалось из-под его тирании благодаря его смерти.
На протяжении последних лет его царствования выросло целое поколение, которое, расставшись с нравами семнадцатого века, намеревалось ввести в обиход нравы века восемнадцатого. Герцог Ришелье был героем этого поколения, герцог Орлеанский – его апостолом, Людовик XV – его королем, Носе, Канийяк, Бранкас, Фаржи и Раванн – его образцами.
Семнадцатый век являет собой трудоемкую постройку политической и религиозной власти. Генрих IV израсходовал на нее свой ум, Ришелье – свой гений, Людовик XIV – свою волю.
Восемнадцатый век являет собой разрушение этой основы, низвержение трона, осквернение алтаря.
В XVII веке блистают Корнель, Расин, Монтескьё, Боссюэ, Фенелон, Фуке, Лувуа, Кольбер.
В XVIII веке – Вольтер, Руссо, Гримм, д’Аламбер, Бомарше, Кребийон-сын, маркиз де Сад, Ло, Морепа и Кал они.
И заметьте, что этот роковой XVIII век не представляет собой какую-то случайность в череде столетий: он соответствует замыслам Бога, он подготовлен отменой Нантского эдикта, открытием школ в Женеве, Голландии и Англии, он подготовлен Ньютоном в той же степени, что и г-жой де Ментенон, Лейбницем в той же степени, что и отцом Ле Телье.
В чем причина вражды короля и герцога Орлеанского, откуда проистекает ненависть, которую дядя питает к племяннику, а племянник – к дяде? Это борьба духа прошлого с духом будущего. Почему из всего потомства Людовика XIV выжил один только Людовик XV? Дело в том, что для этого развращавшегося общества нужен был развращенный король, дабы король и общество низвергнулись в одну и ту же бездну и все воскресло и обновилось одновременно. Такова история всех одряхлевших монархий.
Посмотрите, насколько хорошо Филипп Орлеанский предуготовил Людовика XV; разве кардинал Ришелье лучше предуготовил Людовика XIV? Герцог Орлеанский – остроумец, безбожник, богохульник, развратник; он не верит ни в какие человеческие чувства, он не уважает никаких семейных связей, но у него есть миссия сохранить в живых Людовика XV, провести его целым и невредимым через все детские болезни, все стадии его слабого здоровья; оставляя свои тайны незыблемыми, Господь имеет нужду в Людовике XV: этот король служит растлителем, с чьей помощью Господь намеревается отнять душу у общества, которое он хочет уничтожить; и потому он вкладывает в сердце герцога Орлеанского высочайшую честность человека, отвечающего за жизнь ребенка, и, когда здоровье этого ребенка укрепляется, когда с помощью министра, которого Провидение посылает герцогу Орлеанскому, угождая одновременно его гению и его распутству, регент из ребенка делает молодого человека, а из молодого человека – короля, он умирает, как если бы только и ждал этого момента, чтобы умереть. Он умирает так же, как жил, не имея времени покаяться во всех своих грехах, хотя некоторые из них являются едва ли не преступлениями, настолько он уверен в том, что одного слова окажется достаточно для того, чтобы укротить гнев Всевышнего, и что сказать Богу надо будет всего лишь следующее:
«Ты дал мне дофина, а я вернул тебе Людовика XV».
И тогда все грехи будут ему прощены.
Вот почему герцог Орлеанский, при всех его пороках, остается человеком с великим и благородным сердцем, и история, забыв о распутстве отца, оргиях принца, слабостях мужчины, будет изображать его бдящим с простертой рукой над колыбелью ребенка, в желании отравить которого его обвиняли.
Ну а теперь посмотрим, что станет с этим ребенком, которого глас народа уже прозвал Возлюбленным.[17]
ДОБАВЛЕНИЯ
А
Мы извлекли из писем принцессы Пфальцской несколько отрывков, в которых она со своей немецкой прямотой рисует развращенность нравов в эпоху Регентства.
«22 октября 1717 года.
Мой сын не красавец и не урод, но в его поведении совершенно нет привычек, годных на то, чтобы заставить влюбиться в него; он неспособен ощущать любовную страсть и в течение долгого времени питать привязанность к одной и той же особе… Он крайне болтлив и рассказывает обо всем, что с ним происходит; я сто раз говорила ему, насколько меня не перестает удивлять, что, несмотря на это, женщины как безумные гоняются за ним, хотя, скорее, им следовало бы убегать от него. В ответ он смеется и говорит мне: „Вы не знаете нынешних развратных женщин. Рассказать, что вы спите с ними, означает доставить им удовольствие“».
«18 ноября.
Во Франции вся молодежь обоих полов ведет крайне предосудительный образ жизни. Чем более он беспорядочен, тем более это ценится. Возможно, подобная жизнь весьма приятна, но, признаться, я не могу счесть ее таковой. Молодые люди не следуют моему примеру вести налаженную по часам жизнь, а я решительно не могу принять за образец их поведение, напоминающее мне поведение свиней».
«19 декабря.
По правде сказать, любовницам моего сына, если они в самом деле любят его, следовало бы заботиться о его жизни и его здоровье; но я хорошо понимаю, моя дорогая Луиза, что Вы не знаете француженок; ими руководят исключительно выгода и склонность к разврату; этих любовниц заботят только их удовольствия и деньги; ради самого любовника они не отдадут и волоска. Это вызывает у меня глубочайшее отвращение, и на месте моего сына я не видела бы в подобных связях ничего привлекательного; однако он к такому привык, и все, что исходит со стороны этих женщин, ему безразлично, лишь бы они развлекали его. Есть еще одно обстоятельство, которое я не могу взять в толк: он нисколько не ревнив и мирится с тем, что его собственные слуги состоят в любовной связи с его любовницами. Это кажется мне отвратительным и доказывает, что никакой любви к своим любовницам он не испытывает. Он настолько привык бражничать и ужинать вместе с ними, настолько привык вести эту беспутную жизнь, что уже не может отделаться от них».
«23 декабря.
Женщины пьянствуют здесь еще больше, чем мужчины, и, между нами говоря, у моего сына есть омерзительная любовница, которая пьет, как сапожник, и к тому же неверна ему; но, поскольку она ровным счетом ничего от него не требует, он ее не ревнует. Я сильно беспокоюсь, как бы из-за этой связи с ним не случилось чего-нибудь похуже. Да хранит его Господь! Он проводит в такой гнусной компании все ночи и остается за столом до трех или четырех часов утра; само собой разумеется, это крайне вредно для его здоровья».
«13 февраля 1718 года.
Мы надеемся, что в предстоящую пятницу моя дочь и ее муж приедут сюда. Я очень радуюсь этому, но дай Бог, чтобы их пребывание обошлось без неприятностей! Я опасаюсь дурной компании, которую придется увидеть моей дочери и которая сделает все возможное, чтобы испортить ее… Но если я попытаюсь руководить ею в этом отношении, то прослыву помехой веселью, особой с мрачным нравом, и мне нисколько не будут признательны. Так что испытывать полное удовольствие, свободное от всяких тревог, никак не удается. Оргии в семействе Конде чересчур отвратительны и общеизвестны. Удивительнее всего, что бабушка в этой семье – самая добродетельная и самая почтенная женщина, какая только есть в христианском мире, и даже самые злобные сплетники не находят повода позлословить насчет госпожи принцессы де Конде; однако все ее отпрыски, как женатые, так и холостые, имеют самую жуткую репутацию в свете. Поневоле краснеешь, слушая то, что о них рассказывают и что о них говорится в песенках!»
«13 марта.
То, что здесь каждый день видишь и слышишь, причем о самых заметных особах, невозможно описать. В годы молодости моей дочери такое не было принято, и потому она то и дело пребывает в удивлении, которое выводит ее из себя, а меня каждый раз заставляет смеяться. Невозможно привыкнуть к зрелищу, когда дамы, носящие самые громкие имена, прямо в Опере обходятся с мужчинами с вольностью, свидетельствующей о чем угодно, кроме неприязни. Она говорит мне: „Сударыня! Сударыня!“, а я отвечаю ей: „И что, по-вашему, я могу сделать, дочь моя? Таковы нынешние манеры“. – „Но эти манеры ужасно гадкие“, – резонно замечает она. В Германии существует мания подражать Франции, и, когда там станет известно, как ведут себя принцессы, все окажется испорчено и развращено».
«14 сентября 1719 года.
Крайне плачевно, что разврат ширится все более; прежде никто не слышал историй столь же ужасных, как нынешние. Мне стала известна скандальная жизнь маркграфа Дурлахского; так вот: это уже слишком! Боюсь, как бы этот сеньор не сошел с ума окончательно; никто не видел больших безумств, и мне никогда не доводилось слышать ни о чем подобном, если не считать разговоров о парижском художнике по имени Сантерр; у него не было слуг, однако он принуждал прислуживать ему юных девушек, которые одевали его и раздевали».
«1 октября.
Мой сын чересчур добр! Поскольку юный герцог де Ришелье заверил его, что имел намерение все ему откровенно рассказать, мой сын поверил этим словам и приказал освободить его. Правда, мадемуазель де Шароле, любовница герцога, не давала по его поводу ни минуты покоя своему отцу. Но все же ужасно, когда принцесса крови заявляет перед лицом всего света, что она влюблена, как кошка, и когда эта страсть обращена на шалопая, который настолько ниже ее по рангу, что она не может выйти за него замуж, и который к тому же неверен ей, ибо у него есть с полдюжины других любовниц. Когда ей указывают на это, она отвечает: „Ну и что? Любовницы у него лишь для того, чтобы приносить их мне в жертву и рассказывать мне все, что между ним и ими происходит". Воистину, это ужасно!"
"29 ноября.
Все разговоры теперь ведутся исключительно о банке г-на Ло. Одна дама, которая никак не могла пробиться к нему, воспользовалась весьма необычным средством, чтобы обрести возможность поговорить с ним: она дала своему кучеру приказ опрокинуть карету перед воротами г-на Ло, который выбежал на раздававшиеся крики, вообразив, что дама сломала себе шею или ногу; однако она поспешила заявить ему, что это была придуманная ею военная хитрость… А вот что сделали шесть других дам благородного происхождения и по-настоящему скандального поведения. Они захватили г-на Ло в тот момент, когда он находился в своих покоях, и, поскольку он умолял их отпустить его, а они упрямо отказывались дать ему свободу, он в конце концов сказал им: «Сударыни, тысяча извинений, но если вы не отпустите меня, то я непременно лопну, ибо мне так хочется писать, что терпеть более невозможно!» На что они ответили ему: «Ну что ж, сударь, писайте, лишь бы только вы нас выслушали!»" И он сделал это, в то время как они оставались около него… Так что Вы видите, до какого предела дошла во Франции алчность".
"27 сентября 1720 года.








