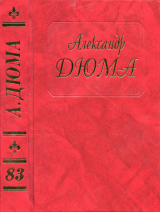
Текст книги "Регентство. Людовик XV и его двор"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Проводив своего гостя в самую дальнюю комнату дома, г-жа Лопиталь выходит через заднюю дверь на улицу, мчится к одной из своих подруг, жившей на окольной улице, рассказывает ей о случившемся и о своих подозрениях, уговаривает ее принять у себя путешественника, посылает за священником, своим родственником, забирает у него парик и сутану, возвращается к своему дому, застает на пороге слугу-англичанина, убеждает его выпить вместе с форейтором, в то время как она подежурит вместо него; форейтор, предупрежденный ею, наливает стакан за стаканом и после третьей бутылки укладывает мертвецки пьяного слугу под стол. Тотчас же он зовет хозяйку; она входит в дом, прислушивается у двери комнаты, где расположился кавалер, по его дыханию узнает, что он спит, поворачивает ключ в замке, и становится на часах у двери, выходящей на улицу.
Через четверть часа карета появляется. Госпожа Лопиталь бежит навстречу ей, заставляет ее повернуть на окольную улицу, провожает путешественника к своей подруге и там, бросившись к ногам короля Якова III, умоляет его довериться ей, говорит ему, что в противном случае он погиб, рассказывает о том, что произошло, и, в то время как король переодевается в платье аббата и располагается в доме, о его присутствии в котором никому неизвестно, она извещает обо всем судью, заявляет ему о возникших у нее подозрениях, велит задержать пьяного слугу и уснувшего кавалера и отправляет одного из своих форейторов к г-ну де Торси, имя и адрес которого сообщил ей английский король, чтобы оповестить министра о том, что произошло.
Между тем на почтовой станции поднимается страшный шум: кавалер, внезапно разбуженный, кричит, что он принадлежит к английскому посольству и, как таковой, пользуется неприкосновенностью. У него требуют доказательства того, что он утверждает; он не может предъявить их, называет имя Дугласа, но отказывается сказать, где тот находится. Наконец, после долгих споров, его и слугу, все еще нетвердо стоящего на ногах, препровождают в тюрьму.
Куда подевался после этого ареста Дуглас, никто не знает. Вне всякого сомнения, слух об аресте двух его сообщников дошел до него. Его видели затем бешено мчавшимся на дороге, но мчался он уже напрасно.
Король Яков III три дня скрывался в Нонанкуре у подруги г-жи Лопиталь, затем, выехав в переодетом виде, он по дороге получил письмо от своей матери, добрался до гавани в Бретани, где ему предстояло погрузиться на судно, и благополучно прибыл в Шотландию.
Через неделю после этих бесполезных гонок Дуглас вернулся в Париж, с невероятной наглостью и бесстыдством крича о нарушении международного права.
Что же касается лорда Стэра, то он отправился к регенту, чтобы пожаловаться на это же самое нарушение; однако регент изложил ему весь его замысел во всех подробностях, призвал его помалкивать о случившемся и, ограничившись прекращением начатого расследования, вернул послу двух его головорезов, арестованных в Нонанкуре.
Дуглас, черпавший свою силу в поддержке со стороны лорда Стэра, еще какое-то время оставался в Париже, с вызывающим видом появляясь на празднествах и театральных спектаклях.
Но, поскольку регент его больше не принимал, а порядочные люди навсегда захлопнули перед ним дверь, он исчез и никогда более не появлялся.
Английская королева вызвала г-жу Лопиталь в Сен-Жермен, поблагодарила ее и подарила ей свой портрет, испытывая при этом чувство выполненного долга.
Госпожа Лопиталь умерла, оставаясь почтмейстершей в Нонанкуре.
VI
Люксембургский дворец. – Телохранители герцогини Беррийской. – Господин де Лозен и его племянник. – Жизнь Филиппа II с того времени, как он стал регентом. – Госпожа д'Аверн. – Госпожа де Собран. – Госпожа де Фалари. – Госпожа де Парабер. – Сотоварищи регента. – Бранкас. – Канийяк. – Носе. – Раванн. – Бриссак. – Ужины в Пале-Рояле. – Привратник Ибанье. – Ширак. – Беглый взгляд на литературу той эпохи. – Писатели того времени. – Фонтенель. – Спаржа в оливковом масле. – Лесаж. – Кребийон. – Детуш. – Вольтер. – Людовик XV.
Пока юный король, вернувшись из Венсена в Тюильри, подрастает под надзором герцогини де Вантадур; пока продолжаются расправы над откупщиками; пока Ло закладывает основы своей системы; пока Дюбуа добивается в Лондоне подписания договора о Тройственном альянсе; пока, наконец, Яков III, избежав ловушки в Нонанкуре, пытается отвоевать тройной трон своих предков, Париж оправляется от испытанного потрясения; герцог Орлеанский, если только не случается какое-нибудь непредвиденное дело, возвращается к своему привычному существованию, а герцогиня Беррийская, его старшая дочь, с головой кидается в ту безумную жизнь, какой даже посреди колоссальной распущенности, общей для описываемой эпохи, она обязана отдельным упоминанием у историков и летописцев.
Вследствие ссор с герцогиней Орлеанской, своей матерью, а также желая быть более свободной в своих действиях, за которыми в Пале-Рояле беспрестанно надзирала принцесса Пфальцская, ее бабка, герцогиня Беррийская попросила у регента разрешения жить в Люксембургском дворце, и регент, будучи добрым отцом, поспешил дать ей на это согласие.
Стоило герцогине Беррийской обосноваться в Люксембургском дворце, как все те страшные плотские наклонности, что таились в ней, развились в полную силу.
Ее первая прихоть заключалась в желании иметь отряд телохранителей.
Герцог Орлеанский, который ни в чем не мог отказать своей любимой дочери, предоставил ей телохранителей; однако одновременно он пожелал, чтобы и у его матери, принцессы Пфальцской, был такой же отряд.
Выбрать дворян, которые должны были составить отряд телохранителей и, находясь при ее особе, беспрекословно подчиняться ее приказам, стало для герцогини Беррийской серьезным делом.
Еще более важным делом стал выбор их капитана, их лейтенанта и их знаменщика. Должность капитана была предоставлена шевалье де Руа, маркизу де Ларошфуко, а должность знаменщика – шевалье де Куртомеру.
Оставалось выбрать лейтенанта.
Однажды утром, когда г-жа де Понс, камерфрау герцогини Беррийской, руководила одеванием принцессы, она попросила ее дать эту должность г-ну де Риону.
– А что представляет собой господин де Рион? – спросила принцесса, пытаясь припомнить, с лицом какого человека могло иметь связь это имя.
– Ну как же, госпожа герцогиня! Это очень знатный дворянин, младший отпрыск семьи Эди, сын сестры госпожи де Бирон и, следовательно, племянник господина де Лозена.
– Да я не об этом спрашиваю вас, дорогая: вы ведь знаете, что мне нравятся приятные лица.
– Должна признаться вашему высочеству, что господина де Риона никак нельзя назвать красавцем, однако я могу сказать, что это человек надежный.
– Хорошо, Понс, велите графу приехать в Париж: я на него посмотрю.
Госпожа де Понс, как нетрудно понять, поспешила написать своему кузену, а он, со своей стороны, поспешил приехать.
Госпожа де Понс правильно поступила, не став чересчур расхваливать внешность г-на де Риона.
«Это был, – говорит Сен-Симон, – низкорослый, щекастый и бесцветный толстый малый, который со своими многочисленными прыщами изрядно походил на гнойник».
Однако граф де Рион имел превосходные зубы и был добрым, почтительным, учтивым и порядочным малым; он никоим образом не мог вообразить, что способен вызвать у кого-либо любовную страсть, и потому, заметив, что принцесса стала питать к нему склонность, был совершенно ошеломлен свалившимся на него счастьем и помчался к своему дяде, г-ну де Лозену.
Герцог подумал с минуту, а затем, видя, что сам он как бы продолжает жить в сыне своей сестры, промолвил:
– Ты спрашиваешь у меня совета?
– Да, дядя.
– Что ж, тебе следует делать то, что в свое время делал я.
– И что же мне следует делать?
– Быть уступчивым, любезным и почтительным, пока не станешь любовником принцессы; но, когда ты им станешь, тебе следует сменить тон и манеры, проявлять собственную волю, как господин, и капризничать, словно женщина.
Рион склонился перед этой старой опытностью и удалился.
В течение первого года регентства, то есть в течение того времени, которым мы занимаемся в данную минуту, герцог Орлеанский, жадный до работы, подобно всем людям с воображением и энергией, имел для каждого вида деятельности определенный час Он начинал работу в одиночестве, еще в постели, перед тем как одеться; потом принимал посетителей во время своего утреннего выхода, который был коротким и всегда сопровождался аудиенциями, происходившими как до этой церемонии, так и после нее и отнимавшими у него много времени; после этого, до двух часов дня, его поочередно удерживали главы советов; в два часа дня, вместо обеда, от которого регент полностью отказался, он пил шоколад; затем им завладевал г-н де Ла Врийер, а потом Ле Блан, которого он использовал для шпионажа; затем появлялись те, кто приходил к нему поговорить о папской булле, о которой мы вскоре будем говорить сами и которую называли апостольской конституцией; потом г-н де Торси, с которым он распечатывал письма и которому позднее поручил управление почтой; потом появлялся г-н де Вильруа, но без всякой цели, исключительно ради того, чтобы почваниться, как говорит Сен-Симон; раз в неделю приходили иностранные посланники, а иногда и советники. Все это длилось до семи или восьми часов вечера.
По воскресеньям и праздничным дням герцог Орлеанский в одиночестве слушал мессу в своей часовне.
После того как регент выпивал шоколад, он полчаса уделял своей жене, герцогине Орлеанской, и полчаса принцессе Пфальцской, когда она жила в Пале-Рояле, то есть зимой, поскольку лето принцесса Пфальцская проводила в Сен-Клу.
Иногда еще до начала работы, а иногда вечером, когда работа уже была закончена, герцог Орлеанский отправлялся к королю. Это был праздник для юного Людовика XV, ибо почти всегда регент приносил ему какую-нибудь очаровательную игрушку или рассказывал ему какую-нибудь забавную историю, что заставляло ребенка с огромным нетерпением ждать нового визита. К тому же принц никогда не покидал короля, не поклонившись ему бессчетное число раз и не изъявив ему своего глубочайшего почтения.
В тот день, когда не было заседания совета, все труды заканчивались к пяти часам вечера, и начиная с этого времени речь шла уже не о делах, а о том, чтобы ехать в Оперу или в загородный дом и ужинать либо в Люксембургском дворце, либо в Пале-Рояле.
Это были те знаменитые ужины, о которых так много говорили до нас и о которых, в свой черед, коротко скажем и мы, поговорив перед этим о сотрапезниках, обычно присутствовавших на них.
Во-первых, это были фаворитки регента или его фаворитка, а во-вторых, его неизменные сотоварищи, которых сам он называл висельниками – прозвище это было воспринято скандальной хроникой того времени и передано потомкам как делающее честь прозорливости его прославленного автора.
Иногда на них бывал также аббат Дюбуа, если это позволяло ему здоровье.
– Мой сын, – говаривала принцесса Пфальцская, – обладает большим сходством с царем Давидом: он сердечен и умен, музыкален, невелик ростом, храбр и весьма женолюбив.
В тот момент, к которому мы подошли, официальной фавориткой регента была г-жа де Парабер.
Однако это не мешало герцогу Орлеанскому иметь наряду с ней и других любовниц – г-жу д’Аверн, г-жу де Сабран и герцогиню де Фалари, хотя и проявляя по отношению к ним меньшее усердие.
Госпожа д’Аверн была супругой лейтенанта гвардейцев. Любовная связь регента и г-жи д’Аверн вела начало с празднества, устроенного маршальшей д’Эстре; это была очаровательная молодая женщина, исполненная изящества, с белокурыми волосами, тонкими и легкими; короче говоря, ее отличали самые красивые волосы на свете, кожа ослепительной белизны, стройная талия, которую можно было бы охватить чулочной подвязкой, мягкий и нежный голос, которому легкий провансальский выговор лишь придавал еще больше очарования; ее лицо, юное и подвижное, становилось прелестным, когда оно оживлялось; когда же в минуту нежной и сладостной задумчивости ее голубые глаза заволакивались влажной дымкой; когда ее уста, холодные и одновременно пламенеющие, приоткрывались, обнажая в тонком просвете губ нить жемчужин, это была уже не женщина, а демон сладострастия.
Некоторое представление о внешности г-жи д’Аверн могут дать женские головки кисти Грёза.
Госпожа де Сабран, еще в ранней юности обладавшая наклонностями, которые позднее доставили ей славу высочайшей распутницы, вырвалась из рук своей матери, чтобы выйти замуж за человека знатного происхождения, но без всякого состояния; однако этот брак принес ей свободу, а г-жа де Сабран ничего другого и не хотела.
Это была очаровательная женщина, красивая совершенной красотой, красотой одновременно правильной, пленительной и трогательной, обладавшая естественным обликом и простыми манерами; вкрадчивая, остроумная, слегка развратная – короче говоря, такая, какой и следовало быть, чтобы нравиться регенту. Регент сделал г-на де Сабрана своим дворецким с годовым доходом в две тысячи экю, которые г-жа де Сабран полагала уместным получать сама. Именно она во время одного из ужинов регента позволила себе, к великой радости сотрапезников, высказывание, ставшее впоследствии знаменитым:
– Создав человека, Господь Бог взял оставшуюся грязь и слепил из нее души принцев и лакеев.
Что же касается г-жи де Фалари, то это была высокая важная женщина, всегда усыпанная мушками, украшенная султаном из перьев, гордая своим влиянием при дворе, притворно добродетельная и во всеуслышание заявлявшая о своей приверженности принципам, в которые никто не верил, но лишь она одна делала вид, что верит в них.
Госпожа де Парабер, фаворитка регента, которую он называл черным вороненком, была, как это явствует из ее прозвища, маленькой, изящной, стройной, дерзкой и бойкой на ответ; пила и ела она так, что это вызывало удивление, и, благодаря всем этим качествам и кое-каким другим свойствам, которые мы упоминать здесь не будем, она почти что завладела сознанием регента.[3]
Впрочем, все эти женщины имели небольшое влияние на Филиппа, который не разорялся ради них и не позволял им принимать какое-либо участие в государственных делах.
Однажды г-жа де Парабер стала настаивать, чтобы герцог Орлеанский посвятил ее в какой-то политический замысел; но герцог Орлеанский взял ее за руку и, подведя к зеркалу, сказал ей:
– Сударыня, взгляните в зеркало и скажите, ну разве с женщиной, имеющей подобную мордашку, можно говорить о делах?
Его сотоварищами по распутству были прежде всего герцог де Бранкас, маркиз де Канийяк, граф де Брольи и граф де Носе.
Герцог де Бранкас был очаровательным сладострастником, законченным эпикурейцем, соприкасавшимся с жизнью лишь поверхностно, не принимая на себя никаких жизненных обязательств, которые могли побеспокоить его эгоизм, и отталкивая от себя неприятности, которые могли отвлечь его от присущей ему лености.
Когда однажды регент открыл рот, чтобы сделать герцогу де Бранкасу какое-то признание, тот остановил его:
– Замолчите, монсеньор! Я никогда не умел хранить свои собственные секреты и потому, разумеется, не смогу хранить и секреты других людей.
Однажды кто-то решил поговорить с ним о государственных делах.
– Умерьте свой пыл! – промолвил он. – Дела мне наскучили, а жизнь создана лишь для того, чтобы развлекаться.
Как-то раз друзья герцога де Бранкаса обратились к нему с просьбой попросить о чем-то принца.
– Это бесполезно, – отрезал Бранкас. – Я снискал большую милость, но у меня нет никакого влияния.
Впрочем, по прошествии двух или трех лет подобной жизни Бранкаса охватили угрызения совести, он сделался святошей, удалился в Бекское аббатство и написал письмо герцогу Орлеанскому, призывая его точно так же удалиться от мира и предаться вместе с ним покаянию. В качестве ответа на этот призыв герцог Орлеанский ограничился припевом модной в то время песенки:
Вернись, Филида! Ради прелестей твоих
Тебе я ветреность прощу…
Бранкас был одним из самых красивых придворных.
После Бранкаса шел Канийяк.
Канийяк был капитаном роты королевских мушкетеров; он обладал миловидностью, приятным остроумием и был учтивым собеседником, а рассказывал обо всем с легкостью и необычайным изяществом; даже перемывая кому-нибудь косточки, он всем нравился; страстно любящий наслаждения и хороший стол, он всегда напускал на себя суровый и строгий вид, над которым порой ему самому случалось подшучивать.
Когда Западный банк начал сталкиваться с затруднениями в своих делах, Канийяк сказал Ло:
– Господин Ло, я выдал векселя и не плачу по ним; вы украли у меня мою систему, ибо делаете то же самое.
Герцог де Брольи походил одновременно на сову и обезьяну; игрок, распутник, всегда по уши в долгах, он проводил жизнь в игорных домах, отчего днем у него был довольно скучный вид; однако вечером, когда он держал в руке стакан, а речь его сверкала и искрилась, словно пена пьянящего напитка, который он подносил к своим губам так часто, что это вызывало восхищение у самых стойких его собутыльников, именно от него исходили те бесконечные шутки и те безумные песенки, что превращали трапезу в кутеж.
Носе был высоким и смуглым, а скорее, по словам принцессы Пфальцской, зеленым, черным и желтым; он обладал важными манерами и невероятной наглостью, при этом голова у него была переполнена желчными остротами, с помощью которых он был способен смешать с грязью кого угодно. Воспитывавшийся вместе с регентом, у которого его отец был помощником гувернера, он имел на него огромное влияние. Когда регент выходил из дома ночью, рядом с ним всегда находился Носе. Носе был Джафаром этого новоявленного Гаруна ар-Рашида.
Другими его постоянными сотрапезниками были Раванн, оставивший любопытные воспоминания по поводу закрытых ужинов, о которых мы ведем теперь речь, и Коссе де Бриссак, мальтийский рыцарь, привносивший в самые дикие моменты самых диких кутежей рыцарские манеры своих предков.
Именно с этими людьми, именно с этими женщинами, к которым нередко присоединялась герцогиня Беррийская, с наступлением десяти часов вечера затворялся регент. И тогда, как только двери закрывались, начинал действовать запрет тревожить регента, даже если бы Париж сгорел, Франция исчезла, а мир рухнул, запрет категорический, настоятельный и безоговорочный. Происходило же на этих вечеринках все то, что могло родиться в безумном воображении пьяных, богатых и могущественных людей; то самое, о чем рассказывает Петроний, то самое, о чем фантазирует Апулей.[4]
Среди всего этого имелся один слуга регента, славный человек, который видел рождение принца и которого принц сделал привратником Пале-Рояля. Звали его Ибанье; он искренне любил своего господина и говорил с ним со смелостью старого слуги. Регент питал к нему нечто вроде почтения: он никогда не осмеливался возложить на Ибанье одно из тех постыдных поручений, которые его министры или его сотоварищи по распутству охотно выполняли ради него. По вечерам, с подсвечником в руках, Ибанье сопровождал своего господина до дверей комнаты, где происходили кутежи, и там останавливался. Однажды герцог Орлеанский пригласил его войти в комнату, но славный человек покачал головой в знак отказа и промолвил:
– Монсеньор, моя служба заканчивается тут. Я не хожу в такие дурные компании.
Жизнь, которую вел регент, была настолько чудовищной, что Ширак, его первый медик, непременно восклицал каждый раз, когда за ним приходили от принца:
– Ах, Боже мой! Неужто у него случился удар?
Наконец, благодаря долгим настояниям, Ширак добился от регента согласия отказаться от обеда и заменить трапезу, которая обычно бывала в два часа дня, всего лишь чашкой шоколада; однако в эту чашку шоколада добавлялось столько амбры, что, вместо того чтобы оказывать на него благотворное действие, такой напиток был вреден для его здоровья. Герцог Орлеанский считал амбру сильным возбуждающим средством.
Бросим теперь взгляд на литературу того времени.
За исключением Шольё и Фонтенеля, этих двух старейшин литературы, вся блистательная плеяда эпохи Людовика XIV уже исчезла. Корнель, который был старейшиной Французской академии, умер в 1684 году; Ротру – в 1691-м; Мольер – в 1675-м; Расин – в 1699-м; Лафонтен – в 1695-м; Реньяр – в 1709-м; Буало – в 1711-м.
Литература XVIII века, литература скорее философская, нежели литературная, едва-едва родилась или еще только должна была родиться. Жан Жак Руссо, появившийся на свет в 1712 году, был еще ребенком. Вольтер, родившийся в 1694 году, сочинял свои первые стихи. Мариво, родившемуся в 1688 году, предстояло поставить свою первую комедию лишь в 1721-м. Кребийону-сыну, родившемуся в 1707 году, было десять лет. Пирону, родившемуся в 1689 году, предстояло впервые приехать в Париж лишь в 1719-м. Монтескьё, родившемуся в 1689 году, ставшему советником в 1714-м и президентом Большой палаты парламента Бордо в 1716-м, предстояло издать «Персидские письма», свое первое сочинение, лишь в 1720-м. И потому все, что происходило или должно было происходить в тогдашнем мире литературы, связано с именами Шольё, которому было семьдесят семь лет; Фонтенеля, которому было пятьдесят девять; Лесажа, которому было сорок восемь; Кребийона-отца, которому было сорок три; Детуша, которому было тридцать семь; Мариво, которому было двадцать восемь, и Вольтера, которому не было еще и двадцати.
На глазах семидесятисемилетнего Шольё разворачивался едва ли не весь прошедший век, и он был способен оценить его величие и его нищету, его блеск и его беды; почти слепой, он сохранил ту веселость, какая является особым свойством слепых. Увы, в этом заходящем солнце было больше веселости, больше веры, больше убежденности, чем во всех светилах, которым еще только предстояло взойти на небосводе; Шольё, стоявший одной ногой в могиле, смеялся смехом куда менее притворным, чем смех юного Аруэ, находившегося в колыбели.
Фонтенель, которому предстояло прожить сто лет, был воплощением эгоизма, ходячим призраком, прошедшим сквозь время, не думая ни о чем, кроме самого себя; Фонтенель, человек большого ума, прелестный писатель, философ-пантеист, похвалялся тем, что ему никогда не приходилось ни смеяться, ни плакать. Фонтенель соединил собой концы целого века, никогда не имея ни любовницы, ни друга. Угодно вам получить точное представление о том, что представлял собой Фонтенель? Тогда послушайте.
Однажды Фонтенель вошел вместе с одним из своих земляков к какому-то трактирщику; оба они заказали себе спаржу, однако Фонтенель предпочел спаржу с оливковым маслом, а его спутник – с соусом. В то время как официант вышел, чтобы выполнить полученные заказы, сотрапезника Фонтенеля хватил апоплексический удар, убивший его на месте. Фонтенель потряс его, пощупал, убедился, что он в самом деле мертв, и велел убрать труп, а затем снова подозвал официанта и промолвил:
– Всю спаржу подайте с оливковым маслом.
Один-единственный анекдот зачастую дает картину более полную, чем целая биография.
Лесаж, как мы уже говорили, поставил в 1709 году «Тюркаре», то есть одну из самых прелестных комедий, какие только существуют на свете. Кроме того, в 1707 году он издал свой роман «Хромой бес», а как раз в 1715 году выпустил в свет первую часть «Жиль Бласа».
Кребийон-отец появился после великих мастеров: Корнеля, Ротру и Расина. Ему были присущи небольшая толика трагического вдохновения и нечто мрачное и таинственное в замысле, но у него недставало мастерства в композиции и полностью отсутствовал стиль; его трагедия «Каталина» так сильно мучила Вольтера, что он не имел покоя до тех пор, пока не сочинил свою собственную трагедию с тем же названием. В итоге появились две скверные пьесы вместо одной, только и всего.
Сам Кребийон называл свой жанр драматургии страшным. После первого представления «Атрея» у него поинтересовались, почему он встал на такой путь.
– У меня не было выбора, – ответил Кребийон. – Корнель избрал для себя небо, Расин – землю, так что для меня осталась одна лишь преисподняя, и я бросился туда очертя голову.
В то время, к которому мы подошли, Кребийон, достигнув в 1711 году апогея своей славы, начал спускаться с этой шаткой вершины. «Ксеркс», поставленный в 1714 году, подтолкнул его к крутому склону, ведущему в пропасть, а вскоре после этого Кребийон намеревался поставить «Семирамиду», которая должна была заставить его сделать еще один шаг к той бездонной пучине забвения, где он пребывает по сей день.
Детуш дебютировал трагедией «Маккавеи», от которой в истории драматургии не осталось и следа. Затем, в 1710 году, он поставил «Дерзкого любопытного», а в 1713 году – «Нерешительного», который заканчивается следующими прелестными стихами:
И все же лучше, полагаю, мне было б Селимену в жены взять.
Наконец, в 1715 году он поставил «Сплетника».
Мариво, как уже было сказано, к этому времени еще ничего не сочинил.
Вольтер, которому предстояло стать крупнейшим драматургом эпохи благодаря его трагедии «Эдип», был известен пока лишь своим стихотворением «Я видел», приведшим его в Бастилию.
Тем временем король подрастал на руках герцогини де Вантадур, которая, насколько могла, пыталась давать ему самое лучшее королевское воспитание, хотя это не всегда ей удавалось.
Однажды, когда ребенок играл с золотой монетой, она выскользнула из его рук; он нагнулся, чтобы подобрать ее, но герцогиня де Вантадур остановила его.
– Государь, – промолвила она, – все, что выпало из рук короля, более не принадлежит ему.
И она отдала монету проходившему мимо лакею.
В другой раз королю представили г-на де Куалена, епископа Мецского, обладавшего довольно малопривлекательной внешностью, и потому, увидев прелата, Людовик XV воскликнул:
– Ах, до чего же вы уродливы!
– Право, – ответил прелат, повернувшись спиной к королю, – вот очень дурно воспитанный ребенок.
И он вышел из комнаты, не поклонившись его величеству.
Его величеству очень захотелось рассердиться, но в дело вмешалась герцогиня де Вантадур и заявила королю, что то, что со стороны любого другого ребенка явилось бы всего лишь простодушным высказыванием, с его стороны было страшной грубостью.
Возмужавшего Людовика XV довольно хорошо характеризуют два этих поступка малолетнего Людовика XV.
VII
Лорд Стэр. – Дюбуа в Англии. – Договор о Тройственном альянсе. – Король переходит в руки герцога Орлеанского. – Господин де Ришелье. – Мадемуазель де Шароле. – Балы в Опере. – Царь Петр Великий в Париже. – Тяжба с узаконенными принцами. – Господин д’Аржансон становится канцлером.
Мы присутствовали при первом открытом проявлении союза, сложившегося между лордом Старом и аббатом Дюбуа, когда оба они поднялись на один и тот же балкон во время достославного заседания Парламента, на котором пост регента был предоставлен Филиппу II.
Еще за год с лишним до кончины Людовика XIV лорд Стэр находился во Франции, где, не занимая должности посла и не имея никакого формального поручения, он представлял интересы короля Георга. Его верительные грамоты лежали у него в кармане, оставаясь незаполненными. Ему самому предстояло выбрать момент, когда он займет официальное положение.
Лорд Стэр был рядовым шотландским дворянином, высоким, статным, худощавым, еще довольно молодым, с гордо поднятой головой и пристальным взглядом. По своему характеру и своим нравственным устоям он был пылок, предприимчив, отважен и дерзок. Он обладал умом, ловкостью и, наконец, тем, что называют изворотливостью. Вместе с тем он был скрытен, сведущ, умел владеть собой и следить за выражением своего лица, говорил на всех языках и мог изъясняться по-всякому; под предлогом любви к хорошему столу он задавал великолепные пиры, на которых доводил других до полного опьянения, никогда не теряя при этом разума сам. Будучи ставленником Мальборо, которому он был глубоко предан, лорд Стэр всегда помнил, что это герцог вытащил его из безвестности, дав ему полк и шотландский орден Чертополоха. Короче, это был виг до мозга костей.
Подобный человек должен был превосходно столковаться с Дюбуа.
К тому же политические интересы короля Англии и регента Франции совпадали.
Вильгельм Оранский умер в 1702 году, оставив трон своей дочери Анне, которая, в свой черед, умерла в 1712 году, не имея потомства, однако заранее, еще в 1704 году, назначив своим наследником Георга, курфюрста Ганновера. Это назначение было одобрено парламентом.
Каждый из них, и английский король, и регент Франции, имел опасного врага. У Георга I это был Яков III, претендент на английский престол; у регента, в случае смерти малолетнего Людовика XV, таким врагом становился Филипп V, претендент на французский престол. И потому было вполне естественно, что регент готов был оказать помощь Георгу I против Якова III, надеясь, что в обмен на это Георг I окажет ему помощь против Филиппа V.
Однако эта новая комбинация перевернула вверх дном все основные положения политики Людовика XIV, сделавшего Испанию своим союзником, а Англию – врагом.
Поездка Дюбуа имела целью укрепить этот союз общих интересов Георга I и регента.
В итоге переговоров, затеянных Дюбуа, в Гааге был подписан договор между Францией и Англией, получивший название договора о Тройственном альянсе, поскольку в конечном счете к нему примкнули и Соединенные Провинции. Согласно этому договору, претендент на английский трон изгонялся из Франции, Дюнкерк и Мардик подлежали сносу, и ни одна из договаривающихся сторон не могла предоставлять убежище лицам, которых объявляли мятежниками две другие стороны; посредством этого договаривающиеся стороны обещали друг другу сохранять в силе положения Утрехтского мира, который удостоверял наследование английского престола Ганноверской династией и отстранял Филиппа V от наследования французского трона.
После заключения этого договора Дюбуа получил два письма: одно от короля Георга, другое от регента.
Вот письмо короля Георга:
«С Вашей стороны было бы очень любезно, господин Дюбуа, если бы Вы оказались 20-го числа текущего месяца [январь 1717 года] в…[5], где я намерен побывать по пути в Лондон. Помимо удовольствия повидаться с Вами, я имею в виду обсудить с Вами несколько вопросов. Стенхоуп сообщит Вам об удовольствии, которое я испытал от единодушного общего согласия, изъявленного Соединенными Провинциями. Будь я регентом Франции, я недолго оставлял бы Вас всего лишь в должности государственного советника. В Англии не понадобилось бы и недели, чтобы Вы стали министром. ГЕОРГ, король».
А вот письмо регента:
«Мой дорогой аббат, Вы спасли Францию! Герцог Орлеанский обнимает Вас, а регент не знает, как Вас отблагодарить. Я сообщил королю о славной услуге, которую Вы только что оказали ему, и он с простодушием, свойственным его возрасту, ответил мне: „Я и не предполагал, что аббаты могут быть настолько полезны“. Поспешите воспользоваться Вашим блистательным успехом, ибо я уже стал ощущать Ваше отсутствие в Пале-Рояле.








