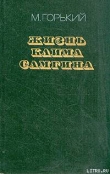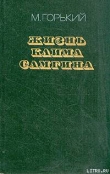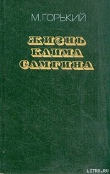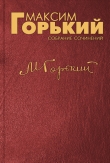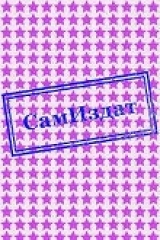
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
В какой-то момент у кого-то из родственников со стороны жены могло возникнуть ощущение, что эти ожидания не оправдались, что ожидания обмануты.
Затрудняюсь определить распространенность практики брачных контрактов во второй половине XIX века. Г. Шлиман оба раза вступал в церковный брак, венчался... Тем не менее, Г. Шлиман и отец Софии подписали нотариально заверенное соглашение о том, что ни София, ни ее семья не будут претендовать на состояние Г. Шлимана, если только это прямо не будет оговорено в его завещании [Вандерберг. С. 243]. Как некий шаг к брачному контракту это действие можно оценивать. Во всяком случае, брачный контракт, не будучи романтичным, может помочь избежать разочарования от несбывшихся ожиданий. Для более состоятельной стороны он в каких-то случаях создает правильное настроение и формирует более отчетливые планы.
Знакомясь с опытом семейных отношений Г.Шлимана я сформулировал следующие правила успеха:
1) В списке приоритетов перемещай семейные отношения ближе к первой позиции (или ставь на первое место);
2) Смотря на копейки, не упускай из виду рубли (формулировка первой жены Г. Шлимана Екатерины). (Семейный покой, семейный мир имеют свою цену);
3) Инвестируй в семейный покой, в семейные отношения (не упуская из внимания принципы своевременности и достаточности);
4) Поразмышляй о заключении брачного контракта.
Эту трудноватую тему я решил подытожить словами: "Кто найдет добродетельную жену? Цени ее выше жемчугов..." (Притч 31:10).
Глава 13. КОНТРОЛИРУЙ СВОИ БОЛЕЗНИ
Одна из интереснейших тем – как ни покажется странным – Г. Шлиман-пациент. Если просуммировать информацию о его заболеваниях, то естественным будет вывод: никаких особых успехов он достичь не сможет; его главная задача – не умереть слишком рано.
Тем не менее, Г. Шлиман прожил успешную и насыщенную жизнь (1822-1890). Умер в 68-летнем возрасте.
Фраза "сейчас здоровых людей нет" стала общеупотребимой. В этой ситуации пример Г. Шлимана, сумевшего поставить под контроль свои болезни, отвести им в своей жизни надлежащее место, может стать для любого современного человека и моральной поддержкой, и чужим опытом, на котором можно научиться стать успешнее.
Кроме этого утилитарной цели у приводимых ниже сведений есть и другое назначение: они показывают, что инвестиции Г. Шлимана в археологические достижения не сводились лишь к финансовым издержкам. Открытия потребовали колоссальных затрат здоровья великого археолога. Фраза Г. Шлимана в письме, написанном 24 июня 1870 года, сыну Сергею: "Я сделал то, что никто никогда не делал, а также то, что никогда никто не сделает" [Богданов И.А., 2008 б. С.129], была не пустыми словами.
Предложение одного из профессоров "не тратить попусту денег", "а лучше отдать деньги ... настоящим ученым" ([Штоль. С. 257], [Богданов И.А., 2008 б. С. 224]) выглядит наивно. Реализация этого совета означала бы конец раскопок Трои. Дело не только в наличии денег и намерении их расходовать на археологические цели. Но, кроме всего прочего, в готовности рисковать жизнью и здоровьем, тратить силы и энергию без счета. Вряд ли кто-то из кабинетных ученых стремился выдвинуться к малярийным болотам Троады. Но, как говориться, "сосватанная невеста всегда желаннее". Отчасти сознательно, отчасти невольно Г. Шлиман стал репутационным спонсором и Троады, и троянских раскопок. Своей бурной деятельностью и информационной активностью (а позже – удачливостью) Генрих Шлиман "завел" и "зацепил" (используя современный сленг) множество людей, совершенно прежде равнодушных к практическим раскопкам и тем более индифферентных к далекой и не совсем понятной, слегка мифической Троаде. Даже если бы Г. Шлиман передал кому-то деньги: что бы этот "кто-то" с ними делал? Вряд ли человечество от этого "кого-то" получило бы некий археологический результат; кроме разговоров (в общем, правильных) о бесчисленных трудностях и препятствиях.
В двухтомной книге "Илион" Г. Шлиман довольно подробно описывает Троаду, но, несмотря на визиты Р. Вирхова, мы не встречаем в этих описаниях данных об уровне смертности местных жителей. В указанную работу Г. Шлимана включено Приложение V под названием "Медицинская практика в Троаде в 1879 году" (автор профессор Рудольф Вирхов) [Шлиман Г. Илион. Т.1. С.455-462]. (Далее цитаты с авторством Р. Вирхова по теме здоровья и заболеваний в Троаде приводятся из указанной работы).
В этом Приложении Р. Вирхов упоминает о ежедневной "толпе" людей, ищущих медицинской помощи, о том, что "Троянская равнина "славится" лихорадками", делает весьма утешительную оговорку: "вспышка малярии происходит только в июне и июле" (визит Р. Вирхова в Троаду в 1879 году пришелся на апрель; троянские конференции 1889 и 1890 годов пришлись, соответственно, на декабрь и на март), объясняет, что "даже деревни, расположенные на высотах..., не свободны от лихорадки. Очевидно, малярию приносят туда ветры". Р. Вирхов делает несколько успокаивающих замечаний, например: "среди населения преобладающей болезнью была перемежающаяся лихорадка, большей частью трехдневная, но в основном в легких формах, хотя часто новые приступы развивались на основании старого заболевания малярией или в качестве стадии хронического заболевания лихорадкой, державшейся по пять, шесть или девять месяцев". Следует отметить достаточную четкость описания Р. Вирховым симптомов малярии; в целом его описание соответствует современным медицинским позициям: "Симптомы малярии обычно следующие: лихорадка, ознобы, артралгия (боль в суставах), рвота, анемия, вызванная гемолизом, гемоглобинурия (выделение гемоглобина в моче) и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга. Малярийная инфекция смертельно опасна." "Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается медленно. Он характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования". "..."Спящие" печёночные стадии (так называемые гипнозоиты) остаются и длительно персистируют в печени, они могут вызывать спустя месяцы и годы после заражения новые рецидивы заболевания и новые эпизоды выхода паразитов в кровь (паразитемии)" ["Малярия"].
Научный азарт увлекал Р. Вирхова: "Как часто мы ехали верхом при звездном или лунном свете через эту зловонную долину!" Научное бесстрашие Р. Вирхова обнаруживается, например, в таком замечании: "...Я принимал немножко хинина, но лихорадки, как таковой, заметно не было".
Поскольку рассматривается вопрос о контроле за болезнями, то интересно такое замечание Р. Вирхова: "В общем и целом я был удивлен, встретив здесь сильное и здоровое на вид население. Даже внешний вид женщин являл здесь выгодный контраст тому, что я видел ... в Константинополе и Скутари. В то время как в этих больших городах лица женщин ... отмечены жуткой бледностью, ... одуловатостью и анемичностью, я нашел, что женщины Троады, даже в тех регионах, где свирепствует лихорадка, выглядят ... менее бледно и цвет лица у них чище, чем у большей части женского населения наших больших городов. Среди мужчин достаточно много очень сильных и крепко сложенных людей, и на их загорелых лицах часто выделялись щеки розового цвета." "Тот факт, что обитатели тем не менее выглядят здоровыми, я склонен приписывать тому, что большую часть своей жизни они проводят на открытом воздухе. Многие их них ходят за своими стадами и редко бывают дома. Почти все занимаются земледелием на больших площадях и женщины также принимают участие в работе в открытом поле".
Прочитав комплекс этих интересных описаний, невольно думаешь: как прав был Генрих Шлиман, стремясь из большого столичного города на свежий воздух, к крестьянам, к животным! На свежем воздухе малярия и лихорадка не очень-то опасны!
Однако пытливая мысль медика делает поворот, и Р. Вирхов продолжает: "Этот образ жизни, конечно, делает их подверженными другим заболеваниям, особенно простудам, и они были насущной проблемой как раз тогда, когда я был в Троаде ...".
Полагаю, что приведение цитат их работы Р. Вирхова позволяет сделать вывод о том, что организация археологических работ в Троаде была весьма не простым делом. И трудности не сводились лишь к наличию или отсутствию финансирования. Здоровый образ жизни Генриха Шлимана, ежедневные его купания в море, предусмотрительные запасы хинина, – эти факторы способствовали успеху. Но все же шансы неуспеха были очень велики. Как весьма велики были и шансы стать жертвой смертельного заболевания.
К числу выдающихся научных свершений, заметных научных работ Рудольфа Вирхова относятся исследования и описания Верхнесилезской эпидемии тифа 1848 года, Европейской эпидемии холеры 1848 года, распространение проказы в западных провинциях Норвегии в 1859 году, доклад "Эпидемии 1848 года" (Малис Ю. Г. Р. Вирхов: Его жизнь и научно-общественная деятельность. 1899. – 80 с. (Серия "ЖЗЛ")). Видимо, непосредственное участие в раскопках Трои (о чем также упоминается в книге Ю.Г. Малиса), общение с Генрихом Шлиманом, переключили внимание Р. Вирхова с вопросов эпидемиологии на увлекательные открытия троянской, микенской археологии. Если бы такого переключения не случилось, то резко выросла бы вероятность появления в дополнение к "Медицинской практике в Троаде в 1879 году" популярного и фундаментального научного труда за авторством Р. Вирхова "Сообщения о распространении в Троаде малярии и простудных заболеваний". Археология – дело порой азартное!
Готовность Генриха Шлимана к оказанию медицинской помощи местному населению, предусмотрительно составленные запасы хинина, лекарств, медицинских средств, заочные консультации и личные визиты квалифицированных докторов, медицинские навыки самого Г. Шлимана – все это сделало великого археолога весьма известным и популярным среди местного троадского населения и способствовало созданию благоприятной внешней социальной среды. Р. Вирхов отмечает, что в контингент пациентов входили, в числе других, "чиновник, которого министерство послало в Гиссарлык, чтобы проследить за работами, а также десять заптиехов (жандармов)".
Перейдем от характеристики условий сохранения здоровья при троадских раскопках к более подробному описаний состояния здоровья Генриха Шлимана на протяжении его жизни.
Примерный перечень упоминаний в информационных источниках о болезнях Г. Шлимана выглядит следующим образом:
1841 год. Первое серьезное заболевание Генриха Шлимана. «Генриху помогло, в буквальном смысле слова, несчастье. Однажды, поднимая очень тяжелую бочку, он почувствовал острую боль в груди. К вечеру началось кровохарканье. Генрих слег и несколько дней не мог подняться с постели. Когда он, наконец, встал и вышел в лавку, хозяин озабоченно на него посмотрел и сказал, что очень жаль, но, видно, работа в лавке будет теперь Генриху не по силам. С несколькими талерами в кармане, со старой котомкой за плечами шагал по дороге из Фюрстенберга худой, невысокий девятнадцатилетний парень с запавшими глазами. Он кашлял, отплевывался кровью и шел дальше. (...) Долго Генрих не мог найти работу. Чахоточного, слабосильного парня никто не хотел брать. (...) Наступила сырая, промозглая гамбургская зима. Голодный и измученный, без пальто, задыхаясь от кашля, бродил Генрих по городу» [Мейерович М.Л. С. 28-29].
1848 год. На обратном пути из Москвы в Петербург Г. Шлиман в конце 1848 года простудился, четыре месяца пролежал в постели [Богданов И.А., 2008 а. С. 127].
1849 год. В июне заболел нервной лихорадкой, в течении месяца пребывал в самом отчаянном состоянии [Богданов И.А., 2008 а. С. 129].
(1851 год. Находясь в США, получает от своего друга П.И. Пономарева письмо с предостережениями насчет высокого риска заболевания и советом уехать из Калифорнии [Богданов И.А., 2008 а. С. 200].)
1852 год. Генрих Шлиман заболевает в США в Калифорнии лихорадкой (малярией), тифом, глотает хинин [Богданов И.А., 2008 а. С. 201]. «...Он продолжал принимать клиентов, лёжа в постели в единственной комнате своей конторы и глотая хинин» ["Шлиман, Генрих"]. «Дверь на улицу была раскрыта настежь. Под подушкой лежал кольт» [Мейерович М.Л. С. 48].
И. Стоун домысливает следующие слова Генриха Шлимана о лихорадке и ее лечении хинином: "В Никарагуа меня трепала болотная лихорадка. Я уже был одной ногой в могиле, но поблизости оказался немец-врач и в один прием скормил мне шестьдесят четыре грана. Выкарабкался!" [Стоун. С. 130].
1858 год. «30 мая Шлиман добрался до Дамаска, где заболел лихорадкой и тогда вынужден был пароходом отправиться в Измир и Афины. В Афинах, где лихорадка Шлимана стала критической, он получил письмо из Петербурга – 12 января 1859 года родилась его дочь Наталья. Из-за плохого самочувствия Шлиман в тот раз так и не увидел Греции» ["Шлиман, Генрих"].
1859 год. «Летом 1859 года он в Смирене, на малоазиатском берегу, оттуда едет на Кикладские острова, затем в Афины – все это мимоходом, второпях, как все туристы. Он собирался посетить родину Одиссея – остров Итаку, но старая калифорнийская лихорадка вдруг дала себя знать. Больной, в постели, Шлиман получил телеграмму из Петербурга: задолжавший ему крупную сумму купец Степан Соловьев обанкротился и отказался платить по векселям. Преодолевая страшный малярийный озноб, Шлиман стал собираться в дорогу: он вовсе не хотел терять свои деньги» [Мейерович М.Л. С. 58].
1863 год. «...Был болен, но теперь, благодаря Бога, лучше» [Богданов И.А., 2008 а. С. 333]
1864 год. «В июле Шлиман перебрался в Каир, где подхватил какую-то инфекцию, тело покрылось нарывами, его мучили боли в ушах. Пришлось возвращаться в Европу и лечиться в Болонье. (...) Лечение в Италии принесло лишь частичное облегчение, для консультаций Генрих отправился в Париж и в конечном счёте оказался в Вюрцбурге. Там профессор фон Трёльш впервые выявил у него экзостоз и запретил купаться в холодной воде, что Шлиман проигнорировал» ["Шлиман, Генрих"].
1865 год. «В Батавии его поразил острый отит, поражены оказались оба уха. Местный врач рекомендовал операцию на правую сторону, которая прошла успешно, но боли и тугоухость остались на всю жизнь.» «В октябре 1865 года Шлиман, которого вновь беспокоили боли в ушах, прибыл в Вюрцбург на лечение» ["Шлиман, Генрих"].
"...Отменным здоровьем путешественник не отличался: Шлимана мучила то боль в ухе, то лихорадка, то расстройство желудка или "нерв"..., но от осмотра достопримечательностей он все равно не отказывался – как и от новых знакомств" [Богданов И.А., 2008 а. С. 352].
1866 год. «...Его целью стала Самарская губерния, где он вознамерился лечиться кумысом, который стал весьма модным в России XIX века. (...) Лечение длилось с 15 июля по 12 августа, но не принесло облегчения, особенно Шлимана донимали малярия и боли в суставах, Чембулатов возобновил лечение хинином» ["Шлиман, Генрих"].
1871 год. Октябрь– ноябрь. «Исчез аппетит», «рези в животе». [Вандерберг. С. 295].
1872 год. «В июле 1872 года начались пыльные бури, а температура постоянно держалась на 30-градусной отметке. (...) Жара и пыль провоцировали приступы лихорадки и поголовный конъюнктивит. К августу малярией была поражена уже вся экспедиция, а самочувствие самого Шлимана было таково, что он не осмеливался выходить на воздух в светлое время суток.» «Наконец, в середине августа 1872 года работы пришлось остановить, поскольку Шлиману не помогали уже никакие дозы хинина» ["Шлиман, Генрих"].
"...Лихорадка валила его с ног. Огромные дозы хинина не помогали, других средств не было, но организм, скорее всего, сам справился с недугом, и 15 сентября Генрих на пару дней съездил на место Трои с фотографом из Дарданелл Э. Зибрехтом. С 22 сентября 1872 года по 29 января 1873 года он провел в Афинах, приводя в порядок записи и собственное здоровье" [Богданов И.А., 2008 б. С. 216].
1873 год. "И вот утомление стало охватывать искателя. Он был болен. Уже не помогал хинин. (...) В это время он писал своему издателю: «Тяготы и лишения превосходят мои силы. Я решил продолжать раскопки до 1 июня, а потом навсегда их прекратить. Теперь я буду копать только в Греции и начну с Микен» [Мейерович М.Л. С. 106].
1876 год. По мнению И. Стоуна в августе 1876 года после начала раскопок в Микенах Г. Шлиман «подхватил» цепня; через незначительное время, применив прописанное лекарство, смог освободиться от паразита [Стоун. С. 321, 325]. В изложении Ф. Вандерберга «На сорок девятом году жизни у Шлимана начали дрожать руки. Причиной был ленточный червь. Паразит мучал Шлимана одиннадцать лет. И только после его изгнания с применением сильных медикаментов дрожание рук прекратилось» [Вандерберг. С. 546]. Стал бы Г. Шлиман затягивать принятие эффективных медикаментов в течение одиннадцати лет? Вариант И. Стоуна выглядит убедительнее.
1877 год. «С 7 по 12 ноября он был в Вюрцбурге, где лечился от „простуды“...» [Богданов И.А., 2008 б. С. 235]
1882 год. "В марте 1882 года на Гиссарлыке возобновились раскопки. (...) Это была тяжелая кампания. Сначала стояли невыносимые морозы, потом, с весны, началась жара.
У Шлимана от пыли воспалились глаза, он почти ничего не видел. Многие его письма того времени написаны рукой Дерпфельда, под диктовку. Кроме того, он глохнул. Малярия возобновилась, хинин перестал помогать. Стала изменять память. Однажды он сел писать письмо по-древнегречески и с ужасом почувствовал, что не может написать ни строки – он забыл все слова до единого. Он измерил себе температуру – оказалось 40╟. А на дворе термометр в тени показывал 41╟. Страшным усилием воли он победил приступ болезни и все-таки написал письмо, а потом свалился в беспамятстве" [Мейерович М.Л. С. 153].
"Тяжелый приступ малярии привёл к отъезду Шлимана из Троады 22 июля 1882 года". "Страдая от приступов малярии, Шлиман со всей семьёй отбыл в Австрию и Германию, с 9 августа по 5 сентября 1882 года проходя курс лечения в Мариенбаде, но прервал курс лечения для выступления во Франкфурте (13 – 18 августа), последствием стал сильный малярийный приступ. Он жаловался на усталость и полный упадок сил" ["Шлиман, Генрих"].
1883 год. «... 61-летний Шлиман получил травму на верховой прогулке, когда одновременно упал с лошади, а лошадь упала на него. Травмы не помешали ему приехать в Англию, чтобы стать почётным членом оксфордского Куинс-колледжа; 13 июня 1883 года его сделали и почётным доктором Оксфордского университета» ["Шлиман, Генрих"].
Интересно было бы посмотреть на человека, не просто упавшего с лошади, но на которого вдобавок еще и "упала лошадь"!
"...Шлиман чувствовал потребность отдохнуть и развлечься. Он слишком много работал последние годы. Ему пошел седьмой десяток, а в этом возрасте немногие могут похвастаться ежедневным купанием в море и верховой ездой. Он не признавал старческих недомоганий и считал безнравственным болеть. Но все чаще болели уши, мучил желудок, еще в молодости расстроенный голоданием, регулярно возвращались приступы малярии. Он стал раздражителен" [Мейерович М.Л. С. 155].
1885 год. Г. Шлиман «побывал в итальянском Абано, где в грязевых ваннах лечил руку от ревматизма» [Богданов И.А., 2008 б. С. 254].
1886 год. «Посетив Лондон с докладом о раскопках в Тиринфе, Шлиман заболел, а отдых в Остенде привёл к очередному воспалению уха». «...В конце 1886 года заболел воспалением лёгких и мучился болями в ушах» ["Шлиман, Генрих"].
Путешествуя по Египту, при неловкой отдаче ружья разбил себе зубы; "потерял один зуб из четырех оставшихся и повредил все искусственные" [Богданов И.А., 2008 б. С. 257]. (Первый раз информация о травме зубов у Г. Шлимана появляется в его биографиях еще при рассказе о кораблекрушении в 1841 году (был выбит передний зуб) [Штоль. С. 88]).
1889 год. «Состояние здоровья Шлимана стремительно ухудшалось – он оглох на левое ухо, правое болело почти непрерывно, периодически наступала полная глухота. Несмотря на это, холодным и дождливым ноябрём археолог направился в Трою, готовить конференцию, начало которой было назначено на 25 марта следующего года» ["Шлиман, Генрих"].
1890 год. «В апреле 1890 года Вирхов обратил внимание, что в поведении Шлимана появились странности, необъяснимые глухотой. Он заговаривался, стал злоупотреблять гомеровской формулой „Слава Афине-Палладе!“. Шлиман обследовался у врача в Немецком госпитале Стамбула, тот констатировал двусторонний экзостоз. Тем не менее, Шлиман велел продолжать раскопки, которыми руководил Дёрпфельд, копавший в противоположном направлении: от основания холма к его вершине. Из писем следует, что Шлимана мучили галлюцинации, видимо, воспалительный процесс среднего уха перешёл на мозг» ["Шлиман, Генрих"].
"По секрету он признался Вирхову, что у него сильно болят уши. (...) ...И без ушного зеркала видно было, что оба слуховых прохода закрыты большими опухолями. (...) В июле 1890 года раскопки были прерваны до будущей весны. В Константинополе Шлиман пошел к врачу. Тот констатировал опасность, но оперировать не решился. (...) Но глухота и боли все усиливались. (...) Шварц оперировал ему оба уха. Это было 13 ноября.
Операция, как видно, удалась, потому что больной почувствовал себя лучше и на третий день уже писал письма и потребовал заказанное еще до операции арабское издание "1001 ночи". ) "(...) На третьей неделе после операции начались сильные боли. Профессор встревожился. Возможно, что в ране остался осколок кости и теперь дал воспаление.
Еще через пять дней боли прошли. (...) Стоял декабрь, в купе поезда Берлин – Париж дули злые сквозняки. Шлиман не обращал на них внимания, он всю ночь читал сказки Шахразады. Он забыл заложить уши ватой. В Париж он приехал больной. (...) Шлиман поехал в Неаполь. Уши болели невыносимо, продолжать путешествие не было сил. (...)
В стужу и ветер они поехали в Помпеи – любознательный врач и ученый-пациент.
На следующее утро – это было 24 декабря – Шлиман проснулся со страшной головной болью. Он оделся и пошел к своему врачу.
На Пьяцца делла санкта Карита Шлиман потерял сознание. Его подняли. Он не мог произнести ни слова, язык не повиновался ему. Полицейский отвел его в больницу. Молодой ординатор удивился:
– Вы же знаете, мы принимаем лишь тяжелобольных, а этот всего только не может говорить. По-моему, он пьян.
Его потащили обратно в полицию. Он не шел, а волочился: начался паралич правой ноги и руки. В участке его ощупали, но не нашли ни денег, ни документов. Только в одном кармане оказался листочек с адресом врача. Тот немедленно явился, осмотрел больного и пришел в ужас...
Еще раз обыскали Шлимана и в дальнем кармане... нашли набитый бумажник. Полицейские засуетились, мгновенно вызвали карету...
Генрих Сенкевич, польский писатель, сидел в зале отеля "Пьяцца Умберто". В отель внесли умирающего человека. Его несли четверо; голова его склонилась на грудь, глаза были закрыты, руки повисли как плети. Через несколько минут к Сенкевичу подошел администратор отеля и спросил:
– Знаете ли вы, кто этот больной?
– Нет.
– Это – великий Шлиман... (Г. Сенкевич. Письма из Африки, стр. 3-4, СПб, 1902)
Вызванный хирург вскрыл ухо и констатировал воспаление мозга. Трепанировать череп хирург не решился и назначил консилиум.
26 декабря собрались ученые врачи, осмотрели больного и вышли в соседнюю комнату совещаться. Пока они спорили, Шлиман умер" [Мейерович М.Л. С. 173-176].
Главный вывод, который можно сделать, ознакомившись с историей Шлимана-пациента: болезни можно контролировать; болезни не должны мешать активной и продуктивной жизни. Существует вариант игнорирования. Когда такой возможности нет, старайся управлять своим здоровьем и нездоровьем. Как? Веди активный образ жизни, ставь позитивные цели. Проводи больше времени на свежем воздухе. Обеспечивай физические нагрузки; планируй их; устанавливай распорядок дня. Не избегай лечения. В разумных пределах осваивай методы лечения и самолечения.
Предусматривай запасы лекарств.
Наверное, дружба (как дружба Генриха Шлимана и Рудольфа Вирхова) с врачом мирового уровня не помешает.
"Вскоре я увидел охотника, у которого в руках было ружье.
– Послушай, – обратился я к нему. – В кого это ты стреляешь? Нигде не видно ни зверя, ни птицы.
– На крыше колокольни в Берлине сидел воробей, и я попал ему прямо в глаз.
Вы знаете, как я люблю охоту. Я обнял меткого стрелка... Он с радостью последовал за мной" (Э. Распэ. Приключения барона Мюнхаузена).
Если принять во внимание определенные умения Г. Шлимана управлять снами, возможно, имели место ментальные практики управления здоровьем.
Немаловажное значение для поддержания здоровья имело для Г. Шлимана посещение родных мест, личное общение с земляками. В книге Г. Штоля приводятся слова Г. Шлимана, сказанные перед посещением родины в 1883 году: "Я так переутомился, что должен провести в Анкерсхагене по крайней мере весь июль, не думая о работе, иначе машина развалится" [Штоль. С 386].
М. Мейерович пишет о чтении Генрихом Шлиманом перед декабрьской прогулкой по Помпеям сказок из "Тысячи и одной ночи"; одно из самых заметных мест в этом сборнике занимает "Сказка о Синдбаде-мореходе". "В центре повествования – типичный багдадский купец, предприимчивый, любознательный, склонный к риску, но вместе с тем благоразумный... Синдбад – человек действия. Он сознает, что богатство недостижимо без усилий и преодоления опасностей. Богатство – вознаграждение за труд и риск, поэтому, слушая его рассказы, бедняк-носильщик в конце осознает справедливость неравенства в его положении и положении Синдбада-морехода... Автор рассказа преисполнен горячего сочувствия к купеческому сословию. ... Он как бы хочет сказать, что торговля – занятие не только благородное, но и выгодное... Его, как и Синдбада, радуют зрелище стоящих на рейде прекрасно оснащенных кораблей, приятное общество купцов и путешественников, их веселая и беззаботная жизнь на море и та радость, которую они испытывают, возвратившись на родину с обретенным богатством для заслуженного отдыха в кругу друзей и родных" [Фильштинский И. C.17].
"Он начинает с малого, но уже скоро способен снарядить собственный корабль, а в последней сказке легендарного мореплавателя и торговца начинают принимать во дворце самого калифа" [Чиркова Е.В. С.31].
Глава 14. ТВОРЧЕСКИЙ МАГНАТ ГЕНРИХ ШЛИМАН, ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОЭТ АЛЕКСАНДР ПУШКИН, ИННОВАЦИОННЫЙ ТИТАН ГОВАРД ХЬЮЗ:
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ УСПЕШНОСТИ.
Размышления о законах и правилах успеха Генриха Шлимана становятся намного конкретнее при сопоставлении великого археолога с другими историческими фигурами.
После некоторых размышлений и мистических направляющих явлений такими фигурами были выбраны А.С. Пушкин и Говард Хьюз.
Рациональное объяснение такого выбора может выглядеть следующим образом. Генрих Шлиман и российский подданный, и гражданин США; проживал в Москве и Петербурге, а также в Калифорнии. Он и предприниматель, и литератор, историк. Он и испытывал финансовые затруднения, и был богат. Он вырос из мира, устроенного во многом по-феодальному; в пору успешной своей деятельности он напоминает не столько ученых и предпринимателей XIX века, сколько таких цивилизационных деятелей XX и XXI веков, как Говард Хьюз, Илон Маск, Ричард Брэнсон. Г. Шлиману доводилось получать и литературные гонорары, и предпринимательский доход. В его жизни были обстоятельства, способствовавшие и относительно ранней смерти и достаточно длительному умиранию. На хронологической шкале Г. Шлиман размещается между А.С. Пушкиным и Говардом Хьюзом.
Земные пути А.С. Пушкина и Говарда Хьюза завершены; их биографии более или менее известны. Сопоставление Генриха Шлимана, А.С. Пушкина и Говарда Хьюза достаточно логично в ракурсе реализации ими законов успеха.
Сравнивать эти три исторические фигуры – довольно сложная задача.
Я решил сформировать "ключ сравнения", определив в качестве такового так называемый "кризис среднего возраста". Некая логическая аналогия этому понятию содержится в астрологии, которая, основываясь на продолжительности цикла Сатурна, условно делит жизнь человека на две части; соответственно существует астрологическая идея, что у человека имеется две жизни. Предположим условно, что эта "разделительная граница" между "первой" и "второй" жизнями и есть "кризис среднего возраста".
Такой "ключ сравнения" вполне функционален: и у Генриха Шлимана, и у Говарда Хьюза взрослая жизнь отчетливо делится на две части; у А.С. Пушкина завершающий "первую" жизнь кризис оказался завершением жизни в целом...
Применяемый "ключ сравнения" позволяет сформулировать наиболее общие утверждения о сходствах и различиях между этими историческими фигурами.
Генрих Шлиман приобрел доходную парижскую недвижимость и стал посещать лекции в Парижском университете в 1866 году в возрасте 44 лет. До этого, в 1864-1865 годах Г. Шлиман совершил кругосветное путешествие. А еще раньше, в январе 1864 года, вышел в России из гильдейского купечества, объявил о завершении своей коммерческой деятельности. Таким образом, у Генриха Шлимана "разделительная граница" между "первой" и "второй" жизнями может быть условно определена возрастом 42-44 года.
Заметим, что и до 1864 года Г. Шлиман предпринимал попытки "отойти от дел", но по разным причинам они не удавались. Первый раз стремление покончить с делами появилось у него в последний год Крымской войны (1856 г.) примерно в возрасте 34 лет. 1858 году Г. Шлимана постиг "ужас" "торгового кризиса", от которого он "в свои 36 лет поседел", стоя три месяца "на краю пропасти" [Богданов И.А., 2008 а. С. 277].
В письме А.С. Пушкина, адресованном Н.Н. Пушкиной, датированном 20 апреля 1834 года, появляется фраза относительно его сына Александра: "Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет" [Пушкин А.С. Письма]. Завершение жизни А.С. Пушкина датируется 29 января (10 февраля) 1837 года. Таким образом, границу между "первой" (трагически завершившейся) и "второй" (не состоявшейся) жизнями А.С. Пушкина можно условно определить периодом 1834-1837 годов. (Годы жизни А.С. Пушкина: 1799 – 1837).
Считается, что Говард Хьюз родился в 1905 году (существуют несколько вариантов дат его рождения).
"В 1956 году, сообщив своим помощникам, что собирается работать над новым фильмом, Говард заперся в просмотровом кинозале недалеко от своего дома. Там он провёл около 4 месяцев и по свидетельствам близких почти всё время проводил в просмотре фильмов сидя в кресле". "С 1958 года затворника никто не фотографировал и лично никто не брал у него интервью". "...Хьюз путешествовал, проживая в отелях или съёмных домах". "Хьюз не чистил зубы и не мылся и не стриг волосы месяцами. Общение с внешним миром происходило только при помощи записок и изредка телефонных звонков". "29 декабря 1960 года регулирующие органы отстранили Хьюза от управления TWA и лишили права распоряжаться своим пакетом акций (так называемая процедура voting trust)". "В 1962 году журналист Life Томас Томпсон гадал – где вообще находится миллиардер и жив ли он?" ["Хьюз, Говард"].