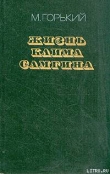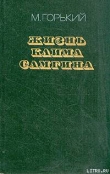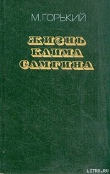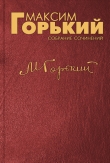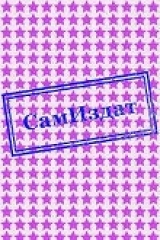
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Земной, молчаливый поклон – погибшим, заочное рукопожатие – революционерам. И стакан каприйского вина за их здоровье. Наверное, есть основания предположить некоторую аполитичность М. Горького. "Пешков не стал "железным" революционером" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Можно ли считать революционером М. Горького, вернувшегося из Италии в сталинскую Россию? Или он более походит на сторонника новой империи? "Клим – "бунтарь поневоле", он помогал революционерам не от веры в революцию, а от страха перед ее неизбежностью. Так он приходит к выводу: "Революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров"" [Нефедова И.М.].
Наверное, для систем независимости Генриха Шлимана и Николая Гоголя общими можно считать: путешествия, аскетизм, перевоплощения, адаптации (адаптивность), лояльность, политкорректность, аполитичность, обход препятствий, движение вперед.
Как это ни странно, то же самое можно сказать и о М. Горьком: в его жизни присутствовали и путешествия, и аскетизм, и перевоплощения, и адаптации (адаптивность), и лояльность, и политкорректность, и аполитичность, и обход препятствий, и движение вперед. Было ли все это системой независимости, выстраиваемой, совершенствуемой, реализуемой? Или (спонтанно сложившимися) обстоятельствами жизни?
И что вкладывать в понятие "независимость"? Наверное, и Генрих Шлиман, и Николай Гоголь вкладывали в понятие "независимость" обретение возможностей реализовать свое предназначение. Что означала "независимость" для М. Горького? "...Полон страстного желания "независимой жизни", мечтал о жизни "без начальства, без хозяина, без унижений"" [Груздев И.А.].
"Но поостыв в эмиграции, он вновь стал посматривать в сторону советской России. Неверно думать, что причиной тому был исключительно финансовый кризис. Недостаток денег действительно начинает сильно омрачать быт соррентинского отшельника, причем главным образом даже не его, а его большой семьи. Семья Горького привыкла жить на широкую ногу. Тимоша любила одеваться по последней европейской моде (во всяком случае, так пишет Нина Берберова, кстати, без тени осуждения). Сын Максим Пешков был страстным автогонщиком. Спортивные машины стоили дорого. Только в СССР он мог позволить себе иметь спортивную модель итальянской "лянчи". Наконец, глава семьи привык жить в почти ежевечернем окружении гостей, за щедро накрытым столом. И не привык считать деньги, настолько, что их от него прятали, по воспоминаниям В.Ф.Ходасевича.
Все это – неограниченный кредит, отсутствие забот о доме и даче, щедрые гонорары и т. д.– Сталин Горькому обещал через "курсировавших" между Москвой и Горьким" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. (Уточним: Тимоша – невестка А.М. Пешкова, жена его сына Максима).
"Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
(...)
– Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем...
(...)
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек."
"Вспоминает писатель Илья Шкапа:
"– Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!"
Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Да, может быть, он, как и Егор Булычов, "не на своей улице жил". Но любил то он многих. И его любили. Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Но не так, как Гоголь, в коляске, с сундучком, а со всей семьей, с врачами. Из Сорренто – в Москву. Из Москвы – в Сорренто. И еще – Горки. И еще – Крым, Тессели. Потом Сталин запер его в СССР. "В Крыму климат не хуже". И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море "смеется" под солнцем, остался вдали навсегда" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальной стороне,
О чудной ночи, о луне..."
Как-то трудно представить запертого Генриха Шлимана, особенно во второй половине жизни. Да и в первой... (Фюрстенбергская лавка?).
Николая Гоголя теоретически можно представить запертым. Но практически... С множеством дружеских открытых домов, в которых он периодически гостил... Учитывая всех тех, кто его поддерживал и ценил его дружбу, творчество... Учитывая его осторожность и умение держать дистанцию, выстраивать отношения... Наконец, учитывая мистическую дружескую поддержку от друга Александра и от успевшего познакомиться с Н. Гоголем Михаила, отчасти защитивших писателей своими жизнями (смертями) и своим творчеством... Другой вопрос: воля обстоятельств, осознание Н. Гоголем выполненного предназначения..., собственное, личное решение...
Закон успеха: "Намереваешься лить воду на свою мельницу? Определи, нужно ли это твоей мельнице, когда и куда лить, и сколько у тебя воды для этого мероприятия, каковы источники ее поступления. Сформулируй пользу!"
15.6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ.
Эффективность системы персональной независимости в каких-то конкретных единицах измерить затруднительно. В какой-то мере важность такой системы иллюстрируется сопоставлением судьбы Н. Гоголя с действиями и судьбой выдающегося мыслителя П.Я. Чаадаева (одного из первых русских мыслителей-геополитиков). (Напомним: «„Публикация в 1836 году первого из „Писем“ вызвала настоящий скандал и произвела впечатление „выстрела, раздавшегося в темную ночь“ (Герцен), вызвала гнев Николая I, начертавшего: „Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного“. Журнал „Телескоп“, где напечатали „Письмо“, был закрыт, редактор сослан, цензор уволен со службы. Чаадаева вызвали к московскому полицмейстеру и объявили, что по распоряжению правительства он считается сумасшедшим“ [»Чаадаев П.Я."]).
Сам Максим Горький как-то отметил: ""При представлении императору Николаю Первому инженеров в 1836 году Бутурлин отозвался о них с большой похвалой и об одном капитане, что он, кроме того что усерден, очень ученый инженер. Император на это отвечал, что ему ученых не нужно, а нужны исполнители". Это из воспоминаний А. И. Дельвига "Полвека русской жизни"".
(Впрочем, Жизнь, то есть Крымская война (1853-1856), расставила все по своим местам, и показала, кто генерировал "бессмыслицу").
П.Я. Чаадаев "еще в 1837 г. в "Апологии сумасшедшего" проводил параллель между своими "Философическими письмами" и гоголевским "Ревизором": "...Капризы нашей публики удивительны. Вспомним, что вскоре после напечатания злополучной статьи <...> на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани и однако никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет?" (...). (...) Сочинитель "Ревизора" вошел в еще большую славу, а на автора "Философического письма" обрушилась жестокая кара, причем в обоих случаях при прямом участии императора. И это притом, что одно произведение – плод долговременного и пытливого анализа, основанного на глубочайших знаниях, на огромной начитанности, а другое (с точки зрения Чаадаева) – грубое пересмеивание и фарс" [Манн Ю. В. С. 621-622].
Системы персональной независимости стали важными факторами успешности и Г. Шлимана, и Николая Гоголя.
Г. Шлиман успешно перешагнул порог кризиса среднего возраста, раскопал древнюю Трою, стал основоположником Микенской археологии.
Успехом Гоголя были его написанные и опубликованные произведения, благополучно – в целом – сложившаяся жизнь.
Максим Горький имел основания, как представляется, похвалиться и высоким уровнем независимости, недостижимым для большинства его современников, и длительными периодами независимой жизни.
ГЛАВА 16. СЕМЬЯ? ЯЧЕЙКА? ЯВКА?
О семье, семейных отношениях Гениха Шлимана свидетельствует его письмо, написанное жене Софии незадолго до смерти. «...Судьба уготовила нам много печалей и много радостей. (...) По-моему, наш брак удался. Ты всегда была для меня любящей женой, добрым товарищем, неизменно поддерживала меня в трудную минуту ... ты была отличной матерью. Я ... уже готов жениться на тебе в следующей жизни» [Богданов И.А., 2008 б. С. 263]. Судя по биографическим источникам, с детьми и от первого, и от второго брака у Генриха Шлимана были отличные отношения. Родственники Софии помогли Г. Шлиману сохранить «клад Приама» в период между моментом нелегального вывоза золотых артефактов из Троады и до момента принятия решения судом и последующего восстановления отношений сотрудничества Г. Шлимана с Османской империей. Судя по биографическим источникам, семейная жизнь Генриха Шлимана во втором браке была счастливой. Новый дом в Афинах, дворец, прибавлял положительных эмоций. София дожила до 1932 года (она была на 30 лет моложе Генриха), не вступив в новый брак. Похоронена в том же мавзолее в Афинах, в котором похоронен Генрих Шлиман.
Семьей Н. Гоголя на всю жизнь остались его мать и сестры; относился к такому развитию событий Н. Гоголь философски,.. У каждого своя судьба. И у каждой семьи своя судьба. Пройдет время, потомок семьи Гоголей породнится с внучкой А.С. Пушкина. ("Наша" Наталья Николавна?)
"В августе 1896 года Горький венчается с Екатериной Павловной Волжиной. Екатерина Павловна была дочерью небогатого помещика, который, разорившись, стал управляющим чужих имений. Семья нуждалась в деньгах, и после окончания гимназии Катя работала корректором в "Самарской газете". Живая, веселая, скромная и сердечная, Катя имела много поклонников, но любила "Иегудиила Хламиду", к огорчению родителей, которых пугала разница в возрасте (восемь лет), прошлое Горького и разница в образовании (Катя окончила гимназию с золотой медалью).
"Благодаря Алексею Максимовичу я увидела и узнала бесконечно много. Мне иногда кажется, что я прожила не одну, а несколько жизней, и все они были удивительно интересны", – говорила она" [Нефедова И.М.].
"В жизнь Горького входит Мария Федоровна Андреева. "Я женился церковным браком в 1896 г. и через семь лет по взаимному согласию с женой мы разошлись, – писал Горький в 1906 году. – Церковный развод обставлен в России столь унизительными и позорными формальностями, что мы его не требовали и нужды в нем по условиям русской жизни не имели. С первой женой мы сохраняем добрые отношения, она живет на мои средства, и мы встречаемся как друзья. Со второй женой живу гражданским браком, принятым в России как обычай, хотя и не утвержденным как закон".
Мария Федоровна Андреева, дочь главного режиссера Александринского театра, одаренная от природы умом, талантом и красотой, была актрисой МХТа и первой исполнительницей роли Ирины в чеховских "Трех сестрах" (ее знакомство с Горьким произошло в Крыму, когда МХТ приезжал к Чехову).
Но не только артисткой была Мария Федоровна. Член большевистской партии – характерна ее партийная кличка "Феномен" – она хранила нелегальную литературу, доставала документы, собирала средства для партийной работы" [Нефедова И.М.].
"Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?"
«Положение жены действительного статского советника (статского генерала) – брак фактически прекратился в 1896 году, – вхожей в дом московского генерал-губернатора, позволяло ей до поры до времени оставаться вне подозрений со стороны царской охранки. В ее квартире скрывался от полиции Н.Э. Бауман; она была переводчицей при встрече Ленина с Каутским в 1907 году» [Нефедова И.М.].
"Ягода был почти свой в доме писателя. Недаром Липа всесильного руководителя карательных органов, от одной фамилии которого трепетала вся страна, называет панибратски: Генрих" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
О сыне Горького, Максиме, И.М. Нефедова пишет: "Член партии большевиков с апреля 1917 года, Максим Пешков активно участвовал в строительстве новой жизни: был заместителем коменданта Кремля, работал в ЧК, ездил за хлебом для Москвы в Сибирь, не раз бывал у Ленина" [Нефедова И.М.].
Закон успеха: "Сохраняй семью, иначе семья может перестать быть семьей!"
ГЛАВА 17. «ПЕРЕХВАТ» УСПЕХА.
17.1. ПОДВИГ ГЕРАКЛА.
И Генрих Шлиман, и Николай Гоголь были людьми успешными. Объективная реальность такова, что значительное число успешных людей сталкивается с попытками «похищения», «перехвата» успеха (некоторые формы такой практики именуются сегодня гринмэйлом, рейдерскими захватами). С попытками «похищения», «перехвата» успеха имели дело и Г. Шлиман, и Н. Гоголь. Относились они к таким попыткам по-разному.
Судя по письмам и дневникам, Генрих Шлиман активно анализировал и прогнозировал свою жизнь, выходил на обобщения. Существование жизненных сценариев "неуспешности" (вообще) и "похищения" успеха (в частности), по-видимому, не было для Г. Шлимана секретом. Примером может быть высказывание в одном из его писем в Россию, отосланном 26 января 1868 года: "Судя по большим его умственным способностям, он создан был для блистательного поприща, но по странному капризу судьбы он – несмотря на неутомимые работы свои – должен был провести всю жизнь свою в проектах несбыточных или неудачных" [Богданов И.А., 2008 б. С.184-185].
Не зря существует поговорка – в общем, верная, – предупрежден, значит, вооружен.
Любопытны – в этом плане – обстоятельства, последовавшие за пробными (противоправными) раскопками Генриха Шлимана на холме Гиссарлык (месте расположения Трои); в силу отсутствия разрешения Османской администрации и возражений местных жителей-собственников земельного участка эти пробные раскопки продлились совсем не долго: с 1 по 22 апреля 1870 года. "...Шлиман оповестил через германские газеты о результатах своих первых раскопок. Он не без доли хвастовства сообщал на страницах газет о том, что действовал без разрешения" Османской администрации. Калверт (тоже копал, стремился к отысканию Трои, задолго до Г. Шлимана стал участником троянских археологических интересов) прореагировал: "Я не могу не сообщить вам, что, по моему мнению, вы поступили крайне неразумно, начав хвалиться тем, чего вы добились. Теперь нам всем придется считаться с последствиями и запрашивать разрешение повторно, дождавшись, пока правительство поостынет" [Вандерберг. С. 256-259]. Калверт сам, своей рукой пишет: "тем, чего вы добились". А ведь это еще не раскопки Трои как таковые, это лишь археологическая разведка. Далеко, глубоко смотрел Генрих Шлиман.
Объем самых разнообразных забот и отвлекающих обстоятельств при раскопках Г. Шлимана в Троаде (1871-1873 годы) был таков, что для открывателя Трои было бы вполне естественно "заглубиться" в терриконы текущих ежедневных проблем: где, как, кому, сколько копать, что подлежит транспортировке, отправке, приемке, что с продуктами питания, питьевой водой, лекарствами, готовкой пищи, кто болен, как лечить, сколько и кому платить, какие вопросы у Османской администрации и прочее, прочее, прочее. Да еще при перемещениях грунта наемными рабочими стараться не упустить археологические артефакты.
Однако деятельность Г. Шлимана выглядела несколько по-иному. Он, конечно, решал текущие проблемы. Но, одновременно, от него различным лицам, в редакции газет шел поток телеграмм, он составлял отчеты, писал заметки, статьи, книги. Количество перешло в качество: те раскопки, которые производились, оказались неразрывно связаны с его именем. Генрих Шлиман в итоге титанических усилий решил непростую, почти невыполнимую, задачу. Можно сказать, совершил подвиг Геракла в области микенской археологии: закрепил авторство и научный приоритет на археологический результат. И когда возникла недолгая постмикенская ситуация (Г. Шлиману затруднили доступ к находкам (им отысканным), что затормозило их широкое "опубликование"; стал фактом "перехват" инициативы и продолжение раскопок на "освоенном" уже месте греческим смотрителем, ранее состоявшим при Г. Шлимане, смотрителем, сумевшем также добиться успехов (!)), когда стало еще более ясно, как велик риск быть оттертым, отжатым, преданным забвению, забытым, как велик риск "перехвата" и переадресации шлимановских археологических результатов и достижений людям, малопричастным или непричастным к основному объему расходов, работ и забот – вот тогда весь тот предусмотрительный титанический труд Генриха Шлимана по закреплению успеха сработал и дал свой результат [Стоун. С. 365-366, 370-371], [Вандерберг. С. 508], [Штоль. С. 298]. Ситуация по "перехвату" успеха становилась скандальной, дурно пахнущей, и возникло ощущение, что она обернется против тех, кто эту ситуацию инициировал. В итоге ситуация разрядилась, а авторство Генриха Шлимана на археологический, научный успех осталось несомненным.
17.2. «НАСТОЯЩИЙ РЕВИЗОР».
В жизни Н. Гоголя ситуация «перехвата» успеха также случилась, но она и выглядела, и разрешилась по-другому.
""Санкт-Петербургские ведомости" от 19 апреля 1836 г., ╧ 86. В разделе "Зрелища" сообщается: сегодня "на Александринском театре, в первый раз, Ревизор, оригинальная комедия в пяти действиях...". " К 7 вечера "зала наполнилась блистательной публикою, вся аристократия была налицо" (...). Были крупные чиновники: военный министр А. И. Чернышев, министр финансов Е. Ф. Канкрин, член Государственного совета П. Д. Киселев... Литераторы: Вяземский, Жуковский... По сведениям, исходившим от К., то есть, очевидно, А. А. Краевского, приехал шестидесятисемилетний И. А. Крылов, домосед, который редко показывался в обществе. Было много молодежи, в том числе И. С. Тургенев, в ту пору студент С.-Петербургского университета. Неожиданно приехал Николай I с восемнадцатилетним сыном, будущим царем Александром II. "Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души"" [Манн Ю. В. С. 406].
Царь был доволен. По свидетельству некоторых очевидцев он сказал: "Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!" [Труайя А. C. 209].
Успех? Успех!
После премьеры "Ревизора" "интерес к нему не ослабевал. "На четвертое представление (28 апреля) нельзя достать билетов", – сообщал Гоголь М. Щепкину. Всего в сезон 1836/1837 года комедия шла 26 раз. Это намного больше любой другой новой пьесы: занимающая второе место переводная комедия В. Каратыгина "Кин" шла 11 раз ..." [Манн Ю. В. С. 420].
Прошло немного времени, почти-что три месяца, Гоголь отправился за границу.
"14 июля 1836 г., когда Гоголь уже покинул Россию, в Михайловском театре в Петербурге состоялась премьера пьесы, написанной по мотивам "Ревизора" (...). И так же, как гоголевская комедия, эта пьеса сразу же вышла отдельным изданием: "Настоящий ревизор, комедия в трех днях или действиях, служащая продолжением комедии: Ревизор, сочиненной г. Гоголем" (СПб., 1836)" [Манн Ю. В. С. 418].
Неплохо сработал "перехватчик успеха"!
Ситуация неуловимо напоминает раскопки Трои: "до", "в период" и "после" Г. Шлимана. Попробуй разберись. Кто раскапывал и раскопал Трою. Или ситуацию, связанную с раскопками Микен. Успеха ведь добился после Г. Шлимана и начавший раскопки на уже разведанном и "прославленном" месте смотритель, ранее состоявший при Г. Шлимане. Еще надо разобраться, чья заслуга микенские археологические успехи.
Что-то аналогичное и с "Ревизором". Саму российскую систему ревизий "придумал" (во всяком случае, широко внедрил) император Николай I. Да была такая "пьеска": "Ревизор". Как-то сразу не вспоминается, кто автор... Давайте лучше поговорим о "настоящем ревизоре". Хорошее, эпохальное дело начал государь император Николай I, организовав ревизии. Даже в театре об этом ставят пиески. Вот "Настоящий ревизор!" – как здорово написано, поставлено, сыграно!
"В 1837 г. наследник престола будущий император Александр II в сопровождении ряда лиц (в том числе своего воспитателя В. А. Жуковского) совершал большое путешествие по России. При этом в своей переписке и сам путешественник и его августейший отец обращались к воспоминаниям о "Ревизоре", на премьере которого несколькими месяцами раньше оба они присутствовали..."; "...любопытно, что в переписке с наследником имя автора "Ревизора" ни разу не было упомянуто; словно пьеса существовала сама по себе..." [Манн Ю. В. С. 416-417].
Что же это за "Настоящий ревизор" (автор называется в литературе лишь предположительно; и странная и не странная загадка).
"Главная его особенность – беззастенчивая эксплуатация приемов и мотивов произведения, вошедшего в моду" [Манн Ю. В. С. 418]. То есть – эксплуатация Гоголевского "Ревизора".
Не плохо был выбран и момент. Гоголь за границей. Да и что он мог бы сделать? Протестовать? Перед кем? Впрочем, не такой уж и плохой вариант: вместо писателя Н. Гоголя (Гоноля? Гогеля?), некий сомнительный коллежский асессор Гоголь, увязнувший в конфликте по поводу театральных склок (в этом есть свое изящество; дуэль или отправка рядовым на Кавказ либо в Закаспийскую область – все же, прямолинейно и очевидно). (Проступают очертания современного метода "управляемого конфликта"). Объективно вряд ли Н. Гоголь мог лично противостоять "Настоящему ревизору": и в силу своего отсутствия в России и в силу существовавших юридических и общественных условий. Разве только продолжением своего творчества.
Однако вмешались обстоятельства иного порядка. Не зависящие ни от кого конкретно.
""Настоящий ревизор" с треском провалился. Всего было три спектакля: помимо премьеры 14 июля на Михайловской сцене, 15 июля – в Александринском театре и 27 июля – вновь в Михайловском совместно с гоголевским "Ревизором". После премьеры А. И. Храповицкий записал в дневнике: "Г. настоящего ревизора ошикали. Туда ему и дорога! Такой галиматьи никто еще не видал" (...). А по поводу последнего спектакля сделал надпись на афише: "Надоела! И это мнение всех зрителей и актеров. Пороть сей сумбур!" (...). И никто не предпринял малейших усилий поддержать пьесу, продлить ее мотыльковый век..." [Манн Ю. В. С. 419-420].
Впрочем, мода переменчива, все могло пойти и по-другому... "Переводная комедия В. Каратыгина": ее сейчас никто не помнит; а в гоголевские времена случалось бывать на втором месте по популярности. И мода, и публика, и пристрастия переменчивы... Но не подхватил ветер успеха "Настоящего ревизора"...
И у Г. Шлимана, и у Н. Гоголя "перехват успеха" был элементом судьбы. Г. Шлиман системной деятельностью закрепил успех за собой; имела место и помощь Свыше. Что касается Н. Гоголя, то "тут уж так вышло": в его случае его авторство на успех было закреплено его талантом и тем Незримым, кто писал перед ним могущественным жезлом [Труайя А. С. 241].
17.3. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ПОХИЩЕНИЮ УСПЕХА».
Имело ли место «похищение успеха» в жизни М. Горького?
Зададим встречный вопрос: а был ли успех? Вопрос звучит странно, но тем не менее...зададим его.
Казалось бы очевидны факты: выдающийся писатель, всемирная слава.
Но если вдуматься, то его главным личным успехом стал статус удачливого писателя. Подросток, парень, которого пыталась, да не сумела "убойным" физическим трудом и давящим бытом сокрушить социальная среда, выдающийся пешеходный путешественник, в какой-то момент стал литератором (феноменально работоспособным и продуктивным), подхваченным гигантской волной оппозиционности, способным жить – и не плохо – на доходы от своего творческого труда. Эта та часть личного успеха, которую и похитить-то сложно.
На этом фундаменте личного качественного скачка М. Горький построил довольно-таки многообразную систему щедрости. Наверное, в эту "систему щедрости" можно включить и "открытый дом", и "открытый стол", и "открытую протекцию" (общую и политическую), и "открытый приют" (и творческий, и бытовой). Представим себе "злоумышленника", который задумал втайне отвинтить гайки у босяцкой или мещанской или иной аналогичной литературной темы М. Горького. А стоит ли напрягаться? Напиши – если не сам, то с помощью кого-то – некую рукопись и иди к М. Горькому. Он помогает молодым, начинающим. Чего там "похищать", сам отдаст...
"К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжко больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом. Лично я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей словесности" [Чуковский К. Горький].
"...Когда в шестнадцатом году один начинающий автор принес мне свое сочинение, написанное чрезвычайно безграмотно, я вернул ему его рукопись как безнадежную. Он снес ее к Горькому. Горький сказал мне через несколько дней:
– Свежая, дельная, хорошая вещь.
Я глянул в эту рукопись: почти каждая строка оказалась зачеркнутой, и сверху рукою Горького написана новая" [Чуковский К. Горький].
На таком фоне актуальность, да и эмоциональная привлекательность, попыток "похищения успеха" как-то обнулялись.
За словом "удачливого" ("статус удачливого писателя") стоят и талантливость, и колоссальная работоспособность, и плодовитость, и умение попасть "в тему", "в момент", "в настроение". М. Горьким написаны хорошие с литературной точки зрения произведения. Все же гением писательского мастерства, мастером слова М. Горького назвать трудно. Вслушайтесь: "птица-тройка"... "чуден Днепр"... Если взять по отдельности, то всего – два слова. Но они создают вибрации в пространстве... Не "разошлось" литературное творчество М. Горького в крылатые слова, в "я с Пушкиным на дружеской ноге", не разлетелось на вибрациях гениальности по всей вселенной подобно гоголевским маниловым, ноздревым, собакевичам, хлестаковым и другим. Где-то там "реет буревестник", но как-то не видно желающих – тех, кто хочет, чтобы к ним этот буревестник залетел. Наоборот, окна закроют. Были времена, добросовестно шагали пешочком по просторам дореволюционной России все эти несчастные "жертвы режима", кому-то интересно было выйти на дорогу и осмотреть их... "Зачем ты всё о страшном пишешь?"– спрашивал Алексея его двоюродный брат Саша, сын дяди Михаила, бродяга, босяк, созерцатель, фанатик свежего волжского воздуха и пленительных волжских пейзажей (см.:[Басинский П.В. Страсти по Максиму]). Писательский успех, писательская слава М. Горького были несомненными, но они были весьма ситуативными; особых попыток похитить писательский успех М. Горького как-то незаметно.
Ради справедливости отметим, что некоторые высказывания М. Горького, видимо, импонировали его читателям. Например, М. Горький писал: "Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется... А ты сделай усилие – перевернись! (...) Философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я ведь умником себя не считаю... Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно" (М. Горький. "Мещане"). У В. Гиляровского, например, один из (реально существовавших) персонажей говорит: "Надо человеку перевернуться дать" [Гиляровский. 1999, а].
Сила М. Горького была в том, что он играл сразу на нескольких – многих – досках.
Он писатель, но не только. Он и политик, политический функционер, политический активист.
Как политик общедемократической направленности, сторонник конституционализма ("его кандидатуру в Учредительное собрание выставили интернационалисты Полтавы и Кишинева" [Нефедова И.М.]), он, конечно, мог задуматься о "похищении успеха", политического.
Однако одновременная игра сразу на нескольких досках, способность суммировать не поражения (пусть и частичные), а выигрыши (разновременные и разного масштаба и характера), создали эффект "накопления успешности", "мозаичного успеха". А в такой игре не было проигравших, выигрыши получали и чемпион, и занявшие второе, третье и многие другие места. Похитить "мозаичный успех" было практически невозможно. Уровень ловкости должен был быть соизмерим с масштабом жизненных сил и удачливости Максима Горького. Над наивными попытками (в том числе и успешными) облегчить его карманы Горький смеялся. ("Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера" [Ходасевич В.Ф.]). Итальянцы, местные жители, знали Горького: кем он был и кем он стал. Возможно, М. Горький думал – мыслями этих людей – "почему если мне – "можно", то им – "нельзя"?" И (доброжелательно, может быть – удовлетворенно) хохотал при этом. Признание – оно ведь бывает разным!
Из "системы щедрости", "одновременной игры на нескольких досках", "накопления успеха", "мозаичного успеха", – наверное, невольно, бессознательно – сформировалась система горьковского противодействия "похищению успеха".
Закон успеха: "Осознай, что в твоей жизни могут появиться попытки похищения твоего успеха. Будь готов!"
ГЛАВА 18. ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ.
18.1. ЛИНЬ В МЕКЛЕНБУРГЕ, ФИНАНСОВЫЙ КИТ В ГЕЛЛЕСПОНТЕ.
Johann (Иоанн?) Ludwig Heinrich Julius Schliemann – полное имя Г. Шлимана.
Для рассмотрения "энергии имени" применительно к судьбе Генриха Шлимана отметим следующие варианты:
(1) Юлий (основная ассоциация – Юлий Цезарь),