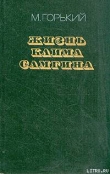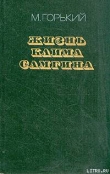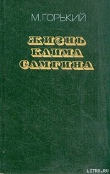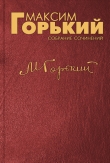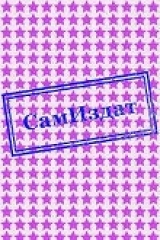
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
"Он любил после гулянья бродить по берегу Москвы реки; заходил в купальню и купался" [Смирнова-Россет А.О. C. 40].
"Пешков отправился в Тулу – частью на тормозных площадках, частью пешком. В Ясной Поляне Толстого не оказалось – Софья Андреевна напоила бродягу кофием и сообщила, что муж ушел в Троице-Сергиеву лавру. Тоже пешком. Поразительно много бродила тогдашняя интеллектуальная Россия, словно надеясь уморить себя ходьбой до такой степени, чтобы выдуло из головы мучительные мысли. Вероятно, это и называется интеллектуальным брожением" [Быков Д.Л.].
""Физические усилия, быстрая ходьба запрещены ему, – пишет Алексей Толстой о Горьком этих лет. – Сердце его и без того нагружено ежедневной работой. Часов в пять дня обыкновенно Алексей Максимович не спеша идет в парк и там бродит между соснами; прямой, сухопарый, с широкими плечами, в сером пиджаке, в пестрой тюбетейке. Висячие усы его нахмурены...
На клумбах раскрылись и пахнут белые цветы табака. За Москвой-рекой, на лугах не видно тумана. Алексей Максимович, опустив усы, не торопясь, идет к тому месту, где собраны кучки хворосту. Поджигает костер. Стоит насупившись, глядит, как пляшет огонь, – искры уносятся вверх сквозь дрожащую листву, в ночь. В глазах его, серо-синих, – большое удовольствие" [Нефедова И.М.].
"С трех до пяти часов в любую погоду, в любое время года Горький работал в саду – копал клумбы, выкорчевывал пни, убирал камни, корчевал кустарник, подметал дорожки, умело использовал естественные источники, не давая им без пользы стекать в овраги. Скоро сад был приведен в порядок, и Алексей Максимович этим очень гордился" [Нефедова И.М.].
""Правильное чередование умственных и физических занятий возродит человечество, сделает его здоровым, долговечным, а жизнь радостной... – говорил он. – Пусть родители и школа привьют детям любовь к труду, и они избавят их от лени, непослушания и прочих пороков. Они дадут им в руки самое сильное оружие для жизни"" [Нефедова И.М.].
"В минуты физической работы, говорил писатель, в голову приходят такие мысли, рождаются такие образы, которые, сидя за столом, не поймаешь часами" [Нефедова И.М.].
"Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г.А. Пеширов (кстати, приглашенный на работу именно Максимом, который лично устраивал жизнь отца на даче в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: "Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, своими руками расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. – П.Б.), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что A.M. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
12.7. УНИВЕРСИТЕТЫ, ИНСТИТУТЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, РЕДАКЦИИ, МУЗЕИ, КОЛЛЕКЦИИ.
Гениальность Н. Гоголя общепризнана. Читатели его произведений могут составить каждый свое суждение по этому поводу. Но вот дополнительное соображение: приехавший в Петербург после окончания гимназии Н. Гоголь, не откладывая, направляется к гениальному А. Пушкину. Проходит время, Н. Гоголь, известный, прославленный писатель, публикуя «Мертвые души», «приглашает к себе» ... всех. А вот никто не приходит. И это при том, что откликнувшись на просьбу, приглашение Н. Гоголя, вступив с ним в переписку, написавший ему имел возможность не только получить шанс стать крупной или не крупной литературной фигурой, но и изменить собственную жизнь к лучшему (об этом более подробно при обсуждении темы «кармическое влияние Гоголя»).
Едва приехавший в Петербург и спешащий к Пушкину Н. Гоголь...(без приглашения). И "не пришедший" к Н. Гоголю "Никто"...(при наличии приглашения). Если – само по себе – не свидетельство гениальности, то, по меньшей мере, особого склада личности.
Генрих Шлиман создал своего рода Международный частный Университет заочного обучения археологии и древней истории (обучающий через прессу и посредством научных публикаций, медиасобытий, неискушенные в археологии и древней истории массы европейского населения). Однако он не приглашал широкие слои публики на места своих раскопок. Если для раскопок на месте Помпей, Геркуланума, в Афинах массовые посещения публики были реальностью, то иными были ситуации в Трое и Микенах.
Николай Гоголь приглашал к участию в литературном творчестве широкий круг читателей...
"Уже в предисловии ко второму изданию первой части "Мертвых душ" он обращается ко всем читателям с призывом поделиться с ним какими-либо заметками, впечатлениями, описаниями черт национального характера, событий, относящихся к русской жизни. (...) К его огромному удивлению, никто не ответил на его просьбу" [Труайя А. С. 503-504].
Некоторые его (Н. Гоголя) усилия не остались без полезного результата.
В 1847 году он написал С.Т. Аксакову: "Может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь для головы моей, положим, хотя бы написанием записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропускать в моем творении. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что же делать, если я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас" [Труайя А. С. 502].
"Смирновой ... он давал еще более четкие инструкции. Если она верила его слову и в его талант, она должна была во всех письмах к нему набрасывать портрет человека из своего окружения" [Труайя А. С. 504-505].
Что дальше?
"Мемуарно-биографическая трилогия Аксакова заняла в истории русской литературы важное место. Она получила восторженный приём и от читателей, и от критиков. Последние отмечали новизну формы составляющих трилогию произведений и их роль в будущем развитии жанровой прозы в России. Аксакова, наряду с Гоголем и Тургеневым, приводил Лев Толстой в одном из вариантов предисловия к "Войне и миру" как иллюстрацию того, что русская художественная мысль находит для себя новые формы, не укладываясь в традиционные рамки романа" ["Аксаков С.Т."].
В 1989 году опубликована книга: Смирнова-Россет А.О. "Дневник. Воспоминания". Общий объем книги (с примечаниями, сопроводительной статьей) – 790 страниц. Серия "Литературные памятники". Неплохой пример литературного труда.
(В этом дневнике есть любопытное упоминание Александры Осиповны о николаевской армии: "Я раз слышала ужасный крик у гауптвахты. Несчастный рядовой кричал: "Ваше высокоблагородие, за то, что одна пуговица худо пришита, 500 розог!"" [Смирнова-Россет А.О. C. 114]).
С долей условности и, несколько гиперболизируя, можно говорить о попытке Н. Гоголя создать Литературный институт, пусть и заочный (быть может, ему вспоминался его приезд в Петербург, попытка сразу же увидеть Пушкина, те непростые ситуации, которые возникли у недавнего выпускника гимназии в столичном городе. ("Полезли". То есть, "полезло"). Наверное, для организации Литературного института время еще тогда не пришло.
Можно ли в таких обращениях Н. Гоголя "ко всем" увидеть некоторый прообраз опроса общественного мнения? Наверное, да.
"Этой книжной мудростью Пешков пропитался не меньше, чем пылью нижегородских улиц и волжскими далями, песнями дяди Якова и матерщиной дяди Михаила, сказками бабушки и рассказами дедушки. И все это вместе, от первого бычьего мосла, подобранного на помойке, до первой прочитанной философской книги, можно считать "университетами" Горького" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"По инициативе Горького был создан Литературный институт – единственное в мире учебное заведение для подготовки писательских кадров. Институт существует и сейчас. Со дня основания он носит имя Горького" [Нефедова И.М.].
Кроме Литературного института, Максим Горький продвигал многочисленные проекты, связанные с изданием книг, журналов. Журнал "Жизнь", издательства "Знание", "Парус", "Всемирная литература", журналы "Литературная учеба", "За рубежом", "Литературная учеба", "СССР на стройке", серии книг: "История молодого человека XIX столетия", "Библиотека поэта", "Жизнь замечательных людей".
"Вместе с А.В.Луначарским Горький был инициатором создания Музея революции, которому передал ряд материалов" [Нефедова И.М.].
"Общее собрание Академии наук СССР 24 марта 1934 года единогласно избрало Горького директором Пушкинского дома (Института русской литературы) в Ленинграде – научного учреждения, занимающегося изучением русской и советской литературы и изданием академических (наиболее полных, научно проверенных и комментированных) собраний сочинений русских классиков; при Пушкинском доме есть Литературный музей, где представлены портреты и издания произведений крупнейших русских писателей, их личные вещи; в богатейшем архиве института хранятся рукописи писателей" [Нефедова И.М.].
""Я же не человек, я – учреждение", – сказал как-то, шутя, о себе Горький, и в этой шутке было много правды. Председатель правления Союза писателей, он кроме обязанностей руководителя советских литераторов редактировал журналы, читал рукописи, был инициатором десятков изданий, писал статьи, художественные произведения... (...) Седьмой десяток лет шел Горькому, но его энергия была по-прежнему неуемной" [Нефедова И.М.].
Финансовые возможности Н. Гоголя отличались от возможностей коммерсанта Г. Шлимана, ставшего миллионером.
Генрих Шлиман был склонен к коллекционированию; в особенности, к коллекционированию археологических артефактов.
Отчетливых свидетельств о составлении Николаем Гоголем заметных коллекций автор не встретил.
Максим Горький "был страстным, но странным коллекционером: в отличие от собратьев по увлечению щедро раздавал свои собрания. Так, много картин, среди них работы Левитана, Кустодиева ("Русская Венера", "Купчиха, пьющая чай"), Рериха, Поленова, Рылова, Нестерова, Васнецова, он передал в музей родного города, коллекцию старинного оружия подарил Ф.И.Шаляпину" [Нефедова И.М.].
12.8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
И Генрих Шлиман, и Николай Гоголь, и Максим Горький занимались благотворительностью. В книге В.В. Вересаева, например, приводится пример передачи Гоголем денег Плетневу «с оказией».
"Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычною своею добродушною важностью сказал: "Как видите, он и здесь верен себе; это – его обычное, с оказиями, пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия". А.И. Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета" (См.:[Вересаев В.В.]).
В биографиях и Г. Шлимана, и Н. Гоголя можно – наряду с благотворительностью – увидеть и определенную экономность по отношению к близким. Вряд ли это от скупости, скорее, из беспокойства за их будущее; своего рода тренировка аскетизма.
"Горький был щедрым и отзывчивым человеком, постоянно помогал нуждающимся, и "к моменту выдачи жалования или гонорара для него в кассе оставалось больше приятельских расписок, чем наличных", – вспоминает заведующая редакцией. С этих пор у него появилась страсть – помогать другим, дарить людям приглянувшиеся им вещи – особенно книги" [Нефедова И.М.].
"Сам он проживает не больше 30% всего, что зарабатывает, остальное отдавал на разные дела..." (См.:[Нефедова И.М.]).
ГЛАВА 13. ТАЛАНТ ОТ ПРИРОДЫ, КАПИТАЛОЕМКОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
Николай Гоголь некоторое время работал преподавателем, сотрудничал в журнале, был журналистом. Судя по его клятве, названной «1834», достаточно рано осознал свое предназначение писателя, пророка, и «не разбрасывался». Его жизнь сосредоточилась на литературном творчестве.
У Генриха Шлимана и Максима Горького проявляется такое качество как многофункциональность.
Генрих Шлиман: коммерсант, организатор банка по скупке золота в Калифорнии, путешественник, писатель, журналист, археолог, коллекционер, специалист по недвижимости, специалист по бюджетированию, финансист, рантье, организатор музеев, деятель общественной археологической дипломатии, цивилизационный деятель... В Троаде он выполнял отдельные функции врача.
В одной из фраз Д.Л. Быков перечисляет ряд профессий, функций М. Горького: "(...) и как раз такая композиция изобличает в бывшем столяре, грузчике, красильщике, бродяге, хлебопеке, бурлаке, строителе, стороже, репортере и проч. недюжинную литературную изощренность" [Быков Д.Л.].
Этот перечень можно продолжить и перечислить дополнительно такие профессии, функции М. Горького как: журналист, корреспондент, фельетонист, драматург, поэт, издатель ("Новая жизнь"), редактор ("Знание"), политический, общественный деятель, правозащитник, пешеходный путешественник, рыбак (рыбак-любитель), коллекционер, меценат, благотворитель...
Отметим дар мыслителя у Максима Горького.
Его размышления насчет "скептицизма невежества", о "глупости" интеллекта выглядят весьма меткими и глубокими. "Для интеллекта процесс творчества важен сам по себе; интеллект глуп, как солнце, он работает бескорыстно" [Горький М. О русском крестьянстве]. ""Познание – инстинкт, такой же, как любовь и голод", – писал он" [Нефедова И.М.].
С одной стороны, многофункциональность есть некоторая "косвенная" форма талантливости. Если Н. Гоголь был талантлив от природы, и с детства ощущал в себе творческое призвание, сконцентрировался на литературном творчестве, то более сложный творческий путь требует многообразных возможностей, суммарное применение которых проявляет талант человека, делает его человеком успешным, выдающимся.
С другой стороны, и Генрих Шлиман, и (в какой-то степени) Максим Горький с детства ощущали свое предназначение. Г. Шлиман – раскопать Трою. М. Горький – писать, быть ближе к искусству, находиться в кругу людей талантливых, путешествовать. Однако их творческая деятельность существенно отличалась от деятельности Николая Гоголя уровнем "капиталоемкости". Сам по себе творческий процесс писателя, если у писателя есть где писать и на что жить, если у него есть запас знаний, эмоций, тем, сюжетов, требует не так уж много средств. Нужны ручка и бумага. В современных условиях: компьютер и программное обеспечение.
Совсем по-другому смотрятся с точки зрения потребности в капитале такие виды деятельности, как, например, раскопки, организация музеев, создание издательств, меценатство, даже пешеходные путешествия...
При капиталоемких видах деятельности, проявлениях талантливости, для успеха становится необходимой и многофункциональность.
ГЛАВА 14. «ИГРА НА НЕСКОЛЬКИХ ДОСКАХ», «НАКОПЛЕНИЕ УСПЕХА», «МОЗАИЧНЫЙ УСПЕХ».
К многофункциональности примыкают способности «играть на нескольких досках» и «накапливать успех»; а такие способности могут стать основой «мозаичного успеха».
"Одновременная игра на нескольких досках", "накопление успеха", "мозаичный успех" – все эти понятия проявляются и в жизни Генриха Шлимана (при доминировании "гомеровской археологии" и темы Трои).
Во-первых, в судьбе Генриха Шлимана хронологически отчетливо дифференцируются две игры на "двух досках": коммерческая деятельность и культурно-археологическая устремленность.
Во-вторых, эти две комплексные игры также состоят из нескольких игр. Например, культурно-археологическая активность Г. Шлимана включала, такие виды социального творчества как (а) археологическое, (б) музейное, (в) литературное, (г) GR-менеджмент (GM: government relations; англ.: отношения с "правительством") и другие.
Эффект "накопления успеха" может быть прекрасно проиллюстирирован жизненным путем Генриха Шлимана: от трудолюбия и работоспособности к изучению иностранных языков, от осовения языков к перспективному положению в коммерческой среде, от коммерческих возможностей к огромному капиталу, от колоссальных финансовых возможностей к путешествиям, книгам, масштабным раскопкам, от финансово-затратных раскопок к мощному информационному эффекту, а затем и к обнаружению золотых артефактов. Период обнаружения обильных золотых артефактов завершился? Ничего, поводом для укрепления репутации становятся троянские конференции...
В жизни Максима Горького присутствуют и "одновременная игра сразу на нескольких досках": литературной, политической, благотворительной, трэвеллерской и других, способность суммировать выигрыши (разновременные и разного масштаба и характера), эффект "накопления успешности", "мозаичного успеха".
Николай Гоголь из жителя провинциальной малороссийской Васильевки стал всемирно известным писателем; его жизненный успех несомненен; жизнь его достаточно гармонична; можно ли было желать большего? Но вопрос о возможности для Николая Гоголя сыграть сразу на "нескольких досках", подобно Генриху Шлиману и Максиму Горькому, невольно возникает. Судя по биографической и мемуарной литературе у Николая Гоголя были очень неплохие способности художника. Как сформулировать закон "Публикуйся!" применительно к живописи? "Рисуй (пиши) и передавай (дари, продавай, раздавай) свои картины"?
Закон успеха: "Осваивай искусство одновременный игры на нескольких досках; учись накапливать успех; "мозаичный успех" не так-то просто рассыпать".
ГЛАВА 15. СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
15.1. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ... РАБОМ?
Актуальность системы персональной независимости кем-то может не осознаваться; если она осознается, то по-разному.
Генрих Шлиман осознавал эту актуальность в повествовательном изложении: "В возрасте, когда другие учатся в гимназии, я был рабом ..." [Мейерович М.Л. С. 53].
Отметим, что А.С. Пушкин, например, слово "раб" так же произносил, но в условном наклонении.
Запись А.С. Пушкина в дневнике от 10 мая 1834 года: "...Я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного" [Дневник Пушкина 1834 года].
У Гоголя делается акцент на внешнюю выгодность положения представителя привилегированного слоя, которая сопровождается кармической зависимостью и итоговой исторической катастрофой: "Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас. (...) Это безбожно. (...) Жестоко наказываются целые поколения..."; (если) "дворяне не оставят своих привычек (...), – их участь будет самая плачевная и горестная" [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.]. При таком подходе на первый план выходит не вопрос личного "рабства", а мистическая зависимость писателя от своего предназначения, которое состоит в (пророческом) предупреждении своих современников.
У Максима Горького достаточно часто встречается выражение "мой хозяин" (и "хозяин" в том же значении). Разумеется, это не высказывание раба или крепостного; это, наверное, патриархальное определение положения работника, воспринимающего себя частью бизнеса.
15.2. АСКЕТИЗМ, ВОЗДЕРЖАНИЕ. «АНТИАСКЕТИЗМ: ИЗОБИЛИЕ ПЛЮС ЩЕДРОСТЬ».
Схематично система независимости Генриха Шлимана включает несколько компонентов: «аскетизм – умеренная самоизоляция – перевоплощения – финансовая обеспеченность – саморазвитие, освоение знаний – (автономность) независимость».
Первое место в этой системе занял аскетизм. "Умеренность – величайшая добродетель", – как бы невзначай записал в дневнике Г. Шлиман [Богданов И.А., 2008 а. С. 122]. Эффективность аскетизма демонстрируется через соотношение (а) первой (работы и) заработной платы, на которую "устроился" Генрих Шлиман в Гамбурге (составляла 9 фунтов стерлингов в год) [Шлиман Г. Илион. Т.1. С.43] и (б) суммой помощи, присланной Генриху как жертве кораблекрушения Й.Ф. Вендтом (20 фунтов). Сумма, присланная Й.Ф. Вендтом (20 фунтов) составляла более, чем 2 годовые зарплаты (9 фунтов*2=18). За аскетизмом, умеренностью, следует скудная, но весьма надежная финансовая обеспеченность. К реальной независимости такой уровень финансовой обеспеченности может привести лишь при условии эффективного использования времени: динамичного саморазвития, получения знаний. Саморазвитие, самообразование, самообучение требуют минимальной (хотя бы) концентрации, то есть – умеренной самоизоляции (уровень которой – индивидуален; варьируются условия бодрствования, активности, отдыха, сна, интенсивность общения и т. д.). Генрих создает для себя умеренную самоизоляцию, что позволяет ему в ускоренном темпе осваивать знания, осуществлять саморазвитие. Быстрыми темпами он изучает иностранные языки, бухгалтерию, каллиграфию. 1841 год: его годовая зарплата – 9 фунтов, 1842 год – 32 фунта, 1844 год – 80 фунтов. 1847 год: его состояние приблизительно равно 8 тысячам фунтов.
Расчет весьма условный, но тем не менее: 8000/9=888. Рост материальной обеспеченности в 888 раз за 6 лет!
Для такого роста Генрих Шлиман прикладывал усилия и "внешние" (деловая активность) и "внутренние" (самосовершенствование). В письме от 31 октября 1847 года Г. Шлиман, в частности, пишет: "...Кроме биржи я никуда не хожу в избежании встреч, а это отвлечение от занятий ..." [Богданов И.А., 2008 а. С. 152].
Выдающемуся человеку заполучить репутацию не вполне психически здоровой, подозрительной личности – не так уж и сложно. Генрих Шлиман был близок к такому репутационному "приобретению" при жизни, на какие-то признаки ненормальности есть намеки в некоторых биографиях. (Н. Гоголь перед смертью был прямо диагностирован соответствующим образом. О М. Горьком можно узнать следующие сомнения: "В письмах ... попадаются иногда фразы, которые могут навести на сомнение: был ли Горький в последние годы своей жизни в здравом уме? Не был ли застарелый легочный туберкулез причиной некоторых перерождений его мозга?" [Берберова Н.Н. "Железная женщина"]).
Что бы избежать такой перспективы Генрих Шлиман мог отказаться от изучения языков, от чтения Гомера, от планов смены коммерции на науку. Он выбрал иной – компромиссный – вариант отстаивания своей независимости. Таким вариантом стали постоянные и порой длительные поездки, путешествия. Первый брак Г. Шлимана завершился хотя и трагично (в значительной степени), но без катастрофы.
Второй брак с самого начала форматировался с учетом интеграции в систему независимости. Был сформулирован принцип отношений "учитель – ученица", основой семьи было предложено считать не "девичьи" "бредни о плотских утехах" [Стоун. С.20], а уважение.
"Если не хочешь быть "рабом", выстраивай систему персональной независимости" – такой закон успеха и закон независимости можно сформулировать, ознакомившись с биографией Г. Шлимана.
Николай Гоголь не мог не размышлять над проблемами независимости.
Эти размышления могут быть проиллюстрированы его словами, обращенными к другу А. Данилевскому: "Ты должен съежиться...", "одеваться ты должен скромно...", "ты не должен ни чуждаться света, ни входить в него"..." [Золотусский И.П.].
Одним из наиболее рискованных шагов в жизни Н. Гоголя было расставание с положением – сначала чиновника, а затем и вовсе – человека наемного труда. Это было необычно, непривычно, очень рискованно. Многие его современники – талантливые люди – расставались, и не могли расстаться с государственной службой: не хватало доходов (даже при наличии имений); да и статус был не маловажен. Начинать карьеру коммерсанта? Нет знаний, навыков, связей, привычек, опыта... Коммерсант: непривычный статус для людей привилегированного слоя того времени... (Пример. Не сверх сложная деятельность: издание сочинений. Но деятельность Н.Я. Прокоповича по изданию сочинений Н. Гоголя не всегда удостаивалась положительных оценок. А у кого был и опыт, знания, связи? Пока приобретается опыт, могут быть допущены ошибки). Оставался вариант: жить по старинке в поместье при натуральном хозяйстве.
"Состоящий по установлению в 8-м классе, Н.В. Гоголь, бывший адъюнкт по кафедре истории при импер. с.-петербургском университете... по случаю преобразования университета остался за реформою с выдачею годового оклада жалования 1836, января 1-го... Аттестован был всегда способным и достойным и во все продолжение своей службы вел себя, как подобает приличному, благородному человеку". ("Аттестат Гоголя, выданный из Петербургского университета.") (См.:[Вересаев В.В.]).
("С мечтой о карьере было покончено. Отныне и навсегда Гоголь останется коллежским асессором – человеком, с точки зрения табели о рангах, "ни то, ни се", ни толстым, ни тонким. Коллежский асессор стоит почти в середине таблицы, но все же ближе к ее низу, чем к верху. А вес каждого чина по мере его движения вверх увеличивается. Велик город Петербург, а в нем всего сто генералов. Так, по крайней мере, говорят статистические таблицы. Ему же до генерала не дослужиться: чтоб достичь генеральского чина (действительного статского советника), надо потеть в канцеляриях сорок лет. Так указует та же статистика. Об этом хорошо знает герой повести "Записки сумасшедшего"". [Золотусский И.П.]).
19 апреля 1836 года – первое представление "Ревизора".
Июнь 1836 года – отъезд Гоголя за границу; в ноябре он – в Париже.
Полное – смелое и решительное – реформирование жизни. В письмах он комплементарно отзывается об императоре (и не раз); но с этого времени у него нет "начальника".
О приверженности аскетизму свидетельствуют, в частности, разные письма Н. Гоголя. Приведем одно из них.
"Ваши беспокойства и мысли о том, что я могу в чем-либо нуждаться, напрасны. Вы их гоните от себя подальше. Всё зависит от экономии. Я, просто, стараюсь не заводить у себя ненужных вещей и сколько можно менее связываться какими-нибудь узами на земле. От этого будет легче и разлука с землей" (См.: [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.]).
"...Мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если не достанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания" (См.: [Вересаев В.В.]).
"Да и лучше, если молодой человек будет знать заранее, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита; он, точно, снабжен всем необходимым" (из письма Н. Гоголя С.П. Шевыреву, 7-го ноября <1850>) (См.: [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.]).
Как и Генрих Шлиман, Николай Гоголь – бывало – вел письменные списки расходов за определенный период времени, продумывал способы минимизации расходов. (Финансовая грамотность?)
Тема аскетизма в жизни юного Алексея Пешкова присутствует постоянно. Смерть отца, непростое, постепенно ухудшающееся материальное положение деда, положение "мальчика", "ученика", "сторожа" и т.д., определенное равнодушие к деньгам, все эти обстоятельства делали аскетизм элементом жизни молодого Алексея Пешкова. В какой-то момент (в начале 20 века) происходит скачок, материальное положение Алексея Пешкова резко меняется, и, после этого изменения он не знает нужды до конца его жизни.
Любопытно, что резкое изменение материального положения Алексея Пешкова сопровождалось и его перевоплощением: "В губернских и уездных городах появились двойники Максима Горького. Они носили, как он, сапоги с заправленными в них штанами, украинские расшитые рубахи, наборные кавказские пояски, отращивали себе усы и длинные волосы a la Горький и выдавали себя за настоящего Горького, давали концерты с чтением его произведений и т.д. Простонародная внешность Горького, лицо типичного мастерового сыграли с ним злую шутку.
Несомненно, он задумывался над этим и через некоторое время резко изменил свой внешний стиль – стал носить дорогие костюмы, обувь, сорочки... Зрелый Горький, каким мы знаем его по фотографиям, – это высокий, сухопарый и необыкновенно изящно одетый мужчина, не стесняющийся фотографов, умеющий артистично позировать перед ними" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник."
Каких-либо отчетливых суждений со стороны М. Горького о пользе аскетизма автор не встретил. Для его практических действий в юности, описанных в его произведениях, были свойственны интуитивная опасливость, брезгливость по отношению к кражам, в том числе, к кражам денег. Наверное, такое отношение сохранилось и после положительных перемен в его жизни. (Даже если это прозвучит высокопарно, сделаем вывод о наличии у М. Горького определенного благородства).
Похоже, что к получению денег методами – на его взгляд – праведными, Максим Горький относился весьма положительно.
Упоминание "брезгливости" дает повод упомянуть о таком качестве М. Горького, как интуитивное ощущения внутреннего барьера, пограничной линии: того, что можно, и чего нельзя, что разрешено, и что не разрешено, что допустимо, и что не допустимо. Иллюстрацией может послужить следующий эпизод, описанный В.Ф. Ходасевичем. М. Горький находится в давних хороших отношениях с главой "пролетарского", почти полностью бесконтрольного, государства. Весной 1921 года М. Горький раздобыл восемьдесят пайков для писателей и артистов. "Литературная комиссия в число своих кандидатов внесла В. П. Буренина, известного нововременца. М. Ф. Андреева...заявила протест... (...) Лишь только заговорил я о Буренине, Мария Федоровна раскричалась. Я ей ответил, что в нашей комиссии поклонников Буренина нет, но Буренин – профессиональный писатель, худо ли, хорошо ли проработавший много лет, а ныне умирающий с голоду. Лишить его пайка – значит приговорить к смерти.
– И отлично! Я бы его расстреляла своими руками! – воскликнула Андреева.
Вот тут-то Горький, молча сидевший на конце стола, весь побагровел и сказал голосом тихим, но хриплым от злобы:
– Я бы не хотел, понимаете... чтобы такие вещи... говорились у меня в доме" [Ходасевич В. Ф. "О современниках"].
Может быть, есть основания для того, чтобы сделать вывод о наличии с системе независимости Максима Горького такого элемента как "антиаскетизм". "Антиаскетизм" может предполагать "приток" как можно большего объема материальных благ с последующей "раздачей" значительной части этих благ их среди окружающих. (Предположительно можно сформулировать формулу: "антиаскетизм – это изобилие плюс щедрость"). Несколько упрощая, можно сказать, что Максиму Горькому удавалось занять место посредника между "плюсом" и "минусом". "Плюс" это изобилие материальных благ, "минус" – потребность в благах. По проводнику, соединяющему эти два полюса, протекали мощные заряды, заряды материальных благ. Если принять версию, что Максиму Горькому был свойственен "антиаскетизм", то можно по этому поводу заметить: несколько сомнительный путь обретения независимости, требующий большой и неизменной (очень индивидуальной? кармической?) везучести, а так же – адаптивности.
Аскетизм в отношениях с женщинами виден и в биографии Генриха Шлимана, и в биографии Николая Гоголя.
В апреле 1869 года – за несколько месяцев до второго брака – Г. Шлиман, отправил епископу Теоклетосу Вимпосу, родственнику будущей второй жены Г. Шлимана Софии, письмо, в котором, в частности говорилось, что Г. Шлиман "не имел отношений с женщиной шесть лет" [Богданов И.А., 2008 б. С. 65].