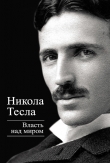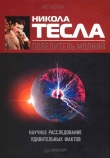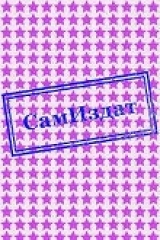
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Сообщение об отмене выборов Горького в Академию "было опубликовано 12 марта 1902 года, а генеральная репетиция Московского Художественного театра состоялась 19 марта. "Все тузы сказали, – пишет О. Л. Книппер А. П. Чехову, – что разрешат пьесу, если Клейгельс [Клейгельс – петербургский градоначальник. – И. Г.] поручится, что не будет скандалов. Как же это можно поручиться? До сих пор ничего не известно". "Все тузы", по выражению О. Л. Книппер, – это министры Святополк-Мирский, Витте, Воронцов-Дашков и другие сановники, бывшие на генеральной репетиции. "На генеральную репетицию, – вспоминает К. С. Станиславский, – в Панаевский театр съехался весь "правительствующий" Петербург, начиная с великих князей и министров. В самый театр и вокруг него был назначен усиленный наряд полиции; на площади перед театром разъезжали конные жандармы"" [Груздев И.А.].
""Мещане" были первой пьесой, возбуждавшей зрителей к общественным выступлениям. (...) Демонстрация во время спектакля "Мещан" произошла в Белостоке, как об этом говорится в газете "Искра": "Кричали "долой самодержавие, произвол... да здравствует свобода!" Бросали карточки с теми же надписями. Городовые с шашками наголо в театре же начали бить куда попало. Произошла схватка. Потом перенесли демонстрацию на улицу. Было сильное возбуждение. Озверелая полиция начала стрелять... Были вызваны войска, закрыли все магазины (в 6 часов вечера). Убит один рабочий, есть и раненые. Арестовано до 30 человек... Демонстрация продолжалась 4 часа, охватив все улицы. Возбуждение в городе громадное. Со всех фабрик начали собираться рабочие, вооруженные палками"" [Груздев И.А.].
"Возбуждение в городе громадное". !.
"Как ни велика, однако, была его популярность в годы 1901-1902, это было только предвестием того громадного успеха, который имела пьеса "На дне", поставленная сперва в Берлине, а затем в короткое время обошедшая сцены всех европейских стран" [Груздев И.А.]. "...Возник проект организации нового театра и слияния его с труппой Комиссаржевской во главе с Горьким. В декабре 1904 года появилось уже сообщение о новом предприятии. Но эта работа по организации театра большого политического звучания была прервана новыми событиями" [Груздев И.А.].
Немного, может быть, досадно, но не катастрофично. Игра шла сразу на нескольких досках.
Театр "помог" дружбе М. Горького с Ф. Шаляпиным. "Задушевнейшим его другом становится Шаляпин – оба много смеются тому, что жили на Волге в юности бок о бок, да так и не познакомились. Более того: в один день и час ходили наниматься в хор Казанского оперного театра. Горького приняли, Шаляпина – нет" [Быков Д.Л.]. Общие воспоминания, юность!
В период революций 1905 и 1917 годов и между революциями тема театра в биографии М. Горького несколько затухает. Прибавляет эмоций поездка в США в 1906 году. "Его американская поездка фактически сорвалась и сопровождалась постоянным скандалом: его с М.Ф. Андреевой, как невенчанных, отказались пустить в какую либо гостиницу, даже самую захудалую" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Странно: в России дремучие мещане, жестокие крестьяне, недостаточно революционно настроенная интеллигенция, бесперспективная буржуазия; США – страна передового капитализма. Оказалось – в гостиницы не пускают...
"Оставив Горького на Капри и тем как бы признав начавшийся с ним разрыв, Мария Федоровна вернулась в Россию в 1912 году" [Берберова Н.Н. "Железная женщина"].
Наступает период между 1917 годом и выездом в конце 1921 года из Советской России на лечение. М. Горький "принимает участие в работах Петроградского театрального отдела, организуя Большой драматический театр, с репертуаром высокой трагедии. "В наше время, – говорил Горький, – необходим театр героический". В то же время он пишет для Театра народной комедии пьесу "Работяга Словотеков" – первую сатиру в советской драматургии" [Груздев И.А.]. Выезд за границу, и тема театра в биографии М. Горького снова несколько затухает. Италия.
"Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
(...)
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он."
Проходит время. Теплый вечер в Сорренто – и «до свидания, Италия!». М. Горький снова в Советской России, в СССР. 1932-й, осень. На сцене появляется пьеса «Егор Булычов и другие». Но энергия гроссмейстера, как всегда, находит выход в игре на нескольких досках. М. Горький «выразил пожелание создать в Москве „Всесоюзный театр“, в котором артисты всех народностей Союза Социалистических Республик получили бы возможность ознакомить с национальным драматическим искусством и посредством его – с прошлым и настоящим культурной жизни своего народа. Вместо „Всесоюзного театра“ были организованы национальные декады в Москве...» [Груздев И.А.]. «Достигаев и другие»... «Васса Железнова»... «18 июня 1936 года Горького не стало» [Груздев И.А.]. А жизнь продолжалась: в театрах шла пьеса «Алеша Пешков», написанная И.А. Груздевым в соавторстве с Ольгой Форш [Груздев И.А.].
Если вспомнить образ Н. Гоголя о шкатулке Чичикова, в которой лежал театральный билет, то можно сказать, что Горький смог вытащить из волшебной шкатулки такой театральный билет, в котором были завернуты и "лукавая женская любовь", и гонорары, и всемирная слава, и дружба (Федор Шаляпин), и эфемерная (но в тоже время реальная) политическая протекция (Владимир Джунковский), и финансы для диктатуры пролетариата (Савва Морозов), и связи творческие (Ольга Книппер), и связи политические (с большевиками через М.Ф. Андрееву), и средство для развлечения, общения, структурирования времени.
Удобная штука. Напрасно Н. Гоголь "бежал" из театра в конце первого – успешного – представления "Ревизора". Неужели далекая малярийная Троада, все это "копание", поиски "древнего города, о котором знал только Гомер" имели для владельца парижских доходных домов миллионера Генриха Шлимана преимущества перед театральными представлениями?
"Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется... А ты сделай усилие – перевернись! (...) Но я ведь умником себя не считаю... Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно" (М. Горький. "Мещане").
ГЛАВА 12. СИСТЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ. (СТАНЬ ... УНИВЕРСИТЕТОМ! ИЛИ ЛИТЕРАТУРНЫМ ИНСТИТУТОМ?)
12.1. СОЗДАТЬ СИСТЕМУ! СОЗНАТЕЛЬНО, ИНТУИТИВНО, СТИХИЙНО...
О системе саморазвития Н. Гоголя говорить можно лишь условно. Почему? Если для Генриха Шлимана выстраивание, создание системы личностного саморазвития было вопросом выживания, жизни и смерти, то для Николая Гоголя система личностного саморазвития была приложением к такому обстоятельству, фактору его жизни как «среда развития». Так уж сложилась жизнь Н. Гоголя, что он от рождения был талантлив, гениален, более или менее материально обеспечен, вхож в высокие властные круги, в круги творческие, что в его жизни не было «семейной катастрофы». «Оставалось» «вызревать», развивать талант в творческих средах: детства, гимназии, в петербургской творческой среде. Переходя из одной в другую. С очень большой долей условности можно сформулировать такой (конечно гиперболизированный) тезис: «Н. Гоголю нужно было не мешать саморазвертываться тому потенциалу, который присутствовал и в нем самом, и в окружающей его творческой среде». Можно предположить, что к такой «участи» Н. Гоголь относился достаточно спокойно, философски, лояльно; вспомним длительные периоды его бездействия, неожиданные всплески творческой активности, когда он, во время заграничной поездки, остановившись в придорожном трактире, заняв столик в стороне, мог внезапно написать целую главу своей поэмы. Сомнения, если таковые появлялись, в жизни и творчестве Н. Гоголя играли весьма значительную роль. Когда творческий процесс совершался и совершался с исключительной быстротой, то времени для особых сомнений просто не оставалось. Появление сомнений было для Н. Гоголя тревожным знаком, побуждающем Н. Гоголя к размышлениям: а не является ли его активность «лишней», «ненужной». (Слушал «стук времени, уходящего в вечность»?)
Характеризуя принцип жизненного движения Максима Горького, Д.Л. Быков пишет: "в какой-то момент в ужасе спрашивал себя: "И это жизнь?! И это на всю жизнь?!" – и шел дальше, пока не зажил наконец той жизнью, для которой был предназначен" [Быков Д.Л.].
Если система личностного саморазвития и не создавалась Максимом Горьким сознательно, если его воля состояла в том, чтобы "идти дальше", то непроизвольно такая система все же складывалась. А сложившись, начинала "работать". В числе его сознательных, отвечающих его внутренним склонностям деяний были такие как "читать" и "писать", "проводить больше времени в кругу талантливых творческих людей или рядом с ними". Так что система саморазвития у Алексея Горького присутствовала. Интересным является упоминание самим М. Горьким одного из качественных скачков, произошедших в его судьбе. Он – еще подросток; ему 12-13 лет, он работает в коллективе взрослых житейски опытных людей. Но у него – отчасти стихийно – сложилась еще не система, а маленькая "системка" самосовершенствования: он грамотен, он много читает, он умеет читать вслух с некоторой выразительностью, он видел много людей, стремился общаться с людьми интересными, необычными; поработав на Волге, он много где побывал. И вот он внезапно осознает, что "незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место – рассказчика и чтеца. Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня" (М. Горький "В людях").
"...Все эти люди видели и знают меньше меня" !!!
"В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия – божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне" (М. Горький "В людях").
Сдвинемся по хронологической шкале в прошлое; приведем еще более ранний эпизод для объемности изображения:
"Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:
– Вот славно, а? Ах, господи..." (М. Горький "В людях").
"Не моя вина, если со мною случаются такие диковины, которых еще не случалось ни с кем. Это потому, что я люблю путешествовать и вечно ищу приключений, а вы сидите дома и ничего не видите, кроме четырех стен своей комнаты" (Э. Распэ. Приключения барона Мюнхаузена).
"Системка" дополнялась, превращалась в Систему; таких почти незаметных скачков было много; и вдруг "Начиная с 1900 года тридцатидвухлетний Горький – уже русский классик. Так мало кому в нашей литературе везло" [Быков Д.Л.].
Таким образом, мы можем говорить о системах личностного саморазвития Н. Гоголя и М. Горького: по аналогии с таковой системой, выстроенной Генрихом Шлиманом.
Сопоставление этих систем может оказаться небезынтересным для определенного круга Читателей этой книги.
12.2. МУДРЫЙ ГЁТЕ: ВЕСЫ БЫТИЯ.
В основе системы саморазвития Генриха Шлимана лежали следующие компоненты: заучивание наизусть (в особенности заучивание священных и классических текстов, освоение языков), написание писем, ведение дневника. Заучивание наизусть при изучении языков (иностранных и древних) ведет к расширению культурного пространства личности, повышению профессиональной полезности (пригодности), создает условия роста общей жизненной успешности. Заучивание наизусть священных и классических текстов способствует выработке литературного стиля, интеллектуального резерва. Самодисциплина осуществляет гармоничное соединение этих трех компонентов – заучивания наизусть, написания писем, ведения дневника. К числу главных правил самодисциплины относится установление распорядка дня. (Тема распорядка дня отмечается и самим Генрихом Шлиманом, и авторами книг о нем). Стандартными элементами распорядка дня Г. Шлимана были ранний подъем, как правило, до восхода солнца, и купание в открытом водоеме [Шлиман Г. Илион. Т. 1.С. 99], [Богданов И.А., 2008 б. С. 251, 257].
Самодисциплина, установление распорядка дня синтезировали
(А) регулярные физические нагрузки Генриха Шлимана (в их числе: верховая езда, плавание, закаливание, гимнастика (комплекс, набор последовательных физических упражнений), длительные пешеходные и конные перемещения, личное участие в раскопках, зимой (в России) – катание на коньках),
и
(Б) интеллектуальные занятия, действия по саморазвитию и самообучению.
На этом базисе, этих "трех китах" (заучивание наизусть, написание писем, ведение дневника) создаются такие элементы личностной интеллектуальной конструкции Генриха Шлимана, как
1. личный архив,
2. литературная деятельность (написание и издание статьей, книг),
3. библиотека,
4. персональный (и внутрисемейный) центр изучения и самоосвоения иностранных языков, и совершенствования методик обучения.
При нарастании интеллектуальной активности за ними следует
5. личный музей (личные коллекции).
Количество полезных действий переходит в качество. Письма пишутся столь часто, в таком количестве, и такому большому числу корреспондентов, что по сути дела возникают:
6. Влиятельная, хотя и небольшая по тиражу, газета,
7. Частное информационное агентство ("Из каждого крупного города на континенте и в Англии специально нанятые люди посылали ему все выходящие о нем статьи – ругательные и хвалебные, и на каждую он отвечал сам, излагая доподлинную правду о себе и Трое, какой он ее знал и любил" [Стоун. С. 259-260],
8. Частное рекламно-имиджево-лоббистское агентство,
9. Служба опроса общественного мнения.
На их основе – не формально, а по существу – формируются:
10. Научно-исследовательский археологический центр (осуществляющий раскопки, проводящий исследования, регулярно публикующий результаты научной деятельности, организующий научные конференции),
11. Международный частный Университет заочного обучения археологии и древней истории (обучающий через прессу и посредством научных публикаций, медиасобытий, неискушенные в археологии и древней истории массы европейского населения).
Благотворительно-филантропическую деятельность Г. Шлимана можно сопоставить с функционированием благотворительного фонда.
"В Карлсбаде ему показывали дом, где останавливался Гете. Мудрый Гете как бы рассчитал надолго свою жизнь – он не спешил, он уравновешивал на весах бытия свои страсти и свое писанье: он мог и любить и писать одновременно. И каждый год или через год регулярно приезжал в Карлсбад испить целительной водички. Он прожил восемьдесят три года, этот разумный немец, которому бог, отпустив гениальность, дал еще и расчет" [Золотусский И.П.].
"Нам всем не хватает духа порядка и методичности, избавимся от этого недостатка" [Чаадаев П.Я. Философические письма].
12.3. ЗАУЧИВАНИЕ НАИЗУСТЬ.
Одним из важных элементов системы личностного саморазвития Генриха Шлимана было заучивание наизусть. Представляется, что особенную эффективность это заучивание получало, будучи обращено к священным текстам и к иностранным языкам.
Характеризуя детство Г. Шлимана, Г. Штоль отмечает: "... катехизис и псалмы он знал наизусть" [Штоль. С. 27].
Рассказывая об обучении Н. Гоголя в Полтавском поветовом училище, И. Золотусский упоминает: "заучивали наизусть целые страницы из библии" [Золотусский И.П.].
Алеша Пешков "наизусть читал псалмы и жития святых" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Мать Варвара "заставляла его километрами заучивать любые стихи – он и заучивал, благодаря все той же памяти, но противился" [Быков Д.Л.].
"А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг..."
Описывая освоение Генрихом Шлиманом иностранных языков, М. Мейерович говорит: «Чтобы выработать хорошее произношение, он регулярно каждое воскресенье дважды ходил в англиканскую церковь и, став в углу, потихоньку повторял про себя каждое слово проповедника» [Мейерович М.Л. С. 34].
Эти же посещения англиканской церкви с той же мотивировкой (освоение английского языка) приводит в своей Автобиографии и Г. Шлиман.
В то же время такой трактовкой не исключаются и другие версии: заучивание священных текстов, естественная религиозность.
"В церкви, например, Гоголь (...) молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию" (См.:[Вересаев В.В.]).
М. Горький: "...В церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чём-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невесёлой доле моей – сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы... В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле".
"Он написал мне 9-ть псалмов, и я должна была ему повторять урок так безошибочно, чтобы не запинаться. "Нет, нет, дурно,– говорил он иногда,– вас следует наказать в угол". Эти псалмы писаны хорошим почерком, и я их берегу с его письмами, как сокровища" [Смирнова-Россет А.О. C. 56].
"...Учите буквально наизусть, как школьный ученик, те псалмы, которые я вам дал, и учите<сь> произносить их с силою, значеньем и выраженьем голоса, приличным всякому слову" (Н.В. Гоголь – А. О. Смирновой, 27-29 октября (н. ст.). 1845) [Гоголь Н.В. Переписка. 1845-1846.]
Об освоении Н. Гоголем французского и итальянского языков пишет А. Труайя: "Чтобы улучшить свой французский язык, Гоголь ... общался с молодыми французами, проживавшими в мансарде Латинского квартала. Там он изучал не только французский, но и еще итальянский языки, готовясь к поездке в Италию, о которой он всегда мечтал" [Труайя А. С. 240].
"Гоголь широко познакомился с искусством Италии, с памятниками старины, изучил итальянский язык, даже его местное, транстеверинское, наречие" [Н. Л. Степанов].
"Всю так называемую эпоху реакции, семь лет – с 1907 по 1913, ему предстояло провести вдали от Родины – привычная участь для странника, но серьезное испытание для писателя, не владевшего вдобавок ни одним иностранным языком" [Быков Д.Л.]. Зная о великолепной памяти М. Горького и учитывая значительные периоды его пребывания за границей России, можно сделать вывод о знании им в той или иной мере иностранных языков (по крайней мере, итальянского).
Знание древних языков в былые времена отличало образованного человека. Латинский, древнегреческий... Могли ли Генрих Шлиман или Николай Гоголь, современники М. Горького – выдающиеся культурные деятели – похвалиться знанием церковно-славянского языка (являющегося продолжением старославянского языка)? "...Горький обучался... церковнославянской грамоте по псалтырю и часослову" [Груздев И.А.]. М. Горький: "...Дед заставил меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском языке. (...) ... в конце концов я научился читать и "по-граждански" и "по-церковному". Возможно, у Н. Гоголя был определенный объем знаний церковно-славянского языка.
12.4. НАПИСАНИЕ ПИСЕМ.
И Г. Шлиман, и Н. Гоголь, и М. Горький – активно писали письма. Эта деятельность перерастала в литературное творчество. Свои письма Н. Гоголь переработал в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». И. Золотусский отмечает: «Думал писать поэму – написал книгу писем. (...) Так складывалась его „Переписка с друзьями“. Книга родилась из писем, из переписки, которую он вел в эти годы с доверенными людьми, с теми, кто стоял рядом или попадался ему на пути, с кем столкнула его на перепутье судьба, – с невольными свидетелями и участниками свершающегося в нем переворота» [Золотусский И.П.].
Письма Н. Гоголь писал постоянно, на протяжении всей сознательной жизни.
Н. Гоголь пишет письма домой, поступив в Полтавское поветовое училище.
"Последнее письмо Гоголя – последнее из всех, писанных им, – было письмо к матери. (...) Сам зажег бумаги. ...Ворочал бумаги до тех пор, пока они не превратились в пепел. (...)...Что-то он все же откладывал в портфель, и это были письма – письма Пушкина в том числе" [Золотусский И.П.].
"...Полное собрание писем Гоголя, рассчитанное на шесть томов. (...) ...Общее число публикуемых нами писем Гоголя доходит до 1300" ["Письма Гоголя 1820-1835 гг."]. Согласитесь, что шесть томов писем – весьма неплохой результат творчества, даже если рассматривать этот результат отдельно от (иных) итогов литературной деятельности. Такое количество писем может выполнять, в какой-то мере, и функции дневника.
"...По ориентировочным подсчетам сам Горький написал за свою жизнь около двадцати тысяч писем. Свыше 10 тысяч из них нам известны, в том числе сохранилось 8 тысяч автографов" [Нефедова И.М.]. "Ни одно из писем не оставлял он без внимания (а ответы занимали подчас много страниц). "Постепенно превращаюсь в "письмописца", – шутил Горький. – Справедливости ради необходимо, чтобы в некрологе моем было сказано: Всю жизнь, ежедневно, несмотря на погоду, он писал письма..."" [Нефедова И.М.].
И.А.Богданов высказывает мнение, что "Шлиман за свою жизнь написал не менее 80 тысяч писем" [Богданов И.А., 2008 а. С. 43].
12.5. ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА.
Выше было отмечено, что ведение дневников преобразовалось у Генриха Шлимана в написание книги. Написание писем также способствовало творческой деятельности Г. Шлимана. (Напоминает работу репортера: писать письмо во время кораблекрушения).
Упомянем дневник Генриха Шлимана на русском языке: Шлиман Г. Дневник 1866 года. Путешествие по Волге / Подготовил к изданию И.А. Богданов. СПб.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 1998 (выходные данные приведены по [Гаврилов А.К. С. 430]).
Ведение дневников Н. Гоголем и М. Горьким...
С одной стороны, в биографических работах об этих выдающихся писателях мне не встретилось отчетливого утверждения, что Н. Гоголь (или М. Горький) не вел дневник.
С другой стороны, те упоминания о ведении дневников Н. Гоголем и М. Горьким (или высказывания, которые можно интерпретировать в качестве таких упоминаний), вовсе не похожи на те отчетливые высказывания, которые делаются, относительно, например, Г. Шлимана ("Дневники включают 18 книжек, причём автор, как правило, вёл их во время путешествий на языке страны, в которой находился, – на французском, английском, немецком, испанском, итальянском, новогреческом, арабском, русском, голландском и турецком языках" ["Шлиман, Генрих"]).
Видимо, при обсуждении темы ведения дневников будет верна следующая позиция. Само понятие "дневник", в общем-то, растяжимое. Постоянно и много пишущие люди, так или иначе, оставляют записи, которые – в хронологической последовательности – можно назвать "дневниковыми". Если выходить на очень высокий уровень обобщения, то в некотором смысле и регулярно составляемые письма, и – даже – серии регулярно публикуемых статей можно назвать "дневниками". Полное или не полное собрание сочинений – это ведь тоже в некотором смысле (на очень высоком уровне обобщения) "дневник".
В этой связи можно привести одно из высказываний М. Горького: "...тетрадка моих – той поры – записок, присланная мне одним знакомым, бывшим студентом духовной академии; прислал он мне эту сорокалетнюю тетрадку с доброй целью уличить меня в малограмотности, чего и достиг: двадцать три ветхих страницы, исписанные моим почерком... (...) Тетрадка неинтересная, сплошь наполнена выписками из разных книг, топорными попытками писать стихи и описанием – в прозе – рассвета на "Устье", на берегу Волги, у слияния с нею реки Казанки. Но между этой чепухой есть описание лекции или доклада некоего Анатолия Кремлева, – этот человек изучал Шекспира, толковал Шекспира, играл Шекспира на сцене и читал лекции о Шекспире и вообще об искусстве".
Такую тетрадку можно назвать "дневником"? Или нельзя?
Что касается регулярных ежедневных, последовательных, достаточно продолжительных (недели, месяцы, годы) (первоначально преимущественно приватных) записей о событиях, фактах, впечатлениях, размышлениях, о всем том, что, по мнению автора, достойно запоминания и упоминания, таких записей, которые имеют отдельную конкретную "литературную локализацию" (блокнот, тетрадь, папка и т.д.), то таких дневников за авторством Н. Гоголя и М. Горького – выскажу предположение – не опубликовано. Позволю себе высказать как версию несколько условный тезис: "дневниковое творчество" в литературной деятельности ни Н. Гоголя, ни М. Горького развития не получило.
В творчестве Н. Гоголя и М. Горького и в их биографиях "дневники" упоминаются. В разных вариантах. Некоторые из этих вариантов позволяют предположить некоторые из причин, почему "дневниковое творчество" если и получило развитие, то – ограниченное. Некоторые записи М. Горького утеряны во время путешествий. "Существует легенда, будто бы Ягода, прочтя предсмертные дневники Горького, вздохнул: "Как волка ни корми, он всё в лес смотрит"". [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. У Н. Гоголя ведение дневника представлено в рассказе "Записки сумасшедшего". Как "профессиональный историк" Н. Гоголь при написании "Тараса Бульбы", по-видимому, использовал "дневники польского очевидца этих событий – войскового капеллана Симона Окольского" ["Гоголь, Николай Васильевич"]).
Значения ведения дневников для самосовершенствования Н. Гоголь не отрицал. Это признание выражалось у него в инвертированной форме: он предлагал вести дневник С.П. Шевыреву, вносить в него мысли о Гоголе, затем отсылать этот дневник Гоголю для его (Гоголя) самосовершенствования.
Можно поразмышлять и о возможности некоторого скептицизма Н. Гоголя относительно ведения дневников: если вспомнить описание ведения дневника в его творчестве (в рассказе "Записки сумасшедшего"). Что ж, наверное, в каких-то условиях ведение дневника может быть затруднительно или неуместно.
Автор нисколько не будет разочарован, если его версия об ограниченном "дневниковом творчестве" Н. Гоголя и М. Горького окажется не вполне (или совсем) не соответствующей действительности, и в распоряжении читателей окажутся два (по крайней мере) объемных увесистых томика: один за авторством Н. Гоголя, другой – М. Горького под примерно сходным названием: "Дневники за ... годы".
Надежды на обретение таких "увесистых томиков" подпитываются различными упоминаниями, например:
"Горьковская книга "Заметки из дневника. Воспоминания" включает портретные зарисовки и дневниковые записи предыдущих лет. "Книга о русских людях, какими они были" – так определял свой замысел писатель" [Нефедова И.М.].
"...десяти лет начал вести дневник, куда заносил впечатления, выносимые из жизни и книг" ("Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горький").
12.6. РАСПОРЯДОК ДНЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. СПОРТ.
«...Путь к „подвигам“ – через кропотливый, повседневный труд, строгий распорядок, давно заведенный и не допускающий отклонений. „Гоголь везде, как дома, – сообщает Языков ... родным, – везде водворяется по-своему и пишет; в Гаштейне сидел он так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руке – и никому ни на какой стук не отпирая двери! После обеда прохлаждается, лежа на диване и подремывая, гуляет и ложится спать часов в 9 – все это делается у него чрезвычайно аккуратно и вольготно, идет все это, как заведенные часы“ (...). Невольно вспоминается фраза из „Мертвых душ“: мол, „автор“, „несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец“...» [Манн Ю. В. С.633-634].
"...Рано утром приходила огромная почта – письма, рукописи, книги, газеты, журналы. День Горького начинался с чтения газет – он любил первым в доме узнать, что происходит в мире.
"Живу я – в работе, нигде не бываю, сижу за столом по 10-12 часов. Даже гулять хожу редко", – пишет он вдове Короленко. "Работаю – бешено, часов по 14, не сходя с места... Работаю каторжно". Бывали случаи, когда Горький, не вставая из-за стола, писал круглые сутки: "Дописался до того, что начал вставлять новое перо в мундштук, вставлял весьма усердно. А на днях погасил папиросу в чернильнице". Но "сон мой здоров и крепок, сновидения редко посещают меня"" [Нефедова И.М.].
""Писать надо каждый день в одни и те же часы... – говорил он. – Это быстро войдет в привычку. Когда придет время, вас уже само собой будет тянуть к столу. А пропустите свой рабочий час – и почувствуете, что вам чего-то недостает"" [Нефедова И.М.].
"То, что сделано писателем – а сделано им невообразимо много, – результат огромной организованности, самодисциплины, собранности, колоссального трудолюбия. В 1930 году он признавался, что никогда не пишет и не читает меньше десяти часов в сутки" [Нефедова И.М.].
Регулярные физические нагрузки (в основном, прогулки) были одним из элементов распорядка дня Н. Гоголя. ""Иван Семенович не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, и потому не мудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одною и той же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: "Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать Вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все очень хорошо..." – "Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить..." Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам" (...)" [Манн Ю. В. С.61].
"Гоголь в деревне вставал рано... (...) Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, "рукопашная работа" на вольном воздухе – освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже десяти часов вечера." "Ему каждый день были нужны прогулки..." (См.: ["Гоголь в воспоминаниях современников"]).
Д.М. Погодин (сын М.П. Погодина, гостеприимно и по-дружески предоставлявшего часть своего дома Н. Гоголю для проживания) вспоминал:
"После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей амфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Гоголя и спросит: – "Ну, что, находился ли?" – "Пиши, пиши, – отвечает Гоголь, – бумага по тебе плачет". И опять то же: один пишет, а другой ходит. Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи (тогда о керосине еще не было и помину) оплывали к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составлявших амфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: – "Груша, а Груша, подай-ка теплый платок: тальянец (так она звала Гоголя) столько ветру напустил, так страсть". – "Не сердись, старая, – скажет добродушно Гоголь, – графин кончу, и баста". Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх" (См.:[Вересаев В.В.]).