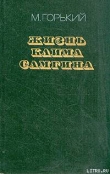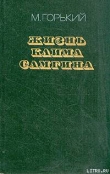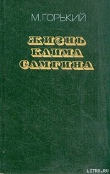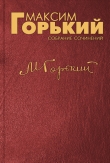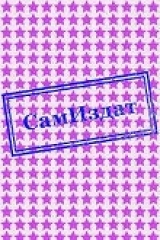
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Глава 11. ЖЕНЩИНЕ ЛЕГЧЕ ПОВЕРИТЬ НЕ ПРОРОЧЕСТВУ О БУДУЩЕМ, А РЕАЛЬНОСТИ НАСТОЯЩЕГО
11.1. ПРОРОК ИОНА И ЕКАТЕРИНА: ПУТИ РАСХОДЯТСЯ.
Некоторые биографические детали взаимоотношений Генриха Шлимана с его первой женой, Екатериной, родившейся в России, и со второй женой, Софией, родившейся в Греции, могут побудить читателей к размышлениям о правилах успеха в этой сложной сфере.
В России успешный коммерсант, быстро ставший богачом, женился (12 октября 1852 года ст.ст.). Его женой стала Екатерина Петровна Лыжина, происходившая из культурной петербургской семьи. Родились сын и две дочери.
После завершения российского, "коммерческого" периода жизни Г. Шлиман постепенно переключался на археологию. Для Генриха Шлимана становились узковаты те модели жизненного пути, которые предлагал столичный Петербург. В следующих актах цивилизационного, культурного и археологического события, каким была жизнь Г. Шлимана, Екатерине Шлиман (Лыжиной) места, в общем-то, почти не было. Возраст, состояние здоровья, привычки, воспитание, сложившаяся адаптация к российской петербургской среде, стремление заниматься воспитанием детей, определенный патриотизм – все эти и другие обстоятельства ориентировали ее на жизнь в России, в Петербурге. Письма ее, опубликованные в добросовестно подготовленной И.А. Богдановым, добротной книге "Не привози с собой Гомера...", свидетельствуют о хорошем образовании (она была выпускницей элитной по тем временам "Петришуле"), добротном литературном стиле, вообще, о понимании (в хорошем смысле) жизни.
Ее отношение к такому проявлению общей талантливости мужа, как пророческий дар, не отличалось от отношения к пророчествам со стороны большинства людей. "...Пророк не имеет чести в своем отечестве" (Ин 4:44).
Переключаясь на археологическую деятельность, Генрих Шлиман изменил место жительство, положение в научной среде (стал доктором философии), формат финансовых поступлений (вложил значительные средства в парижские доходные дома), стал гражданином США. Возник вопрос: как быть с семьей, с женой, с детьми?
И Екатерина, и дети были крещены в православной вере (Г. Шлиман был "евангелическо-лютеранского исповедания"), что в то время (вторая половина XIX века) давало ей (супруге) некоторые формальные преимущества, когда она высказывала несогласие с требованием мужа относительно выезда с детьми за границу России. Похоже, семейное законодательство России того времени стало для Г. Шлимана несколько неожиданным и весьма неприятным открытием.
Письма Г. Шлимана, написанные в этот период жене, оставляют впечатление очень эмоциональных документов. После их прочтения, даже при переключении на другие дела, у меня лично возникало впечатление, что я слышал громкий отчаянный крик (позднее в книге И.А. Богданова "Генрих Шлиман. Торжество мифа" по поводу этих писем я встретил фразу: "...читая их, будто слышишь голос человека, которому очень нелегко" [Богданов И.А., 2008 б. С. 32]).
Содержание писем говорит о том, что Г. Шлиман предчувствовал катастрофические последствия решения Екатерины остаться с детьми в России. В письме, отосланном 25 февраля 1867 года брату жены, Павлу Петровичу Лыжину (брат поддерживал стремление Екатерины продолжать жить в Петербурге), Генрих Шлиман использует такие сильные слова: "...Ты наведешь на бедных детей моих гибель и бедствие" [Шлиман Е., Письма. С.15].
Обращения Генриха Шлимана к Екатерине, к ее родственникам, знакомым не помогают решить проблему выезда семьи за границу.
В позиции Г. Шлимана наблюдается некоторая эволюция. 10 июля 1867 года он пишет Екатерине письмо, в котором появляется слово "похищать" ("... в стране, в которой ... покинутый муж должен похищать своих детей...") [Шлиман Е., Письма. С.19]. (Отметим, что в письме Екатерины мужу, написанном немного ранее, датированном 30 сентября 1866 года, есть слова: "...не входи в стачку со слугами, не пугай меня, уезжая с Сережей тайком, сговорившись с кучером и лакеем..." Речь в письме идет об отъезде Г. Шлимана в путешествие по Волге и о проводах его сыном Сергеем) [Шлиман Е., Письма. С. 203, 204]).
Позиция Г. Шлимана продолжала эволюционировать.
4 марта 1868 года Г. Шлиман отсылает Екатерине в Петербург письмо, в котором есть такие слова: "...оставайся в Петербурге с дочерьми...", "...мне отпустишь Сережу для воспитания его в Дрездене". Далее в этом письме говориться: "...ты [избрала?] для себя русский закон, против которого мои усилия [напрасны?]. Итак я уступаю с одним лишь моральным [правом?], возлагающим лишь на Тебя одну все могущие быть [дурные?] последствия от воспитания наших детей в России". В этом 12-ти страничном письме Г. Шлиман, в частности, пишет жене: "Во сне и наяву ... я беспрестанно вижу [Тебя?] и детей наших, и желание скорого свидания с [вами?] для меня неописуемо". В этом же письме есть и такая фраза: "Я Тебе и детям привез прекрасные вещицы из Гаваны и, между прочим, [4] больших жестяных коробочки с конфектами" [Шлиман Е., Письма. С. 23, 26, 28, 30].
Генриху Шлиману Судьба в 1854 году непосредственно перед мемельским пожаром дала знак: "Держись своих коммерческих партнеров!" Он следовал этому указанию и не прогадал.
Давался ли Екатерине Петровне Лыжиной-Шлиман знак "Держись Шлимана!" – неизвестно, а если и давался, то она либо его не распознала, либо не стала ему следовать. Конечно, ее переезд из Петербурга был бы для нее психологически сложен. Она бы утратила привычную среду, а Генрих Шлиман, весьма вероятно, не стал бы прекращать путешествия и раскопки ради совместной жизни с Екатериной. Да и хотела ли она этой совместной жизни с ним? С другой стороны, после оформления Г. Шлиманом американского развода и женитьбы на Софии, Екатерина, возможно почувствовав психологический дискомфорт в привычном окружении, выехала из Петербурга, значительные периоды времени провела в Киеве и Москве. С петербургской родней можно было бы общаться, скажем, из Дрездена так же, как и из Киева... За что еще оставалось держаться? За языковую среду? Екатерина – выпускница Петришуле – знала немецкий язык; значительную часть (если не половину) ее окружения в Петербурге составляли этнические немцы; в Дрездене были похоронены ее отец и старший брат. Что-то Екатерину останавливало...
"Насколько я знаю, спор между ними возник по поводу того, где был сооружен Ноев ковчег, и так как ни к какому соглашению они не пришли, то разрыв был неминуем" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
Об одном можно сказать уверенно: ужас Г. Шлимана, выразившийся в словах "наведешь гибель и бедствие" "на бедных детей моих" (в случае непереезда из Петербурга в Дрезден) был подтвержден фактами:
1. В 1869 году в Санкт-Петербурге умерла одна из двух дочерей Наталья,
2. Потомки (и сын, и вторая дочь, и внуки) Генриха и Екатерины (Екатерина умерла в 1896 году, через шесть лет после смерти Генриха) попали в России в мясорубку предреволюционных, революционных и послереволюционных событий. Была затронута этой мясорубкой, но сумела остаться живой-здоровой и относительно благополучной лишь вторая дочь Надежда, выехавшая (таки!) из России после 1917 года за границу.
Обстоятельства смерти Сергея не ясны. Сын всемирно известного археолога-миллионера-американского гражданина-парижского рантье продолжал жить в России, в СССР. Сергей голодал, бедствовал, нищенствовал, медленно умирал, унижался, попрошайничал. Умер то ли в 1939, то ли в 1940 году. Детали его грустной судьбы изложены в книге И.А. Богданова "Генрих Шлиман. Торжество мифа", в главе 4, озаглавленной "Еще раз прощай, обожаемый мой..."[Богданов И.А., 2008 б. С. 102]. Подробности судьбы Сергея – за пределами тематики этой книги, которую читает сейчас уважаемый Читатель. Отмечу лишь, что Сергей, как и любой "обычный", не отмеченный особыми способностями, человек, может где-то как-то вызвать и иронию, и ироническое сожаление, и невольную насмешку. Тем не менее очевидно, что отец не оставлял его без поддержки. Протягивал руку. Помогал постоянно. Сам Сергей никакими особо низкими или особо дурными поступками, вроде бы, не отмечен. "Не грабил – не убивал" – если применить гиперболу. Слабости свойственны всем людям. Учился, женился, работал как мог, вроде бы вырастил трех детей. Был умеренно патриотичен. К чему-то стремился, что-то не получалось. Звезд с неба не хватал. Если бы не международные и российские события начала XX века, был бы обычным заурядным добропорядочным человеком. Возможно, даже счастливым. Но вот только события случились, и жизнь стала трагичной.
Впрочем, отметим для справедливости, что в браке с женой Анастасией (пианисткой, окончившей Петербургскую консерваторию в 1885 году с малой серебряной медалью), пусть и бедствуя, он прожил совместной жизнью, что документально зафиксировано, с начала июля 1885 года по крайней мере до июня 1931 года, то есть до семидесятипятилетнего возраста [Богданов И.А., 2008 б. С. 143, 144, 158]. О том, был ли брак счастливым, мы, вроде бы, прямых высказываний Сергея не имеем; можем судить лишь по фактам. Если брак устраивал Сергея, то, по крайней мере, в этом аспекте его можно отнести к числу людей успешных: "Дом и имение – наследство от родителей, хорошая жена – от Господа" (Прит 19:14). В случае, если Сергей дожил до 1939 или до 1940 года, то по продолжительности жизни он приблизился к своему деду Эрнсту Шлиману (1780 – 1870). Высказано мнение, что Сергей умер в возрасте 84 лет [Богданов И., 1994 г. С. 172].
По тем не формализованным правилам, которые действовали в Советском Союзе, после выхода в 1938 году первого издания книги М. Мейеровича о Г. Шлимане в последние месяцы жизни Сергея могли произойти какие-то изменения...
Судьба детей Сергея, внуков Генриха Шлимана (Андрея, Дмитрия, Сергея) также не ясна. Неясные, но трагические по сути, суждения окрашены драматизмом революционного разрушения Российской империи.
Вот деталь, которую приводит А.К. Гаврилов: "Есть в архиве Пушкинского Дома письмо Дмитрия Шлимана с западного фронта, датированное 2-1-1916 ... Молодые русские офицеры Шлиман и Энгельгардт отдыхают после марша... ...сын музыкантши Д. Шлиман аккомпанирует... О том, погиб ли Д. Шлиман во время той войны или позже от тифа, ушедшие в эмиграцию родные точных сведений не имели: не понятно даже, относится ли слух о тифе к Андрею или к обоим" [Гаврилов А.К. С. 281].
Еще жива Империя, музыка играет. Но как-то не весело...
Интересно, что Генрих Шлиман в 1877 году (уже находясь не один год в браке с Софией и имея от нее дочь Андромаху) заручился обещанием сына Сергея жениться на гречанке (предлагал сыну конкретные кандидатуры потенциальных невест) и передать двух внуков деду для воспитания [Богданов И.А., 2008 б. С.132-135]. Глубоко смотрел, далеко видел пророк Иона.
До замужества Лыжина, Екатерина Петровна взяла фамилию мужа: Шлиман. Но у нее были два брата: Николай и Павел. Оба Лыжины. Вот что писала в одной из публикаций одна из представительниц рода Лыжиных (наша современница): "От большой семьи Лыжиных в Петербурге-Ленинграде почти никого не осталось – одни уехали после революции, другие были арестованы и погибли в лагерях или умерли во время блокады Ленинграда" [Богданов И.А., 2008 б. С.196]. ("Блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Мф 5:4)).
Может быть, Е.П. Лыжиной-Шлиман за границами России было бы и грустно, и дискомфортно, и одиноко (хотя Генрих Шлиман, занятый путешествиями, раскопками, а может быть, и новым браком, вряд ли бы препятствовал общению Екатерины с детьми и петербургскими родственниками; да и окружали бы ее в Дрездене этнические немцы, представители культурных и коммерческих кругов; именно таким в значительной степени был круг ее общения в Петербурге). Но что это за грусть и дискомфорт по сравнению с теми смертями и трагедиями, которые последовали в первой половине XX века. Детям американского гражданина, миллионера, мировой знаменитости Генриха Шлимана было бы несколько легче, окажись они во второй половине XIX века в Западной Европе. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу" (Еф 5:22 ).
Читая письма Е.П. Лыжиной-Шлиман Г. Шлиману [Шлиман Е., Письма], знакомясь с деталями ее жизненного пути, приходишь к ретроспективному выводу: она была воспитанной, образованной (относительно Петришуле, в которой она училась, имеется статья в Википедии), добропорядочной, благополучной, устроенной женщиной, родившейся и выросшей среди образованных и достойных людей, по-своему любившей Петербург и Россию, желавшей добра своим детям. Ее письма написаны добротным слогом ("...Эти письма ... написанные прекрасным русским языком..." [Богданов И.А., 2008 а. С. 21]). В ее письмах слегка просматриваются задатки писательницы для женщин и юношества (спокойный, отчасти успокаивающий, ровный тон, доброжелательность, способность к рассуждениям и обобщениям, образность, формулирование роли женщины, понимание значения хорошего образования для детей). Одно из словосочетаний словно перепорхнуло из классической литературы в письмо (от 21 августа; видимо, 1853 года) Екатерины мужу: "...сердце каменное, которое ничего не [боится?]" [Шлиман Е., Письма. С. 48] (о чем или о ком идет речь, из публикации не ясно; разборчивость и качество оригиналов иногда не высокого уровня; в источнике цитирования предположительно прочитанные слова взяты в квадратные скобки со знаком вопроса). Отметим знание Екатериной немецкого языка, использование в письмах французского. В письме, датированном 20 сентября 1859 года, Екатерина писала мужу: "Le styl c'est l'homme... ...Ты, кажется, не разлюбил меня в эти 8 лет" [Шлиман Е. Письма. С. 77] ("Стиль – это человек" (фр.)).
Отметим, что слово "катастрофа" используется не только Г. Шлиманом (в автобиографии применительно к событиям, ставшим причиной прекращения его учебы в гимназии), но и Екатериной: "Я благодарю Бога, что нынешний год мне не предстояла эта катастрофа" [Шлиман Е., Письма. С.119] [Богданов И.А., 2008 а. С. 320]. Круг общения семьи Лыжиных – ученые, преподаватели, коммерсанты – очень положительно (как убедительно показал А.К. Гаврилов в книге "Петербург в судьбе Генриха Шлимана") повлиял на мировоззрение и образовательный уровень российского миллионера, увлеченного Гомером.
Екатерина никогда не "служила" [Богданов И.А., 2008 б. С. 57]. В смысле – не работала по найму. Впрочем, из ее писем вырисовывается картина весьма плотной загрузки обязанностями по воспитанию детей и руководству хозяйством и домом. Генрих Шлиман подолгу отсутствовал ввиду деловых поездок, путешествий. ("Неугомонный путешественник, проведший жизнь в дороге" [Богданов И.А., 2008 б. С. 315].)
С некоторой долей условности ее обязанности можно приравнять к обязанностям руководителя частного семейного детского сада, воспитателя. Во втором браке аналогичные обязанности, связанные с детьми (сыном и дочерью), выполняли многочисленные и дружные родственники со стороны гречанки Софии, а так же – нанятые воспитательницы.
Возможность и необходимость компромисса Екатерины с Генрихом Шлиманом была, но была для нее неочевидной. Не каждому дан пророческий дар, или дар понимания правоты того, кто таким даром обладает. Да и само прозрение будущего еще не равно эффективным действиям по адаптации к этому будущему.
С какого-то момента (январь 1869 года) Екатерина и Генрих пошли по жизни своими путями. Дети Генриха Шлимана от первого брака, несмотря на его усилия, предпринятые после приезда в марте 1866 года в Петербург, остались в России. Материальную поддержку Екатерине и детям Генрих Шлиман продолжал оказывать.
11.2. ХИТРОУМНЫЙ ОДИССЕЙ И СОФИЯ: ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮТСЯ.
Отношения Генриха Шлимана со второй женой, Софией, уроженкой солнечной Греции, также были не простыми, но у него ко времени второго брака имелся опыт семейной жизни.
К тому же, на второй брак, возможно, положительное влияние оказывалось родственником Софии епископом Вимпосом. (Влияние Православной Церкви в Греции в силу ряда причин было очень и очень существенным). В феврале 1869 года Г. Шлиман, не имевший интимных отношений с женщиной шесть лет, отправил бывшему своему наставнику в изучении новогреческого языка Теоклетосу Вимпосу письмо с просьбой найти Генриху жену-гречанку. ("...От предложения русской царицы отказался с такою же твердостью, какую всегда проявлял в отношении других, домогавшихся моей близости и предлагавших мне свою руку, королев" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена). "Вимпос мудро ответил: "Того, кто выбирает жену, можно сравнить с человеком, перед которым мешок, полный змей, среди них – одна-единственная черепаха; если он вытащит черепаху, значит ему повезло, а если змею, значит очень не повезло"" [Богданов И.А., 2008 б. С. 59-61, 65]. После такого выразительного ответа Г. Шлиман не мог не задуматься; возможно в списке приоритетных направлений своих усилий брак он передвинул ближе к первому месту. Представьте, каких навыков и качеств требует попытка хотя бы просто поместить руку в мешок со змеями. (Вытащить из мешка – это отдельный этап). Для Г. Шлимана, способного достаточно быстро приобретать новые навыки и знания, важно было правильно сформулировать и поставить перед собой задачу.
С другой стороны, может быть "подключение" епископа Вимпоса к выбору второй жены помогло Г. Шлиману избежать необходимости иметь дело с "мешком, полным змей".
Разрыва со второй женой Г. Шлиману пережить не довелось; звучали ли какие-либо пророчества, и как они воспринимались – сказать сложно. Впрочем, археологические пророчества звучали – и сбывались. Но интересна общеизвестная деталь, которая позволяет предположить, что к периоду второго брака Г. Шлиман овладел искусством выстраивания семейных отношений. Деталь эта – одевание на Софию украшений из троянского клада и фотографирование ее в этих украшениях. Эти действия Г. Шлимана описываются с точки зрения гордости за свою молодую, красивую жену и с точки зрения популяризации троянских находок.
А ведь у этих действий был еще и семейно-креативный аспект. Г. Шлиман украшением своей жены троянскими сокровищами и фотографированием продемонстрировал – и очень изящно – свою мужскую эксклюзивность. Никто не мог с ним соперничать по той простой причине, что никто иной не мог ни раскопать древнюю Трою, ни обнаружить клад, ни вывезти тайно артефакты, ни защитить их в судебном порядке от претензий Османской империи. Широким (общемировым) распространением фото Софии в троянских украшениях всему миру было показано, что муж этой женщины (большими буквами) ГЕНРИХ ШЛИМАН. И сделано это было достаточно тонко и изящно. С "женихами" "разбираться" не пришлось; они просто не появились. Одиссей продолжал прогрессировать.
(Украшение Софии троянскими драгоценностями из "клада Приама"... Как-то невольно вспоминаются "массивные золотые браслеты" на руках (второй) молодой жены отставного пастора Эрнста Шлимана Софии, которые Генрих увидел в 1841 году [Штоль. С. 72]).
В истории взаимоотношений Генриха и Софии много деталей, показывающих появление у главы этой семьи навыков тонкого искусства выстраивания внутрисемейных отношений. Мне кажется, что заслуживает отдельного упоминания выступление Софии с докладом о троянских раскопках 8 июня 1877 года (на восьмом году семейной жизни) в зале библиотеки Лондонского общества любителей древности [Вандерберг. С. 387]. Вечером этого же дня в честь Шлиманов лорд-мэр Лондона дал банкет, на котором присутствовали представители всех десяти ученых и литературных обществ, перед которыми Г. Шлиман выступил в Англии с лекциями [Стоун. С.384]. София и Генрих Шлиманы были избраны почетными членами Королевского археологического института [Богданов И.А., 2008 б. С. 234].
"Я так и заявил генералу:
– Не нужно мне ни орденов, ни чинов! Я помогаю вам по дружбе, бескорыстно. Просто потому, что я очень люблю англичан. (...)
...И похлопал старика по плечу. Я рад служить британскому народу" (Э. Распэ. Приключения барона Мюнхаузена).
Участие в такого рода событиях подчеркивало, что София выходит в какой-то мере из традиционного греческого окружения и родственного круга и оказывается частью единого целого – семьи Шлиманов.
А в октябре в Греции состоялась выставка микенского золота. "Выставку посетили король с королевой и пригласили Шлимана во дворец на обед" [Стоун. С. 389]. Отметим, что женой Георга I, короля Греции, была представительница Дома Романовых (а сестра Георга I – мать Николая II).
Г. Шлиман и его вторая жена София вступили в переписку с жившей в России Еликонидой Никифоровной Латкиной (частой гостьей в Петербургском доме Шлиманов, близкой подругой первой жены Генриха Шлимана, воспреемницей (крестной матерью) Сергея и Натальи, детей от первого брака. В письме (датировано 15 февраля 1880 года) Андрею Аристовичу Шлиману Е. Н. Латкина, ранее получившая почтой от супругов Шлиманов портрет Софии, высказывала свои чувства: "Лицо супруги Вашей мне очень понравилось. ...много интересных достоинств, ума и красоты, которые ясно говорят о добром сердце любящей жены и прекрасной матери семейства... ...Слава Богу, что Вы нашли наконец свое семейное счастье..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 166, 168]. Такие письма (особенно – присланные из России "прежними" знакомыми Генриха, а в России американский развод Г. Шлимана официально не признавался) способствовали душевному равновесию и Генриха, и Софии, "лили воду на мельницу" семейного мира и согласия. ("Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем" (Еккл 9:9)).
По специальному поручению отца Сергей Шлиман передал Е. Н. Латкиной экземпляр книги великого археолога (скорее всего это были "Микены", вышедшие на английском в 1878 и 1880 годах) [Богданов И.А., 2008 б. С. 172].
И жизненный опыт, и знание древнегреческой, древнеримской мифологии способствовали некоторым обобщениям. Например, в письме, отосланному Р. Вирхову 6 января 1881 года, Г. Шлиман писал: "У моей жены, как и у всех женщин, есть темная сторона – она честолюбива. Во имя всех богов, используй эту ее сторону..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 245-246]. "Юнона – древнеримская богиня, супруга Юпитера", "всегда советовалась со своей "правой рукой" Минервой, богиней мудрости и искусств, а её "левой рукой" считалась "тёмная" богиня Церера". ["Юнона"]. В браке с Софией Генрих прожил 21 год (с 1869 по 1890). Он писал жене в 1890 году, может быть, подводя итоги: "...Судьба уготовила нам много печалей и много радостей. (...) По-моему, наш брак удался. Ты всегда была для меня любящей женой, добрым товарищем, неизменно поддерживала меня в трудную минуту ... ты была отличной матерью. Я ... уже готов жениться на тебе в следующей жизни" [Богданов И.А., 2008 б. С. 263].
У выдающихся людей слегка уязвимой областью иногда является семейный тыл. Сохранилось одно из воспоминаний относительно Софии Шлиман: "Она была очень красивой женщиной... Я никогда не видела, чтобы она смеялась" [Вандерберг. С. 433]. Казалось бы, несколько странная особенность для молодой красивой женщины: "никогда не смеялась". Но если вдуматься, то можно сделать предположительный вывод о мудром создании Софией Шлиман ощутимой дистанции, отделявшей семью Шлиманов от окружающего мира.
Интересно изменение аргументации Генриха Шлимана при проведении переговоров о втором браке. Епископу Вимпосу он писал о требованиях к своей будущей жене: "Она должна восторженно любить Гомера и стремиться к возрождению нашей любимой Греции" ["Шлиман, Генрих"].
А при встрече с Софией в августе-сентябре 1869 года задал вопросы:
"– Хотелось бы вам совершить длительное путешествие?
– Вы не помните, когда император Адриан посетил Афины?
– Что вы знаете наизусть из Гомера?" [Мейерович М.Л. С. 85].
Насколько можно судить по информационным источникам, ответы Софии были удовлетворительными. Так что уважаемый Читатель может сравнить свой уровень знаний с уровнем выпускницы женской гимназии Арсакейон. (При этом все же примем во внимание, что гимназия была столичной, афинской и лучшей в Греции [Стоун. С. 12]).
"По пути мы не встретили ничего удивительного, кроме нескольких летающих женщин, которые порхали по воздуху, как мотыльки" (Э. Распэ. Приключения барона Мюнхаузена)..
А в июле 1869 года в письме Екатерине (первой жене), сообщая о разводе, он использовал другую аргументацию: "...Я многократно Вам предлагал огромное независимое состояние покупкою на имя Ваше в С.Петербурге, еще до отъезда Вашего, недвижимость в 100 т[ысяч] и даже в 200 т[ысяч] р[ублей], если б Вы хотели исполнить священный Ваш к мужу Вашему долг" [Шлиман Е., Письма. С. 33].
Услышав от Софии ответ, что ее согласие на брак мотивировано материальными соображениями, Генрих добился "переигровки". "Клянусь, что самой большой моей заботой будет сделать вас счастливым", – исправившись, написала София, начиная понимать, что имеет дело с гением. В ответ Генрих сообщил 16 сентября 1869 года: "В своем письме Вы выказали свое уважение и любовь ко мне, обещая мне домашнее счастье, самое большое из земных удовольствий". 23 сентября 1869 года брак состоялся. "Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем" (Песн 8:7).
Видимо, методы построения семейного счастья были Генрихом Шлиманом существенно усовершенствованы.
Конечно, семейная жизнь сложнее отдельных схематических рассуждений, но все же некоторые особенности внутрисемейных отношений Г. Шлимана – расставание с первой женой и выстраивание отношений со второй женой – заслуживают описания, хотя и весьма краткого.
Отметим, что знаки Зодиака у Генриха и у Софии совпадали ("Козерог"); и еще одно соображение – впрочем, не особенно существенное, но кому-то из читателей оно может показаться любопытным: еще "немного" и даты рождения Софии и Генриха отделял бы 32-летний цикл.
Один из законов успеха Генриха Шлимана можно было бы сформулировать следующим образом: "Сохраняй семью до последней возможности, но не становись жертвой".
Глава 12. ГЛЯДЯ НА КОПЕЙКИ, НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДА РУБЛИ.
Если говорить об эмоциональной стороне брака, то, как мудро сказал один из писателей, «это дела семейные». Видимо, стороннему анализу они мало поддаются.
Что касается финансовой стороны, то во многих информационных источниках возникает тема экономности, может быть чрезмерной, Генриха Шлимана.
Что сказать по этой теме? Существуют ситуации, где каждый по-своему прав. Если говорить о Генрихе Шлимане, то на нем лежала ответственность за открытие Трои, которое и к моменту начала первого и к моменту начала второго брака еще не состоялось. Длительность раскопок, уровень и период предстоящих расходов – все это было под вопросом.
"Громадные суммы", "несметные богатства" – все это весьма относительные понятия.
Екатерина Лыжина-Шлиман из Петербурга в одном из писем мужу в 1864 году описывает ситуацию: "Вообрази, что Сидоров, приехавши сюда, привез около 100000, из этой суммы у него осталось около 2000, все остальные он роздал туда-сюда" [Шлиман Е., Письма. С. 178]. Описываемое Екатериной явление не было тайной для Генриха, о чем свидетельствуют, например, такие его слова: "Деньги, проедаемые на устрицы, пропиваемые на шампанское, проигрываемые в карты, летят сотнями тысяч из карманов людей и награждают их болезнями и бессонницей" [Богданов И.А., 2008 а. С.170].
В письмах Екатерины есть и упоминания о людях ее круга, поначалу состоятельных, но затем оказавшихся в критической финансовой ситуации. Генриху Шлиману таких примеров искать не нужно было; к нему направлялись многочисленные обращения об оказании финансовой помощи. От попадания в катастрофическую материальную ситуацию Екатерина была гарантирована – и именно благодаря той политике экономности, которую проводил Генрих. Возможно, при написании вышепроцитированных строк Екатерина подумала, что не так уж и не прав экономный Генрих.
С другой стороны, и первый брак, и второй брак Г. Шлимана состоялись уже тогда, когда молва бежала впереди успешного и богатого коммерсанта. В такой ситуации браку предшествовали определенные финансовые ожидания. Возникающие разочарования трансформируются в отрицательные эмоции. Касаясь темы выделения ей средств мужем, Екатерина писала в письме от 21 августа 1853 года: "Даже экономии ты этим не достигнешь. Во всем Твоем поведении есть столько мелочного, пустого; ты смотришь на копейки, а упускаешь из виду рубли; это худой расчет..." [Богданов И.А., 2008 а. С. 48].
С большой долей условности можно выделить две группы лиц: (а) тех, о ком достоверно известно, что они получали финансовую помощь, поддержку, денежные средства от Генриха Шлимана; (б) тех, кто обращался к Г.Шлиману за денежной поддержкой, но неизвестно, была ли она оказана. (Обращение сохранилось, а сведений о реакции на него нет).
И первая, и вторая жена Г. Шлимана относились к первой группе. Они могли испытывать финансовые затруднения в связи с тем, что периоды затрат не совпадали с периодами поступления денег (от него), но никогда не испытывали финансовой нужды. Предполагаю, что разница между понятиями "затруднения" и "нужда" общепонятна.
София, вторая жена Г. Шлимана, видимо, своевременно адаптировалась к его политике экономности, и замечания мужа насчет необходимости завтракать для экономии не в гостинице, а "где-нибудь по соседству" ("пусть глупцы и сумасшедшие тратят на завтрак семь франков, а ты расходуй полтора-два" [Богданов И.А., 2008 б. С. 229]) воспринимала философски. Скорее всего, у нее так же, как и у мужа, развивалось искусство налаживания внутрисемейных отношений. Впрочем, сама история второго брака прямо свидетельствует о финансовых ожиданиях.
Как показала семейная жизнь Генриха Шлимана и в первом, и во втором браке семейный покой также стоит денег. И неправильный (недостаточный) уровень инвестиций в это благо оборачивается крупными эмоциональными и материальными издержками.
Во втором браке ситуация облегчалась тем, что после начала брака были найдены "сокровища Трои", раскопки состоялись, и Генрих Шлиман мог вздохнуть с облегчением.
То, что к моменту вступления Генриха Шлимана и в первый, и во второй брак у будущей жены и у ее семьи формировались значительные предварительные ожидания – понятно. Вопрос в том, насколько формирование этих ожиданий было результатом сознательных усилий Г. Шлимана? Молва сама бежит впереди человека. Можно ли появление этих ожиданий поставить в вину Генриху Шлиману?