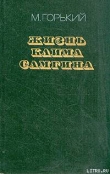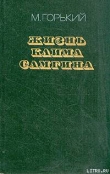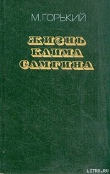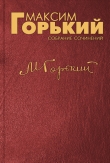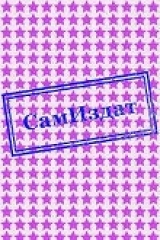
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
9.5. ."КЛАД ПРИАМА". ОДИССЕЮ ОТ АФИНЫ ПАЛЛАДЫ. (1871-1873-1875 гг.).
Но не случайно на склоне дней Генрих Шлиман «стал злоупотреблять гомеровской формулой „Слава Афине-Палладе!“ [»Шлиман, Генрих"]. Действительно, Афина Паллада вмешалась и помогла хитроумному Одиссею. В 1871 году Фредерик освобожден, направился на место своей прежней дипломатической службы, в Троаду. Возможно, нужна была какая-то поддержка Г. Шлимана, к этому времени обладавшего и солидным денежным капиталом, и связями в разных европейских столицах, да и в Стамбуле. (Имея ввиду раскопки на месте древней Фимбры, Фрэнк Калверт использует словосочетание «могущественное содействие доктора Шлимана» [Шлиман Г. Илион. Т.2.С. 435]). Условно это высказывание Фрэнка Калверта можно датировать 1881 годом.
24 июня 1875 Генрих Шлиман сделал доклад в Лондонском обществе древностей. Он приехал в Лондон для доклада по приглашению У. Гладстона ["Шлиман, Генрих"]. Уильям Гладстон был влиятельнейшей политической фигурой Великобритании (несколько раз становился премьер-министром). У. Гладстон и Г. Шлиман были увлечены Гомером. В дальнейшем У. Гладстона и Г. Шлимана связывали доброжелательные, возможно отчасти дружеские, отношения. В Англии Г. Шлиман завязал знакомства в самых разных общественных кругах, в том числе, и в политической элите. Те, кто считали себя и считались британцами, прикладывали свои силы в консульской сфере, не могли не учитывать связей Г. Шлимана. (Привози с собой Гомера!..).
1871-1873 годы. Масштабные раскопки на холме Гиссарлык, организованные Г. Шлиманом.
Османская администрация была занята нарастающими проблемами громадной страны; раскопками этого богатого увлеченного археолога особо плотно заниматься не могла.
Кто мог предполагать невероятный уровень энергичности, жизнестойкости Г. Шлимана? Кто мог прогнозировать поток непрерывных писем, публикаций, плотных контактов с людьми из разных социальных слоев, его организационный талант, его устойчивость к высокому уровню заболеваний малярией, решимость идти на крупные финансовые затраты, то, что он начнет с невиданной скоростью и решимостью "разрезать" холм траншеей на две части, что он, наконец, найдет "клад Приама". (Насколько все было трудно и непросто показывает простой пример: хищение золотого клада (не "клада Приама") местными жителями (нанятыми для раскопок), позднее выявленными и арестованными османской администрацией).
В общем, все произошло так, как и должно было произойти: Г. Шлиман потратил много денег, много энергии, много здоровья и сил. Трудности нарастали. Настало время оставить раскопанный холм сособственникам, себя объявить открывателем Трои, оценить свои затраты. В ответ от научного и неученого сообществ выслушать неразборчивые фразы, частично – насмешливые.
(Кстати, существование такого типа жизненных сценариев не было для Г. Шлимана секретом. Например, в одном из его писем в Россию, отосланном 26 января 1868 года, есть такая фраза: "Судя по большим его умственным способностям, он создан был для блистательного поприща, но по странному капризу судьбы он – несмотря на неутомимые работы свои – должен был провести всю жизнь свою в проектах несбыточных или неудачных" [Богданов И.А., 2008 б. С.184-185]).
И что дальше? Далее проживать в роли чудака-миллионера "с историей", существенно потратившегося на свои фантазии? Постепенно бы нарастал поток туристов к раскопанному холму Гиссарлык, а с ними и cash-flow (англ.: денежный поток) (так и произошло в действительности), продолжались бы (потихоньку) раскопки. Все были бы довольны. Кроме Г. Шлимана.
Но Божественное Солнце Удачи засверкало своим ослепительным светом хитроумному Одиссею.
Масштабные раскопки Генриха Шлимана завершились в 1873 году нахождением "клада Приама" ("золота Приама", "троянского золота").
В этой ситуации не только "не с руки" было "подсекать рыбу", но, быть может, Г. Шлиман мог рассчитывать на "эффект дренажной трубы". И "сокровища Приама" перетекли (как версия) из Троады в Грецию по дипломатическим каналам.
А вот те, кто помогал ему приватно вывозить "клад Приама", наверное, считали, что Генрих Шлиман прощается с Троадой и с холмом Гиссарлык навсегда. Да и перспектива крупных неприятностей для Генриха Шлимана могла просматриваться. Чего стоил обыск, проведенный в его доме в Афинах [Вандерберг. С. 380].
Уточним и подчеркнем немаловажную деталь. Генрих Шлиман, вывозящий за границу Османской империи "золото Приама", найденное в 1873 году, был с официальной точки зрения правонарушителем. Это понимали все, в том числе и те, кто непосредственно занимался переправкой ценностей. Как формальный правонарушитель он должен был укрыть троянское золото, не привлекать к себе внимания, и, наверное, не появляться более в Троаде, на Гиссарлыке. Однако Генрих Шлиман ставил не только ближайшие задачи: найти "клад Приама", вывезти его в Европу, стать его фактическим владельцем.
Это было бы "так просто"! За этими задачами следовала не менее труднодостижимая цель: легализовать, цивилизовать, то есть сделать достоянием цивилизации, найденные археологические ценности.
Успех Г. Шлимана был закреплен чуть позже находками в Микенах, хотя найденные там ценности Г.Шлиману по условиям раскопок не достались и достаться не могли. Взаимное усиление: Троя "сработала" на Микены, а Микены – на Трою.
9.6. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ «ПОХИЩЕНИЕ». «ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА». АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МИР.
«Клад Приама» вынес Г. Шлимана на вершину славы. Победное золото заставило публику, а с публикой и ученый мир, забыть (хотя бы на время) все вопросы и проблемы. Победителей не судят. Публикации Г. Шлимана о найденном и вывезенном кладе (что взрывало стандартные стереотипы поведения) спровоцировали османскую администрацию на судебное преследование.
"...Я вблизи Константинополя извлек из глубины самый знаменитый из всех кладов и, ни от кого не таясь, во всех газетах перечислил найденные мною предметы", писал Г. Шлиман [Вандерберг. С. 362-363].
"По-видимому, его величество не выдержало и решило вернуть себе так неожиданно исчезнувшие, хотя и на вполне законном основании, сокровища..." (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
Судебный процесс стал началом социально одобренной трансформации правонарушителя в спасителя троянского золота.
Между Троей и Микенами Г. Шлиман вступил в судебное противоборство с Османской империей, и свел его (противоборство) к ничьей. По решению греческого суда за Г. Шлиманом остался "клад Приама", в пользу Османской империи был присужден денежный компенсационный платеж в 10000 франков. Г. Шлиман без промедления выплатил не 10000, а 50000 франков. Завершение процесса материальной компенсацией датируется 1875 годом [Вандерберг. С. 582].
Маневр Г. Шлимана с уплатой штрафа в пятикратном размере – это еще одна социальная инновация Генриха Шлимана, открывшая ему возможность вновь посещать Троаду и возобновить раскопки на Гиссарлыке.
Такого хитроумия от Г. Шлимана мог ожидать только тот, кто мог верить его беседам во сне с Одиссеем.
Османская администрация была весьма удовлетворена и вступила с Г. Шлиманом в переговоры о выдаче нового фирмана на право новых раскопок холма Гиссарлык. ("В 1934-1981 годах афинский особняк Г. Шлимана использовался как резиденция Верховного кассационного суда" ["Илиу Мелатрон"]; можно ли оценивать этот факт как своего рода послежизненную комплиментарность Генриха Шлимана в адрес греческого правосудия?).
Конечно, нарушение Генрихом Шлиманом договора о разделе находок и тайный вывоз "клада Приама" из Троады в Грецию на меня поначалу произвели неприятное впечатление. (Г. Штоль мотивирует действия Г. Шлимана тем, что Османская империя "первая нарушила договор" [Штоль. С. 256]). После размышлений на эту тему и усвоения того, что выгодность положения совладельцев Гиссарлыка доказывается продолжением их сотрудничества с Г. Шлиманом уже после вывоза "клада Приама" за границу Османской империи и завершения судебного разбирательства с выплатой Г. Шлиманом удовлетворительной компенсации, я пришел к выводу, что тайный вывоз "клада Приама" стал исправлением той суммы условий сделки, которые являлись кабальными. В результате внешне незаконных действий (тайный вывоз найденного золота) (и с учетом последующих удовлетворительных денежных компенсаций со стороны Г. Шлимана, а также присвоения османской администрацией части троянского золота, выявленного у похитителей-рабочих; это "дополнительное" золото было также раскопано, найдено "на средства" Г. Шлимана) сделка утратила характер кабальной и приобрела характер взаимовыгодной.
Когда мы обсуждает факт нарушения Генрихом Шлиманом договоренностей относительно судьбы троянского золота, мы поступаем весьма умозрительно, не понимая тогдашних исторических реалий. Для серьезных высокопоставленных людей колоссальной империи раскопки были делом далеко не первостепенным. Много ненужных отвлечений, а золота сколько? Несколько килограммов (в лучшем случае). Можно предположить, что в казне огромной Османской империи счет золота велся на тонны. Все эти раскопки больше возбуждали европейскую прессу, создавали разного рода хлопоты и беспокойства, чем обеспечивали поступление в бюджет реальных денежных средств, которых государству, как правило, не хватает. Конечно из уважения к авторитетным иностранным дипломатам разрешение на раскопки выдать можно... Но как бы сократить объем беспокойств, тянущихся за этими изысканиями? "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовали 10 (22) ноября 1871 года заметку, в которой, в частности, говорилось, что Г. Шлиману "выхлопотал султанский фирман поверенный в делах Северо-Американских Штатов" Джон П. Браун, "сам человек очень образованный, и писатель". Комментируя эту информацию, И.А. Богданов делает примечание: "В марте 1872 года Браун дал Шлиману совет: "Если будете находить небольшие предметы, кладите их в карман... Вы не должны находить большое количество золота или серебра..."" (при цитировании И.А. Богдановым Дж. П. Брауна сделана ссылка на Trail D.) [Богданов И.А., 2008 б. С. 211-213].
"...Султан пришел в восторг (...) и приказал немедленно позвать казначея.
– Я разрешаю моему другу Мюнхаузену взять из моих кладовых столько золота, сколько может унести за один раз один человек, – сказал султан.
Казначей низко поклонился султану и повел меня в подземелья дворца, доверху набитые сокровищами. (...) Я нанял огромный корабль и доверху нагрузил его золотом.
Подняв паруса, мы поспешили выйти в открытое море, пока султан не опомнился и не отнял у меня своих сокровищ. (...) Едва мы отъехали от берега, казначей побежал к своему повелителю и сказал ему, что я дочиста ограбил его кладовые. Султан пришел в ярость и послал за мной вдогонку весь свой военный флот. (...) ... Весь турецкий флот в одну минуту отлетел от нас обратно в гавань. А наш корабль... быстро помчался вперед и через день добрался до Италии" (Э. Распэ. Приключения барона Мюнхаузена).
9.7. ПРОГНОЗИСТ, ФИНАНСИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО БЮДЖЕТИРОВАНИЮ, ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ.
Коротко отметим, что при организации раскопок в Троаде Г. Шлиман проявил себя как первоклассный прогнозист, финансист и специалист по бюджетированию.
Сопоставим (а) плановые (расчетные) и (б) фактические расходы на раскопки.
(а) Плановые расходы на раскопки.
Пробные раскопки на холме Гиссарлык, проведенные до начала основных троадских усилий, позволили "Шлиману оценить объём и стоимость работ: ... Он писал, что раскопки должны занять не менее 5 лет (при продолжительности полевого сезона не менее 3 месяцев). Если содержать одновременно 100 рабочих, бюджет археологической экспедиции оценивался в 100 000 франков ["Шлиман, Генрих"].
При таком прогнозе раскопки бы заняли 5 лет * 3 месяца = 15 месяцев.
Среднедневные расходы составляли бы 100000/15/30=222 франков в день (примерно).
(б) Фактические расходы:
400 франков – сумма (близкая к максимальному фактическому уровню) средних ежедневных расходов Г.Шлимана в период археологических раскопок на Гиссарлыке [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 64].
Из сопоставления (а) плановых (расчетных) и (б) фактических расходов на раскопки можно сделать вывод о том, что примерный уровень расходов был спрогнозирован Г. Шлиманом правильно, он сумел рассчитать и спланировать бюджет раскопок, создать финансовые резервы, что обеспечило бесперебойность финансового обеспечения нарастающих археологических затрат, стало одной из важнейших слагаемых Золотого троянского успеха.
Будучи (или оказавшись) специалистом по приобретению недвижимости, Г. Шлиман не приобретал в собственность тех участков, на которых производил раскопки (хотя вел предварительные переговоры). Каково объяснение такой позиции? Самое простое объяснение состоит в том, что стороны не сходились в цене. Так оно и случалось; но раскопки-то, тем не менее, осуществлялись. Возможно, Генрих Шлиман сознательно или интуитивно оценивал уровень своих предстоящих археологических достижений как – мировой; Г. Шлиман контактировал с правительствами, с первыми лицами; а те, в свою очередь, решали возникающие вопросы с частными собственниками. Вопросы мирового культурного развития объективно становились выше задач защиты "суверенитета" частных собственников; интересы мирового культурного развития "слегка отодвигали" интересы частных собственников. В каком-то смысле положение "археологического открывателя" отличается от положения "археологического помещика". Еще в XIX веке государства поняли близость их интересов и культурных интересов человечества.
Активное взаимодействие с представителями различных правительств и дипломатических структур по поводу организации раскопок и судьбы археологических ценностей сделало Генриха Шлимана лидером (может быть, основоположником) общественной археологической дипломатии.
9.8. «РАСКОПАТЬ ТРОЮ». ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ. (1876 год).
Когда, в какой момент Г.Шлиман окончательно стал победителем?
Вопрос не имеет однозначного ответа. Длительное время Г. Шлиман не получал положительной реакции от европейских правительств на свои предложения передать "клад" для размещения в солидном европейском музее. То есть, Г. Шлиман воспринимался как фигура потенциально скандальная, не до конца понятная. Да и "клад" как археологические артефакты требовал дополнительного изучения. Ф. Вандерберг отмечает: "В статье в газете "Левант Геральд" консул Фрэнк Калверт высказал мысль о том, что хотя Шлиман действительно обнаружил большое количество украшений на гиссарлыкском холме, однако сосуды, кувшины и кубки из чистого золота были заказаны им у одного ювелира. Правда, доказательств этому Калверт не представил" [Вандерберг. С. 373]. Г. Шлиман пытался продолжить раскопки холма Гиссарлык, настаивал на выдаче ему османской администрацией нового фирмана, получил его, и приехал в Троаду в 1876 году. В этой ситуации возникала уже прежде существовавшая система рисков: изменение официальных правил раскопок и определения судьбы найденных артефактов, уровень законопослушности и дисциплинированности местных жителей, влияние близлежащих малярийных болот и высокий уровень заболевания малярией, дефицит хорошей питьевой воды, трудно поддающаяся прогнозированию смена благоприятных для раскопок периодов на неблагоприятные, сложности финансового и ресурсного обеспечения, проблемы транспортировки, вопросы безопасности, семейные, личные обстоятельства Г. Шлимана и его жены Софии, и т.д. Риски был реальны. У представителей османской администрации накопился опыт. Достаточно было комбинации двух обстоятельств – (1) выбывания Г. Шлимана (по причине болезни, вовлечения в скандал, любой другой), и (2) продолжение раскопок другим лицом – и ситуация приобрела бы неоднозначный характер. Вспомним: первым правильно предсказал местонахождение Трои якобы еще Макларен. Калверты, да и фон Хан, осуществляли раскопки до Г. Шлимана, Фрэнк Калверт присутствовал в начале троянских раскопок Г. Шлимана. Очередные "открыватели Трои" (при таком варианте "замены" Г. Шлимана) продолжают дело "предшественников"... Да, Генрихом Шлиманом найден "клад". Но много критики, сомнений, подозрений. И что конкретно этот "клад" доказывает? Золото ослепило публику, но не ученых; у них усилились сомнения... К тому же, на Гиссарлыке этот клад, как оказалось, – не единственный. (С 9 октября по 27 ноября 1878 года – уже после блистательных и бесспорных открытий в Микенах (в Греции), – при последующих троянских раскопках Г. Шлиману удалось найти еще четыре золотых клада [Мейерович М.Л. С. 134] [Богданов И.А., 2008 б. С. 237]). Г. Шлиман упоминает еще о пяти кладах [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 98, 101]. Попробуй разберись, кто именно – случись неблагоприятный для Генриха Шлимана разворот событий – является открывателем Трои.
Ситуация требовала (хотя бы временного) прекращения Г. Шлиманом троянской эпопеи. Даже если он этого не понимал и не хотел.
Настала пора выплывать из Дарданеллского садка (несмотря на весь азарт).
Снова вмешалась Афина Паллада и помогла хитроумному Одиссею. Препятствия, создаваемые османской администрацией, несмотря на формально выданный фирман, разочаровали Г. Шлимана. Он принял решение о перемещении деятельности в Грецию. Прекращение Г. Шлиманом в конце июня 1876 года раскопок в Гиссарлыке и начало реализации его планов начать раскопки в Греции (Тиринфе и Микенах) стали для Фредерика Калверта "упавшим флажком" на шахматных часах. Троадские риски для Г. Шлимана обнулялись. Его энергичная личность перемещалась в Европу, где и продолжала сверкать своими талантами. Вряд ли кто-либо решился бы противопоставлять себя в деле открывания Трои живому, свободному, деятельному, знаменитому Г. Шлиману (пусть и отсутствующему в Троаде).
Братьями Калвертами с этого момента утрачивалась объективно существовавшая возможность стать открывателями Трои.
24 июля 1876 года в "Таймс" публикуется письмо Г.Шлимана с протестом против помех со стороны османской администрации [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 88]. Через два дня, 26 июля 1876 года, Фредерик Калверт умер на своей ферме в Троаде (надгробие на консульском кладбище Чанак) [Consuls]. (Разумеется, излагаемые сведения не ставят под сомнение диагноз, если таковой был поставлен Фредерику Калверту на момент смерти или перед его кончиной).
Холм Гиссарлык и стены Трои остались в руках прежних собственников. Братья Калверты, как помощники Г. Шлимана в троянских раскопках и троянских открытиях, вошли в историю. Фрэнк Калверт продолжал сотрудничество с Г. Шлиманом. Такая роль обеспечила Фрэнку Калверту вполне достойное место в истории мировой археологии.
"Мы сидели с генералом Эллиотом за завтраком, который, правду сказать, был превосходен, когда на наш стол неожиданно упала вражеская бомба. Генерал, как это сделал бы каждый на его месте, убежал, а я схватил бомбу и, прежде чем она успела разорваться, отнес ее на пустынное место на краю крепости. Не успел я передохнуть после этого, как внимание мое привлекло какое-то движение у неприятеля. Взбежав на высокую скалу, я направил туда подзорную трубу. И что же оказалось? Английский генерал и английский полковник, с которыми лишь накануне мы прекрасно провели вечер, оказались захваченными в плен во время разведки и сейчас должны были быть повешены.
Раздумывать было некогда. Я схватил бомбу, только что принесенную мною, и при помощи своей пращи метнул ее в неприятельскую группу. Расчет мой оказался правильным: бомба убила всех присутствующих, кроме двух пленников, висевших уже высоко над землею, ибо я приурочил свое движение к моменту, когда их только вздернули. От сотрясения же почвы виселица, разумеется, упала, и повешенные оказались лежащими на земле. Они тотчас же вскочили на ноги, освободили друг друга и бросились к берегу, где без труда нашли испанскую лодку, и через несколько минут мы уже все вместе, после радостных приветствий, продолжали прерванный завтрак у гостеприимного генерала Эллиота" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
Понимали ли братья Калверты – Фредерик, Джеймс и Фрэнк – свое предназначение: раскопать древнюю Трою? Приняли ли план действий, адекватный этому предназначению? Согласились ли бы они вообще с такой постановкой вопроса? Этого мы уже не узнаем... Но ведь имели возможность занять место в истории совсем неподалеку от своего предка лорда Джорджа Калверта. Красиво бы смотрелись ...
В письме сыну Сергею Г.Шлиман написал 24 июня 1870 года: "Я сделал то, что никто никогда не делал, а также то, что никогда никто не сделает" [Богданов И.А., 2008 б. С.129].
У братьев Калвертов не возникло прямых претензий к Г. Шлиману, но потомки заявили некоторые требования в отношении части троянских находок ["Frank Calvert"].
"...Я прицелился слишком высоко, и топорик, взлетев вверх, зацепился за краешек серповидной Луны и повис на нем" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
Турецкие официальные лица предельно внимательны. 16 апреля 1996 года в Москве открылась выставка коллекции Шлимана. "...Турецкие дипломаты, находившиеся в Москве, в знак протеста не присутствовали на открытии выставки. Турецкий министр культуры даже выступил с заявлением, что древние сокровища Трои должны быть возвращены Турции" [Богданов И.А., 2008 а. С. 15].
9.9. ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ (ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ («JULIUS», «HEINRICH»).
О «магии имени» – еще немного.
Johann (Иоанн?) Ludwig Heinrich Julius Schliemann – полное имя Г. Шлимана. Процитирую, в дополнение, еще несколько фраз, способных дополнить тему магии имени относительно двух имен: (1) Юлий (основная ассоциация – Юлий Цезарь) и (2) Генрих (Hen(d)ric / Indric / Эрик) (см. [Гаврилов А.К. С. 69]); (имени "Эрик" может быть придано значение "яростный").
Ф. Вандерберг пишет: "Дух захватывало от темпа жизни этого эксцентричного человека. Ежедневно он – как бы между прочим – писал по двадцать писем. Цезарь, во многом служивший для него примером, был знаменит тем, что мог одновременно делать несколько дел. И каждый, кто впервые встречался со Шлиманом, поражался тому, как ретивый Генрих старался не отстать от знаменитого римлянина. Во время еды (...) он занимался просмотром корреспонденции, принимал журналистов, декламировал на древнегреческом отрывки из собственной биографии или же цитировал "Илиаду"" [Вандерберг. С. 454].
По словам М. Мейеровича, Г. Шлиман после выхода в свет книги "Илион" пишет Минне Мейнке (Рихерс), "детской невесте", письмо-приглашение в Афины, в котором имеется фраза: "Ты встретишь, если сравнивать малое с великим, столь же сердечный и лишь менее пышный прием, какой встретила Клеопатра у Юлия Цезаря в Риме..." [Мейерович М.Л. С. 145]. "...Шлиман ... в первые годы назывался Юлиусом, когда же умер его брат Генрих, он наречен был в его память" [Егоров, 1923. С.17].
Что касается имени Erice, то этим именем Г.Шлимана называла еще первая жена Екатерина (см. напр., [Шлиман Е., Письма. С.71], [Богданов И., 1994 г. С. 119, 125]). Судя по изложению И. Стоуна, эта традиция, с некоторой модификацией, присутствовала и во втором браке с Софией [Стоун. С. 139]. "Жена обращается к нему: Erice". "Чтобы внести разнообразие в имя Heinrich или Henry (как он сам часто себя писал), естественно было бы ввести варианты этого имени вроде нем. Heinz, Hein или ...Eric/Erik, хотя исторически последнее – вариант имени Эрих" [Гаврилов А.К. С. 142-143].
Можно предположить, что понятие "ярость" каким-то образом ассоциировалось с Генрихом Шлиманом.
Глава 10. ТРАНСФОРМИРУЙСЯ, АДАПТИРУЙСЯ, ПЕРЕВОПЛОЩАЙСЯ.
ОБХОДИ ПРЕПЯТСТВИЯ, ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД
Одним из правил успешного существования личности Генриха Шлимана в различных социальных окружениях было его почти непрерывное перевоплощение.
Для творческой личности перевоплощения являются и индикатором нормального творческого потенциала, и способом адаптации, развлечения, тренировки.
"Предметом" перевоплощений Генриха Шлимана становились:
1.Имя и отчество,
2. Фамилия (имела место лишь предпопытка изменить фамилию),
3. Место рождения и место жительства,
4. Биографические особенности;
5. Род занятий;
6. Гражданство;
7 Религиозная принадлежность.
И.А. Богданов называет несколько вариантов имени отчества Генриха Шлимана в России: Гейнрих Иванович, Андрей Иванович, Александр Иванович, Александр Николаевич, Андрей Аристович (так указано в метрике сына Сергея), Андрей Арестович, Генрих Оскарович, Генрих Августович.
В 1869 году с судебных документах в связи с получением американского гражданства и в письмах епископу Вимпосу фигурирует американизированное имя "Генри". В том же году письмо в адрес Софии подписано с использованием имени "Генрих". Книга "Китай и Япония в настоящее время" содержала информацию: "сочинение Анри Шлимана (из Санкт-Петербурга)" [Мейерович М.Л. С. 64].
"Энрико" Шлиман (акт о смерти, Неаполь, 27 декабря 1890 г.) [Вандерберг. С. 566].
Можно предположить, что и свою фамилию Генрих Шлиман решил попробовать сделать объектом творческого перевоплощения.
С.А. Живаго в датированном 6 декабря 1845 года письме пишет: "Что значит подпись Ваша на письме Генр[их] Иванович, а Шлимана уже нет; у нас же в России ведется так: Генрих Иванович Шлиман, спрашивает меня жена о такой перемене в подписи, но я не знаю, что ей отвечать" [Богданов И.А., 2008 а. С. 86]. Если и были у Генриха Шлимана планы поэкспериментировать с фамилией, то после получения письма С.А. Живаго он, видимо, решил отложить их реализацию. И все-таки. Если подходить к ситуации креативно: известны живописцы с фамилиями Н. Машич, П. Йованович, Н. Петрович. Почему не быть коммерсанту с фамилией Иванович? Там и до Иванова не далеко.
Местом рождения Генриха Шлимана был город Нойбуков. "15 февраля 1847 года в первом Департаменте Управы благочиния он получил "свидетельство", подтверждающее, что "бывший Мекленбургский Шверинский подданный, уроженец Анкерсхагена купец Гейнрих Шлиман (...) на подданство России к присяге приведен"" [Богданов И.А., 2008 а. С. 118]. (Конечно, существует вероятность того, что незамысловатые бюрократические манипуляции мы можем назвать словом "перевоплощение").
В дневнике 1846 года Генрих Шлиман делает запись о том, как в случайном парижском разговоре он уверял собеседницу-француженку будто он, Шлиман, природный москвич. "...Повторяя, что я русский, что я московский уроженец, ...я испытывал такое наслаждение ... и до того с этим свыкся, что и сам наконец стал думать о себе как о москвиче" [Гаврилов А.К. С. 22]. В середине 1864 года, он, путешествуя по Тунису, переоделся арабом [Богданов И.А., 2008 а. С. 344].
В Китае, направившись на осмотр Великой китайской стены, Г. Шлиман одел огромный арабский тюрбан [Штоль. С. 170].
К изменениям биографических деталей можно отнести такой вариант "6 лет я занимался москательною торговлею в Мекленбурге, 4 года был бухгалтером и корреспондентом ... в Амстердаме" [Богданов И.А., 2008 а. С. 141]. Конечно, работа "учеником" в лавке в Фюрстенберге дала ему великолепную жизненную закалку (хотя сам Г. Шлиман, может быть, и не согласился бы с таким суждением); однако в этой лавке не торговали индиго и другими красителями (то есть не вели москательную торговлю).
Изменение рода занятий, и в какой-то мере возраста, проявились в истории посещения Г. Шлиманом окруженного германской армией Парижа в 1871 году. Генрих Шлиман описывает этот эпизод в письме, посланном из Парижа 14 марта 1871 года, за четыре дня до Коммуны: "Между Бисмарком и Жюлем Фавром заключено соглашение о том, что до прекращения перемирия никто не будет пропущен в Париж. Однако в моем пылком нетерпении я воспользовался пропуском почтмейстера Шарля Клейна из Ланьи и надел его форму. К несчастью, этому добряку только тридцать лет, что дважды отмечено в его документе. С большой опасностью пришлось мне пройти две саксонские и одну прусскую заставы, где везде был записан мой фальшивый паспорт и я был с ног до головы обыскан. Если бы они открыли обман, меня без долгих разговоров арестовали бы и расстреляли. Но мое самообладание меня спасло; каждого солдата я титуловал "господин полковник" и каждого лейтенанта "господин генерал", и каждый раз мне удавалось так ослепить этих чудаков высоким титулом, что они с глубокими поклонами объявляли: "Все в порядке, г. почтмейстер!"
Пока я пробирался через германскую линию фронта, я забыл обо всем. Я вспомнил о своем доме, лишь когда миновала смертельная опасность, и, дрожа от страха, приблизился к моему жилищу и расположенному напротив принадлежащему мне дому на бульваре Сен-Мишель, 5" [Мейерович М.Л. С. 89-90].
Гражданство могло также варьироваться. Вот, например, некоторые словосочетания из письма, отправленного 27 апреля 1869 года, Генриха Шлимана епископу Вимпосу с вопросами о будущей жене Софии: "Понимает ли она Гомера и других наших древних писателей? Или же она совершенно не владеет языком наших предков?" По этому поводу И.А. Богданов замечает: "Трудно сказать, почему Шлиман пишет "наших". Может быть, к этому времени он подсознательно относил себя к грекам" [Богданов И.А., 2008 б. С. 65].
Религиозная принадлежность. Генрих Шлиман был христианином; это обстоятельство не оспаривается. Вместе с тем, путешествуя в 1859 году по Ближнему Востоку, он "решится на еще одно рискованное предприятие: подвергнется обрезанию и отправится паломником в Мекку" [Богданов И., 1994 г. С. 92].
Имели место и своего рода коллективные перевоплощения: полу-сказочные переименования членов семьи, слуг, рабочих.
Можно ли политическую комплиментарность отнести к разновидности перевоплощения?.. Генрих Шлиман был, в общем, аполитичен. ("Кривое не может сделаться прямым..." (Еккл 1:15)). Приведем лишь один пример, наводящий на мысль о политической комплиментарности. В американском дневнике Г. Шлимана появляется запись: "Если здесь, в Сакраменто, я могу быть в любой момент ограбленным или убитым, в России я могу спокойно спать в моей кровати, не боясь за свою жизнь и имущество, так как там тысячеглазое правосудие бдит за своими миролюбивыми жителями" [Вандерберг. С. 104].
К завершению первой половины жизни Генрих Шлиман подошел с хорошим творческим настроем и отличным потенциалом адаптации и адаптивности.
Г. Шлиман оказался подготовлен к той трансформации жизни и личности, которая ожидала его на границе между первой и второй половинами жизни (изменение места жительства, источника доходов, рода занятий, преимущественного (доминирующего) круга приятельского общения, семейного окружения, появление необходимости контроля за уровнем психических и физических нагрузок, за состоянием здоровья).