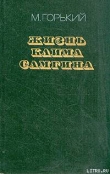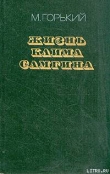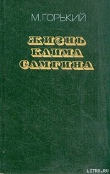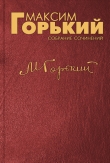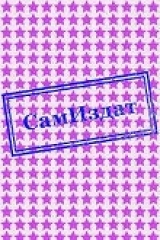
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
(2) Генрих (Hen(d)ric / Indric / Эрик) (см. [Гаврилов А.К. С. 69]); (имени "Эрик" может быть придано значение "яростный"),
(3) Schlei , "Schlau" ("Schliemann", "Шлиман"). "Рядом" с "Schlei" – "Schlau". "Schlau" означает в переводе с немецкого на русский "хитрый, коварный, хитроумный". Любимцем Афины Паллады жил и действовал хитроумный Одиссей.
Относительно имени "Юлий" можно отметить следующее. Ф. Вандерберг пишет: "Дух захватывало от темпа жизни этого эксцентричного человека. Ежедневно он – как бы между прочим – писал по двадцать писем. Цезарь, во многом служивший для него примером, был знаменит тем, что мог одновременно делать несколько дел. И каждый, кто впервые встречался со Шлиманом, поражался тому, как ретивый Генрих старался не отстать от знаменитого римлянина. Во время еды (...) он занимался просмотром корреспонденции, принимал журналистов, декламировал на древнегреческом отрывки из собственной биографии или же цитировал "Илиаду"" [Вандерберг. С. 454].
Согласно М. Мейеровичу, Г. Шлиман пишет Минне Мейнке (Рихерс), "детской невесте", письмо-приглашение в Афины, в котором имеется фраза: "Ты встретишь, если сравнивать малое с великим, столь же сердечный и лишь менее пышный прием, какой встретила Клеопатра у Юлия Цезаря в Риме..." [Мейерович М.Л. С. 145]. Д.Н. Егоров отмечает: "...Шлиман ... в первые годы назывался Юлиусом, когда же умер его брат Генрих, он наречен был в его память" [Егоров, 1923. С.17].
Что касается имени Erice, то этим именем Г. Шлимана называли и первая жена Екатерина (см. напр., [Шлиман Е., Письма. С.71], [Богданов И., 1994 г. С. 119, 125]), и – если следовать изложению И. Стоуна, – с некоторым изменением – вторая жена София [Стоун. С. 139]. "Жена обращается к нему: Erice". "Чтобы внести разнообразие в имя Heinrich или Henry (как он сам часто себя писал), естественно было бы ввести варианты этого имени вроде нем. Heinz, Hein или ...Eric/Erik, хотя исторически последнее – вариант имени Эрих" [Гаврилов А.К. С. 142-143]. Употребление и первой женой и второй женой этого имени делает естественным допущение, что имя это отражало определенные качества Г. Шлимана.
"Schlau" ("хитрый, коварный, хитроумный").... В биографической книге Г. Штоля, например, активно проводятся параллели между судьбой Одиссея и жизнью Г. Шлимана (названия глав (так называемых "книг") в написанной Г. Штолем биографии: "Одиссей терпит кораблекрушение", "Одиссей возвращается домой" [Штоль. С. 431]). Такие параллели появляются и в работах других биографов Генриха Шлимана. Восклицания Генриха Шлимана, подводящие итог его жизни и казавшиеся кому-то из его современников странными: "Слава Афине-Палладе!"...
(Г.Штоль художественно моделирует мысли Г.Шлимана, прибывшего в 1868 году в Троаду: "Уж не это ли страна святого Иоанна, о которой рассказывали старик причетчик и Петер Веллерт? "Может быть, – думает с улыбкой Шлиман, – я здесь вовсе и не первый из Анкерсхагена, может быть, задолго до меня в Трое побывал наш аист, живший на крыше пасторского сарая?"" [Штоль. С. 201]).
Тема "энергии имени" довольно-таки интересная, ее трактовка субъективна. Ограничимся здесь, характеризуя "энергию имени" касательно деятельности Генриха Шлимана, изложенной выше информацией.
18.2. ВСЕ МЫ ... ИЗ ... ДНЕПРА. ИЛИ ДНЕСТРА?
«Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано: „20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го марта. Восприемником был... господин полковник Михаил Трахимовский... молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский“. Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги» [Гиляровский. 1999].
"И все-таки в одном по крайней мере тщеславные усилия Афанасия Демьяновича не оказались бесследными: его внук унаследовал двойную фамилию – Гоголь-Яновский, подписываясь ею и в гимназии, и в первые годы петербургской жизни. Иногда, впрочем, писал он только "Н. Гоголь", а с конца 1830 года и вовсе отбросил вторую часть" [Манн Ю. В. С. 15].
(Тем не менее, можно ли утверждать, что все личные документы Николая Гоголя содержали его фамилию в новом варианте написания?)
Почему же именно "Гоголь"? Слово не совсем обычное, в какой-то мере редкое, запоминающееся, легко произносимое, звонкое, в силу этих свойств подходящее для подписания литературных произведений. Слово с хорошей энергетикой, "привязанное" к положительному зрительному образу; не исключено, что сам Николай Гоголь наблюдал плывущего гоголя, и этого увиденного им гоголя принял за знак. В пользу такого предположения свидетельствуют строки из "Тараса Бульбы": "Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях". Несущийся по блестящему речному зеркалу гордый гоголь – не плохой образ. (У Максима Горького, например, в "Буревестнике", встречаются образы птиц: буревестник (тоже, кстати, гордый), гагары, пингвины... Но гоголь, несущийся по блестящему речному зеркалу, как-то вызывает больше симпатии...). Сработала энергетика имени: не без трудностей и проблем, но без каких-либо катастроф, довольно-таки гладко прожил Николай Гоголь свою успешную жизнь (сравним его с современниками А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым, например).
Если высказать предположение, что слово "гоголь" может подсознательно ассоциироваться (быть созвучным) слову "хохол", то, полагаю, Н. Гоголь не имел бы ничего против такой версии. ("...Хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое" (См.: [Вересаев])).
21 мая 1842 года Н. Гоголь получил первые, в новеньких переплетах, экземпляры "Мертвых душ" [Труайя А. С. 365]. Может быть, появилось чувство, что жизнь удалась.
"Из дневниковой записи Марфы Стефановны от 17(29) июня 1845 г., мы узнаем подробности визита Гоголя к Сабининым. (...) "(...) Николай Васильевич Гоголь и граф Александр Петрович Толстой (...) пришли к отцу, и я в первый и последний раз видела знаменитого писателя. (...) Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. (...) Моей матери он подарил хромолитографию – вид Брюлевской террасы; она наклеила этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подписаться под ним. Он долго ходил по комнате, наконец сел к столу и написал: "Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем"". [Манн Ю. В. С. 725-726].
Подводились итоги земного – успешного – плавания гордого гоголя; кто знает, может быть, уходило из памяти земное, появлялись мысли о покойных предках, о фамилии "Яновский", записанной в церковной книге. (А может быть, в тайниках семейной памяти имелись какие-то сведения, не сохранившиеся на бумаге?).
Автор одной из подробных, добросовестных и доброжелательных биографий Н. Гоголя – Анри Труайя. О самом себе Анри Труайя оставил, в частности, следующие строки: "Сам того не сознавая, я стремился к тому, чтобы мое новое имя начиналось с буквы "Т", как и прежнее, и у меня выходило: Тарао, Тарасо, Троа... Я остановился на Труайя. Теперь нужно было получить одобрение Плона. Время не терпело, корректура ждала. Я бросился в телефонную кабину и, вызвав издателя, сообщил ему результаты моих изысканий. Поразмыслив минуту, он одобрил Труайя, но потребовал ради фонетического благозвучия изменить и имя. "Лев Труайя! Тяжело, глухо, – сказал он. – Совершенно не звучит". По его мнению, мне нужно было имя с буквой "i" посередине, чтобы звучность была более четкой. В полной растерянности я назвал первое попавшееся: "Ну, тогда Анри". Он согласился: "Анри Труайя! Неплохо. Ну что ж, пусть будет Анри Труайя". С яростью в сердце я повесил трубку. Вот так телефонная будка стала местом моего второго рождения. Сначала я изменил национальность, затем – имя. Осталось ли ещё хоть что-нибудь подлинное во мне? Мои родители, звавшие меня "Лев" со дня моего рождения, с большим трудом называли меня потом Анри. Я сам долго не мог привыкнуть к моему второму "я", и прошло много времени, прежде чем я обратился с просьбой официально изменить моё имя и фамилию. Теперь я по документам – Анри Труайя, но Лев Тарасов по-прежнему живет во мне: сжавшись в комочек, он сладко спит в самых потаенных глубинах моей души" ["Анри Труайя"].
Если вернуться к долгому хождению Гоголя по комнате, перед тем как он сделал надпись в альбоме под видом Брюлевской террасы... Может быть, и никем не опороченная – вроде бы – фамилия "Яновский" сладко спала где-то в самых потаенных глубинах его души. Если его запись ("Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем") прочитать буквально, то такое предположение будет допустимым (фамилию совсем забыл, а когда-то звался Гоголем).
Добавим, что Анри Труайя (фр: Troyat), как человек склонный к литературному биографическому творчеству, автор качественной биографии Николая Гоголя, вполне мог быть знаком с одной из биографий Генриха Шлимана, с его перевоплощениями, изменениями имени, места жительства, гражданства. "Анри Шлиман из Санкт-Петербурга" (вспомним: именно так, именем "Анри", подписана первая книга Генриха Шлимана), "...Troja. Leipzig, 1869"... (из названия второй книги Г. Шлимана). Сопоставим новую фамилию писателя-биографа "Troyat" и слово "Троя" (Troja) (для примера возьмем это слово из немецкого издания второй книги Генриха Шлимана [Вандерберг. С. 587]); кстати, в выше процитированном высказывании писателя (Леона, Льва, Анри) о своей новой фамилии отсутствует утверждение о французском происхождении слова "Troyat"). В этих двух словах – "Troyat" и "Troja" – совпадают четыре буквы: последовательно первые три и пятая; при том, что в первом сопоставляемом слове шесть букв, а во втором – пять. Итак, совпадают имена "Анри" и почти совпадают слова "Troyat" и "Troja". (В списке литературы, приведенном А.К Гавриловым, приведено название книги, изданной в Лондоне в 1884 году [Гаврилов А.К. С. 416]. В этом названии присутствуют слова и "Troja", и "Troy". "Troyat" и "Troy": еще более полное совпадение). Анри пишет биографию Н. Гоголя, и весьма успешно. Кармическое влияние Шлимана? Кармическое влияние Гоголя?
Предположим, что некий Анри Троянский (или Анри Троянец, или Анри Троян) написал биографию Н. Гоголя; в этом случае кто-то из читателей, знакомый с биографией Г. Шлимана, имел бы основания вспомнить о великом археологе, о его страсти к чтению, о его интересе к русской классической литературе (а также – о его перевоплощениях, смене имен, отчеств, биографических деталей).
Если прийти к версии "Яростный Троянец", то – вообще – звучит красиво.
Генрих Шлиман и его имя прочно вошли в мировую и европейскую культуру; приведу две иллюстрации к этому тезису: (а) в 1932 году Эмиль Людвиг выпускает на немецком языке книгу о Генрихе Шлимане, (б) Н.Н. Берберова в 1958 году публикует работу "Памяти Шлимана" (кто-то может в этом фантастическом рассказе увидеть тех людей, которые попытались уклониться от освоения персональных систем успешности). И Эмиль Людвиг, и Н.Н. Берберова авторы многочисленных книг, биографий.
18.3. ОТ ВОЛГИ ДО ВОЛГИ (ШИРОКИЙ БОЛИВАР ПЕШКОВА, «ГОРЬКОВСКОЕ СООБЩЕСТВО»).
ПешкОв. В биографиях М. Горького перечисляются его пешие перемещения. О них говорится с каким-то смутным чувством удивления.
Алексей ПешкОв был великим пешеходным путешественником. На границе XIX и XX веков фигуры путешественников начали становиться предметом живейшего общественного интереса. Как правило, это был интерес к людям, путешествовавшим по морю, по труднодоступным местам, по пустыням, горам, льдам, далеким землям. Но длительные, колоссальной протяженности пешеходные путешествия по России второй половины XIX века также были весьма интересны.
Сама технология пешеходных путешествий весьма не проста: как определить маршрут, рассчитать силы в пределах путешествия и в пределах отдельного дня, какая нужна экипировка, какую подобрать обувь, одежду, головной убор (знаменитый Алексей Пешков на известной картине изображен в широкополой шляпе; это не совсем шляпа писателя – да и какова она шляпа писателя? "широкий боливар"?, – это отчасти шляпа путешественника; на символическом шарже именно шляпа путешественника дала А.М. ПешкОву преимущество над писателями – "подмаксимовиками"), как обеспечить правильное питание, безопасность, отдых, ночевку, взаимодействие с местными жителями, иными путешественниками, с криминальным элементом, иметь ли с собой оружие и пользоваться ли им, как противостоять болезням, особенности путешествий по водным объектам, вопросы денег и расходов...
Если бы Алексей ПешкОв сделал акцент в своем творчестве на технологии пешеходных путешествий, оно получило бы иное, возможно, весьма оптимистичное и жизнерадостное звучание. При таком ракурсе писательского мастерства, он стал бы "ближе" не к Некрасову, а, например, к Жюлю Верну. (Жюль Верн, кстати, писал о бурях? "На помощь нам пришел еще доныне не использованный мой слуга, мастер по части ветров. Он встал на корме, одну ноздрю направил в сторону турок, а другую – к главному парусу нашего корабля. Таким образом, в одно и то же время он выпустил бурю навстречу нашим преследователям и дал попутный ветер нашему судну, благодаря чему враги рассеялись в разные стороны с изломанными мачтами и растерзанными парусами. Мы же благополучно прибыли в Италию, где могли по заслугам отдохнуть после волнений и трудов" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена)). Кто знает, ощутив в себе талант писателя-путешественника, может быть, М. Горький прошел бы пешком с севера на юг всю Америку, посетил бы Антарктиду, те края, где водятся буревестники и пингвины, но не выдуманные, а реальные (пингвины – те вообще из Южного полушария; какой процент горьковских российских читателей начала XX века вообще понимал, о чем идет речь?; тут бы в жадные до изданий Сытина руки многочисленных "просыпающихся от политического сна" российских читателей – и книга А. ПешкОва: о путешествиях и о пингвинах).
(У географических карт – традиционная ориентация: Север – верх, Юг – низ. "Самый низ" – дно. Можно найти основания для написания популярной пьесы "На дне" после посещения Антарктиды, Южного полюса?).
И дело могло бы быть достаточно прочным даже без струящейся под ним крови. Когда я писал эти строки, мне почему-то ассоциативно вспомнился Тур Хейердал. Никто не считал километры, пройденные Алексеем Пешковым. Не встречалась мне и информация об общем расстоянии, преодолённом Туром Хейердалом. Кто больше прошел-проплыл? Тур Хейердал, наверное, больше; но ведь много миль он проплыл, используя энергию ветра или течения. Отмечу, что и в наше время пешеходные путешествия не вышли из моды. На рубеже XX и XXI веков сняты весьма интересные фильмы о пешеходных путешествиях через США, через Австралию ("Дикая" (2015), "Тропы" (2013)).
"С 1888 года начались пешковские странствия по Руси – та бродячая жизнь, которая оказалась ненамного слаще оседлой, но нравилась ему гораздо больше" [Быков Д.Л.].
"И в апреле 1891 года Горький действительно бросил "ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень" и отправился из Нижнего в свое знаменитое странствие "по Руси". А через год в тифлисской газете "Кавказ" появился его первый рассказ – "Макар Чудра", который открывался следующими рассуждениями старого цыгана: "Так нужно жить: иди, иди – и все тут. Долго не стой на одном месте – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг Земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол..."" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"...В апреле 1891 года он опять пускается в странствия. Странствовал Горький около полутора лет – побывал на Украине, в Бессарабии, в Крыму, на Кубани, на Кавказе... Батрачил, кашеварил, добывал соль, рыбачил, даже читал молитвы по покойнику..." [Нефедова И.М.].
По объему непосредственной информации ("живые", "жизненные" впечатления), ценности такой информации М. Горький – после своих путешествий – вошел в гипотетические 5 процентов населения России, обладавших жизненным опытом, максимально объемным и оригинальным, ценным.
Интелелект М. Горького обнаруживал потребности в дифференциации, классификации, систематизации, в осознании причинно-следственных связей ("мещане", "хозяева жизни", "железные люди", "домашняя челядь", "умные люди", "нормальные", "дурачки и блаженные", "человечий мусор" ...).
М. Горький классифицировал, пытался моделировать типовые жизненные сценарии. "...Он всегда стремился к классификации фактов, к распределению их по разрядам и рубрикам" [Чуковский К. Горький].
"К двадцати, к двадцати двум годам моё представление о людях сложилось так: подавляющее большинство – племя мещан, проклятое племя "нормальных"; в среде его рождаются "железные" люди, они заседают в городской думе, стоят в церквах, ездят по улицам на собственных лошадях, шагают по городу за попами во время "крестных ходов". Изредка тот или иной "железный" выламывается из "нормальной" жизни" (М. Горький "Беседы о ремесле"). Позволю себе высказать личное мнение: конечно, – пристрастно, но – не лишено оригинальности.
"Надо вам заметить, что деревья, дающие человеческое потомство, бывают разных пород: из одних выходят адвокаты, из других – солдаты, из третьих – священники, из четвертых – клоуны, и так далее. Каждый ребенок, вылупившись, тотчас же начинает упражняться в своем занятии и – к радости того, кто бросил в котел стручок, – вскоре достигает значительного совершенства" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
В апреле 1891 года М. Горькому было 23 года. Начиная свое пешеходное путешествие, он начинает качественный скачек от "странного юноши" к выдающемуся писателю.
В 1911 году М. Горький (ему – за сорок) публикует прелюбопытнейшую статью "О писателях-самоучках". Можно предположить, что эта статья стала свидетельством очередного качественного скачка в персональном развитии М. Горького. Лично мне представляется, что ниже приводимый текст (цитаты) М. Горького – на уровне гениальности.
"За время 1906-10 годов мною прочитано более четырёхсот рукописей, их авторы – "писатели из народа". (...)
...Я, как увидите, сгруппировал эти мысли по их сходству, но я делал это не ради вящего торжества какой-нибудь тенденции, а просто из соображений порядка.
Не думаю, чтобы мне удалось одолеть хаос, однако полагаю, что всё-таки несколько облегчил вам труд разобраться в этом материале, который – повторю ещё раз – мне лично кажется очень поучительным.
Кто авторы?
Всех авторов – 348.
Живут:
на заводах, железнодорожных станциях, в фабричных посёлках и деревнях. 169
в губернских городах 72
в уездных 4
в Москве 41
в Петербурге 22
Делятся:
на рабочих 114
крестьян 67
сапожников 9
дворников 6
извозчиков 5
солдат 5
портных 4
приказчиков 4
каторжников 4
швей 5
горничных 3
проституток 2
кухарка 1
торговка яблоками 1
прачка 1
больничная сиделка 1
кладбищенский сторож 1
ночной сторож 1
трубочист 1
швейцар 1
полицейский 1
Профессии остальных не удалось определить.
Изо всей этой группы одиннадцать человек печатают свои произведения.
(...)
Что заставляет их писать?
Двадцать девять человек смотрят на литературу как на отхожий промысел, как на средство заработка. Семь из них – крестьяне, десять – рабочие, один – дворник, один – корзинщик; профессии и сословие остальных не удалось определить.
Вся эта группа – люди очень низкой грамотности.
(...)
Крестьянин:
"По слабости здоровья не могучи победить никакого труда физыческого направления прошу покорно допустить меня в писательство."
(...) И все двадцать девять мотиваций приблизительно таковы же.
(...)
Забота о человеке, желание вызвать к жизни человеческое, проповедь уважения к человеку – мотивы вполне ясные у пятидесяти трёх человек.
(...)
Этот – сгорел: письмо, посланное ему, возвращено с отметкой: "за смертью адресата".
(...)
"Неведомая сила", "неодолимое тяготение", "нечто сжигающее душу", "что-то" и прочие в этом духе определения, как мотив к писательству, упоминаются в девяноста двух случаях.
(...)
Семнадцать человек кратко и вполне определённо заявляют, как в один голос: "Люблю писать".
Уместно сказать, что произведения этой группы являются наиболее литературными, интересными и что-то обещающими. Но, как назло, авторы – люди, заключённые в плен невероятно тяжких условий, а двое из них – в каторге.
(...)
Кладбищенский сторож пишет:
"Люблю следить, как звонкие слова
Рядами стройными ложатся на бумагу,
От них кружится сладко голова,
А в сердце чувствуешь какую-то отвагу."
(...)
Думаю, что эти выписки достаточно ясно отвечают на вопрос, что именно понуждает простого русского человека писать, и, отчасти, отвечают на другой вопрос:
О чем они пишут? (...)" (М. Горький. "О писателях-самоучках").
Прочитав эту статью, хочется сказать – с долей шутки, но и с уважением – "Он, Горький, среди ("простонародных") писателей – главный".
Записи, которые М. Горький вел с детства, так или иначе – независимо от наличия или отсутствия литературного таланта – сформировали некоторый писательский навык (литературную сноровку).
(1) Информированность, превосходство в жизненном опыте, (2) активный интеллект, стремление мыслить, понимать действительность, (3) навыки письменного изложения своих мыслей превратили М. Горького в весьма эксклюзивную фигуру. Став на дорогу литературного труда, и удержавшись на этом пути, он – даже не будучи подхвачен колоссальной волной оппозиционности – стал бы различимой фигурой в литературном мире.
Из 68 лет жизни М. Горького, родившегося в 1868 году, более-менее длительные пешеходные путешествия укладываются в период с 1888 года по 1892 год. Период 5 лет (вовсе не полностью заполненный пешеходными путешествиями) составляет примерно 7 процентов от общей продолжительности жизни М. Горького. И это было именно то дело, которое ему нравилось, которое напитало его знаниями и впечатлениями, которое (наряду с иными обстоятельствами его жизни) создало ему репутацию и славу.
"Сам Кожемякин признается в дневнике: "с горем скажу, что не единожды чувствовал я, будто некая сила, мягко и неощутимо почти, толкала меня на путь иной, неведомый мне, но, вижу, несравненно лучший того, коим я ныне дошел до смерти по лени духовной и телесной, потому что все так идут"" [Нефедова И.М.].
Ко второй половине 20-х годов XX века преимущество М. Горького (преимущество в опыте, информированности, знании жизни), накопленное в ходе пешеходных путешествий конца XIX века, было в значительной мере утрачено. Приближался 1933 год, когда М. Горький окончательно переехал из Италии в Советскую Россию. Переехать нужно было не только "главным", но и "первым".
В мае 1929 года М. Горькому 61 год.
"В конце мая 1929 года Горький снова едет в СССР, а в середине июня отправляется в поездку по Стране Советов, посещает Мурманск, Соловецкий лагерь, где перевоспитываются социально-опасные элементы. (...)
Две недели живет он в Ленинграде, осматривает Эрмитаж, Русский музей, Зоологический музей, Музей антропологии, электростанцию, заводы, торговый порт, типографию "Печатный двор" ("грандиозную фабрику книг"; теперь она носит имя Горького), встречается с писателями, руководителем ленинградских большевиков С.М.Кировым. (...)
20 августа Горький снова отправляется в поездку по СССР. На пароходе "Карл Либкнехт" он плывет по знакомой ему с детских лет Волге, осматривает Астрахань, Сталинград, затем Ростов-на-Дону, совхоз "Гигант", кавказское побережье Черного моря, Тифлис.(...)
На пути из Тифлиса во Владикавказ (теперь Орджоникидзе) горлом хлынула кровь. Пришлось вернуться в Москву, а 23 октября ехать в Сорренто" [Нефедова И.М.].
Конечно, передвижения на поезде, пароходе и иных механических средствах перемещения – это не пешеходные путешествия. Но эти поездки – "не вместо" легендарных исторических странствий по Руси, а – "в дополнение", и преимущество было в какой-то мере восстановлено.
"Горький никогда не мог забыть, что 27 октября 1922 года в Берлине, в кафе Ландграф, на докладе Шкловского "Литература и кинематограф", во время прений, при упоминании имени Горького, Маяковский встал и громовым голосом объявил, что Горький – труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен" [Берберова Н.Н. "Железная женщина"]. Понимал ли В.В. Маяковский силу и мощь великого (пешеходного) путешественника, за которым была – пусть и стихийно сложившаяся – персональная Система успеха? Во всяком случае, при переезде в Советскую Россию М. Горького в 1933 году в прошлом уже была оставлена дата: 14.4.1930 г. (дата ухода В.В. Маяковского из этого мира).
ВЕЛИКИЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК. Звучит! Где-то в звуках этого словосочетания прорисовывается мифологический образ легендарного русского путешественника Алексея ПешкОва, прошедшего пешком всю Евразию, в том числе, всю Россию, в начале пути побывавшего на Британских островах, а в завершении трансевразийского пешеходного путешествия посетившего Сахалин.
Возможно, написавшего циклы рассказов с горькими сожалениями о "непорядках", "жестокостях", "несправедливостях", которые, наверное, не могли не сопровождать строительство Великого Сибирского железнодорожного пути (гипотетические циклы рассказов "По Сибири", "По Дальнему Востоку", "По островам).
Надев широкий боливар,
Писатель смотрит на Сибирь.
Продолжившего пешеходное путешествие на Аляске и прошедшего через Северную и Южную Америки, побывавшего в Антарктиде. Направившего телеграмму Императору Николаю II: «Собранной мною за время трансконтинентального путешествия коллекции достаточно, чтобы заполнить большой музей, который станет самым чудесным на свете музеем и всегда будет привлекать в Россию тысячи иностранцев». Написавшего многочисленные и интереснейшие книги о путешествиях. Получившего приличные авторские гонорары. Лично знавшего церковных иерархов, организовавшего широкое издание в России комментированной Библии. Пославшего дедушке Василию в подарок редкую раритетную Библию, приобретенную по случаю при посещении Ватикана, а бабушке Акулине – пару бочонков каприйского вина. Получившего от двоюродного брата Саши письмо со словами: «Алеша! О каких чудесных вещах ты пишешь! Можно с тобой в путешествие хотя бы на неделю?» В Скандинавии, при получении Нобелевской премии, познакомившегося с юным Туром Хейердалом. Умершего лет так в 90 во время рыбалки на берегу Байкала, находясь «под шафе» от выпитого подогретого итальянского вина. Фантазии, фантазии!... Но задатки-то были...
""Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?""
"Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар..."
Алексей Пешков стал Максимом Горьким в 1892 году.
"...Рассказ "Макар Чудра" под псевдонимом "Максим Горький" появился в газете "Кавказ" 12 сентября 1892 года. (...) За следующие пять лет, наполненные непрерывной работой, он стал самым известным писателем России" [Быков Д.Л.].
"Имя – не только память об отце, но еще и указание на максимализм во всем; ну, а Горький – дань дурному романтизму, но что ж поделаешь. Горечи он повидал достаточно" [Быков Д.Л.].
Максим – более или менее очевидно; "высший".
Великих Александров в русской литературе было больше. Но, положим, Фабий Максим ("Медлитель") – исторический деятель не маленького масштаба. По-тихоньку – по-легоньку поверг такую мощную фигуру как Ганнибал. Традиции русские... Кутузов... Сталин...
"Ваше слово, Товарищ Максим!". То есть не слово, а много, очень много слов. "Пли!" Статьи. Книги. Тома! Собрания сочинений. "Ваше творчество, Товарищ Максим!". Не плохо звучит. (Примерно с 1888 года и до 1939 на вооружении армий стран мира имелся пулемет "Максим"). И мощность, и дальность выстрела, и скорострельность, – не то что у какого-то "Товарища Маузера".
"Горький". Можно подумать, что такой вариант псевдонима – это не результат творчества талантливого самородка, а результат работы (неплохой работы) специализированой фирмы. Отличное позиционирование.
Во-первых, приготовьтесь к оппозиционности, к критике, к неприятным темам. (Вы случайно не отвратительный мещанин? Не противник солнечного света, свежего воздуха, порядочности и образованности, критики и оппозиционности? Не держиморда? Не продажный интеллигент?). Если вы – человек думающий, критичный, современный, то вы взяли в руки правильную книгу.
Во-вторых, если уровень писательского мастерства вам кажется недостаточным, то примите во внимание трудную, горькую судьбу писателя, те страшные жизненные события, горькие впечатления, которые случились в его жизни. Эксплуататоры – покайтесь, а угнетенные – прибодритесь; книгу вы приобрели правильную, обратите главное внимание не на писательское мастерство, а на тематику.
Позиционирование беспроигрышное.
"Минсим Сладкий" – может быть, и забавно, но это путь в третьестепенные литераторы, малоразличимость, в мало(без)скандальность, в безвестность. Не лояльность мещанской, купеческой среде, собственности делала внезапную славу, тиражи, крупные гонорары, а, наоборот, изображение отрицательных сторон "унылого", "тягостного", "жестокого" мира, подлежащего "отправлению" в прошлое... Те правила той литературной карьеры предполагали изображение мещанской среды, да и вообще "старого мира", с (большой, великой) критичностью (беспощадностью?).
18.4. ГИПЕРБОЛОИД И ВОЛШЕБНАЯ ТУЖУРКА ИНЖЕНЕРА ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО.
Отчасти примером таким выводам может служить судьба Гарина-Михайловского (1852-1906), достаточно известного писателя. Он участвовал в строительстве Великого Сибирского железнодорожного пути, и, возможно, повидал не меньше М. Горького (совершил кругосветное путешествие). Что касается практической утилитарной пользы (персональной полезности), то, возможно, преимущество в какие-то моменты-времена бывало и за Гариным. Его творчество, железнодорожное строительство, путешествия интересовали современников, даже император Николай II с домочадцами приглашал его на беседу. Писатель, инженер. Путеец! Полезный, современный человек!