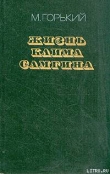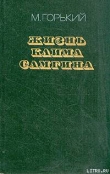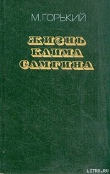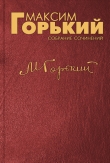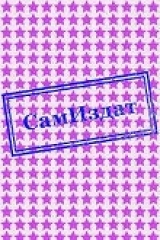
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
И в Ганзе, и Гетманщине присутствовали и свобода, и равноправие. Добавим в этот перечень и "товарищество". А вот в какой мере? В какой степени? На аптекарских весах сейчас отмерить затруднительно. Для феодального иерархичного сеньоро-вассального мира присутствие в некоем сообществе – в достаточной, весьма заметной мере – и свободы, и равноправия, и товарищества, было и заметным и отличительным – в какой-то мере эксклюзивным – признаком, оказывающем влияние на характеры его участников.
Существование таких сообществ-товариществ было по историческим меркам сеньоро-вассального феодализма, существовавшего значительно более 1000 лет, кратковременным. Ганза существовала около трех веков, украинское казачество три-четыре века (гетманщина – около одного века с четвертью). Дополним, что и шляхетская республика (польская (польско-литовская) выборная монархия), близкая территориально к Украине, а некоторое время включавшая значительную часть Украины, предоставляла – для заметной части (8-10 процентов) населения – ощутимый для феодального общества объем личных прав и свобод (например, так называемый иммунитет, права собственности, освобождение от повинностей, участие в формировании судебной власти, исключительное право занимать ряд важных должностей и др.) ["Шляхта"].
К моментам рождения и Генриха Шлимана, и Николая Гоголя и Ганза, и Гетманщина были реально ушедшими в прошлое, но ментально – присутствовавшими в памяти. Что оставалось новым, приходящим в жизнь поколениям? Служба? ("...всё полезло в Петербург служить..." [Гоголь Н.В. Мертвые души.]). Иные возможности имелись, хотя и не так уж их было и много.
Многие предки, родственники и Генриха Шлимана, и Николая Гоголя все теснее связывали свои жизненные пути со служением Церкви.
2.3. МГНОВЕННО КРАТКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО И БЕСКОНЕЧНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ СЕНЬОРО-ВАССАЛИТЕТ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.
Отметим некоторые исторические нюансы.
Окончательное оформление Ганзы (торгового союза северо-немецких городов во главе с Любеком) связывается с победоносным для Ганзы Штральзундским миром 1370 года. "Закат" Ганзы происходил весьма постепенно: к примеру в 1494 году в Новгороде ликвидируется немецкий двор; в 1598 в Англии Ганза лишается всех привилегий. Формально Ганза просуществовала до 1669 года. Как бы между прочим Д.Н. Егоров замечает: "и отец, и дядя Генриха принадлежали к пасторской династии, почти вплоть до Реформации" [Егоров, 1923. С.15]. Отметим, что начало Реформации принято связывать с выступлением М. Лютера против индульгенций (1517 год).
В истории приднепровских казаков понятие "гетман" появляется, например, в связи с Грамотой Сигизмунда II Августа от 5 июня 1572 года. "Король подтвердил распоряжение коронного гетмана Ежи Язловецкого о наборе 300 казаков на государственную службу" ["Реестровое казачество"].
Считается, что Гетманщина как достаточно целостная общественная структура существовала с 1649 года.
"После заключения Вечного мира 1686 года между Русским царством и Речью Посполитой Гетманщина на правом берегу Днепра, остававшемся в польской короне, была ликвидирована..." ["Гетманщина"].
1697 год – документально фиксируется, что священником (викарием) Лубенской Троицкой церкви является Иван (Ян), сын Якова (фамилия не называется). Сын Ивана – Демьян Иванович – также священник; Демьян Иванович уже упоминается как "Яновский".
"...В 1764 году указом императрицы Екатерины Великой звание гетмана Войска Запорожского было окончательно упразднено" ["Гетманщина"].
(Вторая половина и конец XVIII – период бурных событий на приднепровских территориях; при наличии интереса уважаемый Читатель может поподробнее ознакомиться с ними, используя статьи Википедии, историческую литературу, иные информационные источники).
2.4. ВОЛЖСКАЯ МОЗАИКА.
Культурно-историческое основание, бэк-граунд Алексея Пешкова: существовал ли? (Автор использует в данном тексте словосочетания «культурно-историческое основание» и «бэк-граунд» как синонимичные). Да, существовал, но однозначно его определить затруднительно. Считать бэк-граундом М. Горького нижегородских мещан-кустарей-ремесленников? Дед Горького Василий Каширин начинал бурлаком, а закончил нищим. Если «нижегородских мещан-кустарей-ремесленников» считать неким историческим явлением, некоей социальной формой, то не очень-то она была устойчивой, и не очень-то Каширины в ней укоренились.
Приходится признать, что бэк-граунд М. Горького – мозаичный. Он состоят из разных элементов.
Выдвинем версию относительно нескольких элементов, составлявших бэк-граунд М. Горького, и составим предположительный список из четырех позиций:
1. Слой мещан-кустарей-ремесленников, с развитием крупного капиталистического производства разоряющихся и не имеющих экономического будущего,
2. Христиане, простые российские подданные, религиозные, близко знакомые с Библией, знающие многие библейские тексты наизусть,
3. "Люди народного творчества",
4. Коренные жители Приволжья.
"Дед со стороны матери Василий Каширин в молодости был бурлаком, потом открыл в Нижнем Новгороде небольшое красильное заведение и тридцать лет был цеховым старшиной. (...) Кустарный красильный промысел вытесняло фабричное крашение, и надвигающаяся бедность многое определила в жизни большой семьи" [Нефедова И.М.].
М. Горький писал, что дед, Василий Васильевич Каширин, знал Псалтырь "почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух" (М. Горький. "Детство"). "Дед начал учить внука грамоте по Псалтырю и Часослову" [Нефедова И.М.]. "Дедушка Василий Каширин, книжник и начетчик" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. В мемуарном творчестве Горького есть упоминание, что его, Алексея, – случалось – чужие люди называли "псалтырником" (М. Горький. "Хозяин. Страница автобиографии"). Если считать этот термин вариантом наименования человека, хорошо знающего Псалтырь, то для дореволюционной религиозной России такой "титул", пусть и с ироническим смысловым вкраплением, – фрагмент положительной репутации, создающей тенденцию к позитивному восприятию человека. Отдаленный синоним понятия "грамотный, знающий человек".
Бабушка М. Горького Акулина Ивановна. "А. И. Каширина в молодости была балахнинской кружевницей; кружевницы эти славились в равной мере и своим ремеслом и своими песнями. Память ее удерживала огромное количество стихов. Она принадлежала к числу тех хранителей и мастеров народного творчества, которые назывались у нас "сказителями"..." [Груздев И.А.]
"Совсем иное – молитвы бабушки, обращенные к Богородице. "Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:
– Богородица Преславная, подай милости Твоея на грядущий день, матушка!
Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее:
– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!
Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.
– Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!"
Дедушка злится, слыша все это:
" – Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая! Эх вы и..."
Вот еще одно возможное объяснение странной "религии" бабушки. "Чуваша!" Языческая кровь бродит в ней и в детях, взрывая когда то насильно привитое ее народу христианство" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Мать бабушки, Акулины Ивановны, то есть прабабушка М. Горького, в молодости была крепостной, после трагического происшествия получила вольную, вместе с дочерью Акулиной путешествовала пешком, просила Христа ради. Об отце Акулины Ивановны отчетливые бесспорные сведения не просматриваются.
Дополним размышления и предположения по поводу бэк-граунда М. Горького таким вопросом. "Строгие люди с воинской дисциплиной": правомерна ли и оправданна ли такая ассоциация? Можно ли эту позицию прибавить к ранее изложенным четырем? Алексей Пешков по отцу был потомком (внуком) офицера, разжалованного за жестокость по отношению к подчиненным. "Странным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков, и дед по отцу, Савватий, человек столь крутого "ндрава", что в эпоху Николая Первого ("Николая Палковича") из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь "за жестокое обращение с нижними чинами"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Д.Л. Быков цитирует А.И. Солженицына: "Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошел на пристань в бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги) – живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой" (См.: [Быков Д.Л.]).
2.5. МЕДАЛИ М. ГОРЬКОГО.
Если принять к рассмотрению версию о том, что в историческом бэк-граунде М. Горького есть такой элемент как «строгие люди с воинской дисциплиной», то интересным будет характеристика упоминаний слова «медаль» (одно из основных значений – воинская награда) в (авто)биографических материалах М. Горького и о Горьком.
Первое упоминание – хрестоматийное. Василий Васильевич Каширин, дед Алексея, высказался образно, "на века": "Ну, Ляксей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди ка ты в люди...". Любопытное упоминание. Василий Васильевич неплохо знал Библию. Читал наизусть. Может быть, преувеличивая, его можно назвать знатоком Библии. Слово "медаль" в Библии, в канонических книгах Священного Писания, не употребляется, зато синонимы этому слову (в приведенном контексте) из библейских терминов подобрать можно. В мемуарных произведениях самого М. Горького также не находятся – вроде бы – иные случаи использования Василием Васильевичем слова "медаль". Использование мещанином, знатоком Библии Василием Кашириным звучного (латинского по происхождению) слова "медаль" – случайно? Или есть некая логика? ("Дед Горького по материнской линии Василий Васильевич Каширин (...) родился в 1807 году в Нижегородской губернии в семье солдата Василия Даниловича Каширина..." [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. То есть М. Горький по матери правнук солдата).
Маленький Алексей, украсивший чердак "узорами из розовой чайной бумаги" и получивший за это от "хозяина" "большой николаевский пятак", можно сказать, сделал из пятака медаль и наградил себя ею (М. Горький "В людях").
Далее три упоминания "однокоренных". Нижегородский начальник жандармов генерал-майор Познанский "беседовал с арестованным о певчих птицах, большим любителем коих он был, о старинных медалях и о достоинстве стихов Горького, отобранных при обыске" [Груздев И.А.]. Сам М. Горький также упоминал об этой встрече, о последующей встрече с родственником генерала и о музее. "...Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:
– Вы помните генерала Познанского? – Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, – следил за вашими успехами в литературе и, нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, – конечно, если вы пожелаете взять их...
Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей" (М. Горький. "Время Короленко").
Наконец, еще одно упоминание слова "медаль". Оно связано с Екатериной Павловной Волжиной (с ней в 1896 году А.М. Пешков венчался; ни развод, ни новое венчание не имели места). "Катя окончила гимназию с золотой медалью" [Нефедова И.М.].
Деятели религии, сотрудники Церкви среди ближайших родственников Алексея Пешкова не наблюдаются (возможно, дед Василий Васильевич выполнял какие-то организационные обязанности среди прихожан).
ГЛАВА 3. ДОМАШНЕЕ (РОДИТЕЛЬСКОЕ) ОБУЧЕНИЕ.
Генрих Шлиман получал домашнее родительское образование под «руководством» своего отца, по профессии – учителя, имевшего некоторый опыт преподавания [Штоль. С. 16, 33]. Об эффективности этого обучения мы можем судить, во-первых, по отзыву самого Генриха Шлимана, во-вторых, по более объективным свидетельствам: его научным результатам.
Домашнему родительскому обучению посвящена в Автобиографии Г. Шлимана следующая доброжелательная фраза: "Отец мой не знал греческого, однако знал латинский и пользовался каждой свободной минутой, чтобы преподавать его мне" [Шлиман Г. Илион. Т. 1. C. 40]. Cлова "преподавание" или "обучение" не упоминаются в следующей фразах Автобиографии: "Хотя отец мой не был ни ученым, ни археологом, он горячо интересовался древней историей. Нередко он с восторженным энтузиазмом рассказывал мне о трагической судьбе Геркуланума и Помпей и, кажется, почитал тех, у кого были средства и время посетить эти раскопки, счастливейшими из людей. Он также рассказывал мне с восхищением о великих деяниях гомеровских героев и о событиях Троянской войны..." [Шлиман Г. Илион. Т. 1. C. 37]. Общение отца с сыном? Лекции? Беседы? Своего рода "платоновское" обучение?
Что касается научных результатов Генриха Шлимана, то, например, в грамоте о присвоении ему звания почетного гражданина Берлина, в частности, говорилось, что Генрих Шлиман "способствовал своим дерзновенным замыслом и настойчивым трудом на проводимых под его руководством раскопках созданию новой (гомеровской) археологии" [Вандерберг. С 403]. В настоящее время Г. Шлиман признается "основателем Микенской археологии" [Гаврилов А.К. С. 300] [Богданов И.А., 2008 а. С. 26] [Богданов И.А., 2008 б. С. 311].
Домашнее (родительское) обучение однозначно трактовать и оценивать затруднительно. Судя по биографическим работам о жизни Н. Гоголя последовательных конкретных уроков с конкретными темами никто из родителей ему не преподавал. Можно, видимо, говорить об обучении действием, общением. Может быть, об обучении "платоновского" типа. Во-первых, сам отец Николая Васильевича Гоголя (в разные периоды своей жизни) был писателем, режиссером ставившихся в Кибинцах (поместье Д.П. Трощинского, отставного петербургского вельможи, имперского министра) спектаклей; Василий Афанасьевич выступал – наряду с другими членами семьи – в качестве актера. Не стоит представлять масштаб его дарования в гипертрофированном масштабе; кроме того, у каждого – свои индивидуальные дарования. Но все же не у каждого близкий родственник (отец) реальный автор, режиссер, постановщик. Во-вторых, маленький Николай с рождения был в центре семейного внимания и заботы, что предоставляло ему достаточно возможностей для общения с родителями.
"Иногда, выезжая в поле, чтоб осмотреть работы, отец брал Никошу с собой. Тогда разглаживалось лицо Василия Афанасьевича, сын видел на нем улыбку, отец веселился, веселил и его – он задавал Никоше устные задания – описать видневшуюся вдали рощу, описать небо над степью или утро в усадьбе, и сын охотно откликался ему, они наконец сочиняли вместе, и то были лучшие минуты их единения" [Золотусский И.П.].
В-третьих, в круге общения – вроде бы, провинциального – семейства Гоголей был люди творческие. (В их числе: В.В. Капнист (чей род тянулся от греческих графов Капнисос) [Золотусский И.П.]).
"Рассказывают, что однажды к Василию Афанасьевичу приехал сосед по имению – знаменитый писатель В. В. Капнист – и застал пятилетнего Никошу с пером в руке. Капнист, – рассказывает Марья Ивановна, – "взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму [так!] и сказал, как нужно его поручить отличному учителю" (...). Г. П. Данилевский, с которым Марья Ивановна поделилась воспоминаниями, приукрасил этот эпизод: вышло нечто вроде благословения начинающего художника со стороны маститого: "Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!" (...). Но так или иначе, Капнист обратил внимание на литературные склонности мальчика" [Манн Ю. В. С. 24].
Семьи Капнистов и Гоголей находились между собой в самых дружественных отношениях. Капнисты жили в Обуховке.
"В июле 1813 года в Обуховке произошло памятное событие – сюда приехал Г. Р. Державин... Знаменитому гостю и его жене приготовили торжественную встречу, тем более что их приезд совпал с пребыванием в Обуховке Д. П. Трощинского. Случилось в это время быть у Капнистов и родителям Гоголя. Марья Ивановна надолго запомнила эти дни: "...И как угощаемы были от радушных хозяев, сколько было разноображено удовольствий, сколько сюрпризов! Д. П. (Трощинский) и Державин помогали разным остроумным выдумкам" (...)" [Манн Ю. В. С. 31-32]. Николаю Гоголю было тогда 4 года.
Невольно хочется пошутить: Г.Р. Державин объезжает Россию; благословляет будущих гениев: Пушкина, Гоголя...
"Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя, благословил."
Различные талантливые люди появлялись и действовали в той среде, где жила семья Гоголей. В числе таких людей называют Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825). «Представляла для Гоголя интерес и сама художническая карьера Боровиковского...(...) ... происходило все это по одной и той же „модели“: относительная безвестность, встреча с царствующей особой и стремительное возвышение. „Модели“, которая много говорила сердцу честолюбивого Николая Гоголя» [Манн Ю. В. С. 50].
Чтобы тема не "прошла между прочим", в качестве комментария отмечу: модель, может быть, "много говорила сердцу" Н. Гоголя. Но отчетливых свидетельств о встрече Н. Гоголя с Николаем Первым автор в литературе не встретил. (Считать встречей, допустим, обмен взглядами – если таковой вообще имел место – проезжающего по Риму со свитой Николая Первого и стоящего в толпе римских жителей Н. Гоголя?). (Интересно, что по теме личной встречи (похоже, не состоявшейся) Н. Гоголя и Николая Первого сложно найти отчетливое высказывание в литературе; вроде как никаких доказательных свидетельств такой встречи не имеется, но всегда есть риск: не появятся ли какие-то документы, мемуары..? Такой интересный и важный вопрос, с одной стороны, остается без отчетливой формулировки. С другой стороны, он (этот вопрос) "освещается" косвенным образом: "прямая зависимость от двора, близость к царю, возможность, как сегодня говорят, "выйти" на царя"...).
Среда, окружение осуществляли образование маленького Николая Гоголя в режиме "самоисполнения". (Впрочем, "самоисполнение" – метод обучения не всегда надежный).
Анри Труайя пишет о юных годах Николая Гоголя: "Желая хоть как-то реализовать свое стремление стать артистом, он пытался сочинять стихи, которые с гордостью читал перед домашними. Кроме того, он еще рисовал и даже организовал выставку своих картин" [Труайя А. С. 21].
Таким образом, несмотря на отсутствие привычных нам систематических последовательных уроков, видимо, есть основания полагать, что в детстве Н. Гоголя присутствовало домашнее (родительское) обучение. Может быть, без тех некоторых признаков последовательности и систематичности, которые присутствовали в домашнем обучении в детстве Генриха Шлимана. Упоминается и семинарист, привлеченный к обучению маленького Николая и его младшего брата Ивана, но в биографии высказано скептическое отношение к результатам его обучения [Труайя А. С. 21].
В биографической литературе излагается достаточно много критических оценок семьи Кашириных, в которой прошло детство М. Горького. ""Когда читаешь его книгу "Детство", – писал Чуковский, – кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и право, не их вина, если он не пошел их путем. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери – дядя Яша и дядя Миша – оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, убили его друга Цыганка – и убили не топором, а крестом! В десять лет он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с топором на человека". Дальше Чуковский выводит из этой беспросветной жизни и детского горьковского бунтарства всю так называемую "горьковщину"..." [Быков Д.Л.].
Внутренняя жизнь чужой семьи – достаточно сложная тема для этических оценок. Стакан, как говорится, может быть и полупуст, и полуполон. Предположим, что стакан полуполон; для такого предположения есть основания.
В жизни маленького Алексея Пешкова, в раннем детстве потерявшего отца (тот умер от холеры), росшего в сложной семейной среде, тем не менее, имело место семейное (родительское) обучение. И не только родительское (имеется в виду мать Варвара, по (первому) мужу Пешкова, до первого замужества Каширина), но и семейное родственное (с участием бабушки и деда Кашириных).
"...Мать приложила свою руку к его обучению. В одно из своих возвращений в семью Варвара Васильевна энергично принялась учить сына на свой лад. "Купила книжки, – вспоминал Горький, – и по одной из них – "Родному слову" (...) – я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати..."" [Груздев И.А.].
"А. И. Каширина была не только хранительницей народного творчества, есть основание думать, что она сама была выдающимся народным поэтом. (...) Горький вспоминал: "Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется я и думал в формах ее стихов". Она сроднила его с истоками народного творчества, его поэтическими образами и глубокими мыслями" [Груздев И.А.].
"Шести лет Горький обучался у него церковнославянской грамоте по псалтырю и часослову, так учились еще во времена Удельной и Московской Руси. Дед был доволен успехами внука, находя, что "память у него "каменная", коли что высечено на ней, так уж крепко"" [Груздев И.А.].
Думается, что не в каждой семье маленькому мальчику уделяется столько времени более взрослым поколением для его обучения. Тем более, что взрослые всегда могут сослаться на занятость более важными делами.
Семья Кашириных была не маленькой; возвратившаяся в эту семью после смерти первого мужа Варвара Васильевна с малолетним сыном Алексеем была женщиной молодой, красивой, вступившей в первый брак без согласия отца, и стремившейся снова устроить личную жизнь. Если считать, что под одной крышей соединилось четыре семьи, и принять во внимание тенденцию к постепенному разорению "бизнеса", которым жила объединенная семья Кашириных, то появление негативного эмоционального фона, агрессии было вполне объяснимым. А вот то, что эта объединенная семья "продержалась" достаточно долго, и в период своего существования и кормила, и учила маленького Алексея, – это уже было, во многом, его везением. Но для человека маленького, не имеющего жизненного опыта, ситуация могла выглядеть по иному. Существование объединенной семьи, "бизнеса", работа в этот бизнесе дядьев, плохое или хорошее – но материальное обеспечение членов этой семьи, обучение младшего поколения – это нечто естественное, а отрицательный эмоциональный фон, агрессия, телесные наказания – это некая непростительная, не объяснимая и не могущая быть оправданной "неестественность". Трудно угодить человеку. Если бы в семье Кашириных не было проявлений агрессии, а было бы стремление к семейному покою, к сытости, то – согласно взрослому "прогрессивному" Горькому – это тоже не было бы хорошо. Может быть, им надо было стать народниками, революционерами? Но оценка М. Горьким встреченного на жизненном пути Сомова ("человек не совсем нормальный") также вовсе не однозначно положительная. Ромась оценен положительно, но описанный Горьким его образ производит странное впечатление: проекты Ромася не назовешь удачными, вокруг этой фигуры происходят негативные, даже трагические события, его семейная жизнь не задалась. По признаниям биографов М. Горького первым "нормальным" человеком, которого юный Алексей встретил на жизненном пути, был Короленко ("Горький вспоминает о нем как о первом нормальном человеке в своей жизни" [Быков Д.Л.]). Но Короленко был преимущественно оппозиционером, правозащитником, публицистом, у него не было разоряющегося бизнеса, от которого кормилась большая семья (его положение материально обеспеченного правозащитника, публициста было весьма эксклюзивным), а в составе этой семьи не было ни взрослых сынов, "вложившихся" в бизнес собственным тяжелым трудом, ни (предполагаю) молодой женщины-вдовы с маленьким сыном. (Если вспомнить послереволюционное критическое творчество Короленко с негативными оценками политики большевиков, то возникает вопрос об итоговых результатах и выгодоприобретателях его активности. На чью мельницу лил воду?) Можно было бы высказать предположение, что дед Каширин стал бы "мил сердцу" Алексея, если бы был оппозиционером, правозащитником, публицистом, прошедшим через ссылки. Но, во-первых, М. Горький упоминает, что не "ощутил" к Короленко "симпатии". То есть и все предположенное не давало бы гарантий положительных оценок. Во-вторых, где и у кого бы рос тогда М. Горький? Путешествовал бы (подобно прабабушке с бабушкой) с мамой по просторам России и просил бы Христа ради? Оставил бы такой жизненный старт у него положительные впечатления? Обеспечил бы ему неплохое здоровье? Трудно угодить человеку! В общем, если оставить факты ("факты"!...) неизменными, переставить акценты, изменить точку зрения, то о Василии Каширине (деде Алексея) и его сыновьях можно было бы услышать: "Какие хорошие ребята! Сколько в них силы...".
Уровень домашнего обучения, и того домашнего образования, которое получил маленький Алексей в семье Кашириных, оказался эксклюзивно высоким. "Когда в 1878 году нижегородский епископ Хрисанф приехал на урок в Слободско-Кунавинское начальное училище, он с удивлением отметил ученика Пешкова Алексея..." [Груздев И.А.].
"Горький поражал окружающих энциклопедичностью и глубиной знаний. Образование его систематическим не было. ("Образование: домашнее", – писал он в анкете). Самоучка, он учился всю жизнь: много читал, жадно вбирал в себя знания, поражая людей, окончивших гимназии и университеты" [Нефедова И.М.].
П.В. Басинский приводит слова Ф.И. Шаляпина: ""Я уважаю в людях знание. Горький так много знал! Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог бы рассказать мне о снегире такие подробности, что, если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не могли бы". За почтением здесь видна и ирония. Но легкая, необидная" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Легкое, необидное проявление скептицизма невежества? ("Скептицизм невежества" – удачный термин и удачная социологическая идея М. Горького, использованная в статье "О русском крестьянстве").
"...Бывший ветошник, а порой, увы, воришка, таскавший вместе с такими, как он, отщепенцами дрова со складов, в возрасте примерно двадцати лет в нелегальном кружке самообразования уже читал собственный реферат по книге В.В.Берви Флеровского, не соглашаясь с тем, что пастушеские и мирные племена играли бо́льшую роль в развитии культуры, чем племена охотников.
Еще через несколько лет он свободно штудировал философов идеалистов Ницше, Гартмана, Шопенгауэра и менее известных Каро, Сёлли. Причем, изучая, например, Шопенгауэра, не ограничивался фетовским переводом работы "Мир как воля и представление", но прочитывал и такой труд великого немецкого пессимиста, который, как правило, мало кто может освоить: "О четверояком корне достаточного основания"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Со стороны и самого Алексея Пешкова, и со стороны его биографов почти не было адресовано негативных оценок Пешковым – родственникам Алексея со стороны умершего отца. Их – родственников со стороны отца – просто практически нет в его жизни. В адрес родственников со стороны матери – горы критики!
Вряд ли сейчас, по прошествии почти века-полутора со дней смерти и Г. Шлимана, и Н. Гоголя, и М. Горького можно делать какие-то определенные суждения относительно эффективности и результатов домашнего (родительского, родственного) обучения. Все такого рода оценки будут лишь приблизительными, субъективными. Оцениваются "результаты" обучения последующими событиями, поступками, действиями воспитанных.
Дополнительное внимание уделим одному из аспектов.
Рисуя облик пастора Эрнста Шлимана Г. Штоль домысливает следующую фразу: "Мне нужны люди, общество, вечером – партия в вист, приправленная крепкой мужской шуткой" [Штоль. С. 32]. На вопрос Генриха, требуется ли пастору спрашивать согласия у членов церковного совета при каких-либо действиях в церковном здании, Эрнст Шлиман, в художественной интерпретации Г. Штоля дает ответ: "У членов совета? – презрительно бросает отец. – Этого мне только не хватает! Конечно, я могу делать все, если это разумно" [Штоль. С. 25]. По поводу будущей второй жены Эрнста Шлимана, Софьи, первоначально нанятой служанкой в пасторский дом, Г. Штоль формулирует: "...Шестнадцатилетняя полногрудая Фикен Бенке, покачивая бедрами, входила в кухню..." [Штоль. С. 45]. Проходит время, Генрих "думает об отце... (...) ...Отец был рабом своих страстей, страсти к вину, к роскошной жизни, к женщинам, из которых Фикен, как теперь выяснилось, была не первой" [Штоль. С. 62].
Визиты к влиятельному родственнику Д.П. Трощинскому отца Гоголя и всей семьи оставляли сложные впечатления у Николая...
"И однажды, когда "благодетель" сам пожаловал к ним в дом и милостиво удостоил Василия Афанасьевича партии шахмат, Никоша подошел к играющим и сказал отцу: "Папа, не играйте с ним. Пусть идет". А когда Дмитрий Прокофьевич, удивившись его самостоятельности, упомянул о розге, добавил: "Плевать на вас и на вашу розгу". Испуганный Василий Афанасьевич хотел наказать сына, но старик остановил его. "Он будет характерен", – заметил он" [Золотусский И.П.].