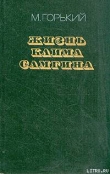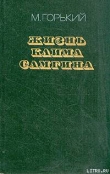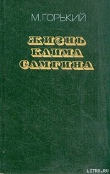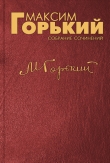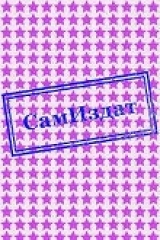
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Может быть, такой вывод покажется странным, но понимание своего предназначения резко упрощает жизнь; некоторые биографические детали позволяют сделать такой вывод в отношении судьбы Гоголя.
""Я уверен, – говорил он Смирновой, – когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу в свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет". Это ощущение, что он выполнил то, на что был призван в свет, преобладает в Гоголе 1851 года" [Золотусский И.П.].
Когда предназначение было исполнено, тогда завершился земной путь Н. Гоголя.
Предназначение Н. Гоголя состояло в том, чтобы сообщить, предупредить, довести до общества ту информацию, которую "кто-то чертит перед ним могущественным жезлом".
"В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями". (Из письма Н. Гоголя В.А. Жуковскому, 10 января 1848 / 29 декабря 1847 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
"Жестоко наказываются целые поколения, когда, позабыв о том, что они в мире затем, чтобы трудами снискивать хлеб и в поте лица возделывать землю, приведут себя в состояние белоручек. Всё тогда, весь мир идет навыворот – и начинаются казни, хлещет бич гнева небесного" (Н.В. Гоголь – Гоголь М. И., А. В. и Е. В., 3 апреля 1849 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
(Если) "...Дворяне не оставят своих привычек и всех этих будто бы необходимых приличий, – их участь будет самая плачевная и горестная" (Н.В. Гоголь – Гоголь М. И., 2 сентября 1851 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
"(...) Французское общество потрясено было ужасными переворотами; оно прошло сквозь огонь и кровь. (...) Но на нас, благодаря бога! не были еще посланы жестокие уроки. Отчего же нашей литературе быть лихорадочной и судорожной? (...)" [Вяземский П.А.].
"...Он приводит к безнадежной скорби, к страшному сознанию" [Вяземский П.А.].
"За гробом тянулись попарно его друзья в слезах и похоронили его на монастырском кладбище при огромном стечении народа.
Погодин выбрал надпись из пророчества Исайи: "Горьким смехом моим посмеюся". [Смирнова-Россет А.О. C. 67] (См.: [Бунин И.А. Дневники (1881 1953)] Запись от 18.IX.33.). "Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом..." (Ис 5:20).
Сформулировать тезис о предназначении Максима Горького довольно-таки не просто. Заявить, что его предназначением было "нескучно жить"? Такое заявление было бы слишком примитивным, да и не справедливым. Мемуарные произведения Максима Горького свидетельствуют о том, что его с раннего детства тянуло к искусству, к талантливым людям, к письменной фиксации своих впечатлений. Судьба Алексея ПешкОва складывалась так, что в его биографии особое, почетное место занимают длительные пешеходные путешествия. Считать ли общение с талантливыми людьми или писательское дело или пешеходные путешествия предназначением М. Горького? Осознавал ли таким образом М. Горький свое предназначение?
Наверное, правильно изложение некоторых сомнений и размышлений о понимании Максимом Горьким своего предназначения завершить следующей цитатой из работы Д. Быкова.
"Горнфельд был человек талантливый, отличный переводчик, и уж во всяком случае его свидетельства достоверны. Так вот, он рассказывал философу Аарону Штернбергу, что тринадцати– или четырнадцатилетним подростком Горький зашел к отцу Якова Свердлова, влиятельного большевика, впоследствии председателя ЦИКа. Отец Свердлова Михаил держал в Нижнем граверную мастерскую, у него по поручению хозяйки побывал подросток Пешков, и мастер-гравер вдруг ему сказал: "Ты будешь большим писателем". Он уже мечтал тогда о литературной карьере, но никому ни о чем подобном не рассказывал – его поразил пророческий дар старика, который он впоследствии приписывал всем евреям. Может быть, отсюда и знаменитое горьковское юдофильство, ненависть его к малейшим проявлениям антисемитизма, подчеркнутое уважение к еврейской целеустремленности, национальной солидарности, которой так мало у русских, и т. д. Кстати, официальная версия знакомства Горького с семьей Свердловых относится ко времени Всероссийской хозяйственной выставки, к 1896 году. Впоследствии Горький был крестным отцом старшего брата Свердлова – Зиновия – и дал ему свою фамилию" [Быков Д.Л.].
("Эта механистичность сильно ему повредила как писателю, на таком приеме большой книги не построишь – именно поэтому лучше всего удавались ему рассказы, основанные на одном, чаще всего физиологичном или страшном эпизоде" [Быков Д.Л.]."
М. Горький в своем творчестве ставил вопрос о своем предназначении. Например, он сам – проявляя большую внутреннюю силу – приводит слова Льва Толстого о себе: "Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод, вроде лешего или водяного деревенских баб" (М. Горький "А.П.Чехов").
Да, "Human rights" все-таки не литературная, а правозащитная организация.
ГЛАВА 7. КНИГИ. БИБЛИОТЕКИ.
Генрих Шлиман познакомился с книгами рано. Пастор, будучи духовным лицом, вел церковные книги с записями о рождениях, смертях, бракосочетаниях... В силу этого пастор являлся в некотором смысле автором таких церковных книг. В записях мог проявляться определенный литературный талант. У биографов Генриха Шлимана, вроде бы, ощущается какое-то удивление, когда цитируется запись, сделанная пастором Эрнстом Шлиманом в связи со смертью его первой жены. Удивление вызывается сопоставлением субъективных суждений насчет его (пастора) отношения к первой жене Луизе и искренней скорбью отца семейства, проявившейся в записи.
Для примера частично процитируем слова пастора, которые он "приписал" к основной записи: "Господь да наградит безвременно усопшую чистым и вечным блаженством за всю любовь и нежную заботу, которую она проявила при жизни ко мне и к нашим детям" [Мейерович М.Л. С. 22].
Пастор Эрнст Шлиман в связи со смертью первой жены Луизы опубликовал также некролог в местной газете: "(...) И теперь я, преисполненный глубочайшей скорби, стою в окружении сирот моих, по малолетству не способных осмыслить величину их утраты, и молюсь ..." [Вандерберг. С. 423]. Можно обратить внимание на выразительность и стиль. "Стою в окружении сирот"! Церковные книги был частью жизни пастора, и в силу этого, частью жизни пасторской семьи. Генрих Шлиман рассказывал о своем детстве, об общении с Минной Майнке: они "сидели в восхищении перед церковными книгами (...); древнейшие записи о рождениях, свадьбах и смертях, занесенные в эти регистры, имели для нас особое очарование" [Шлиман Г. Илион. Т. 1. С. 39].
Пастор Эрнст Шлиман, проживающий в Анкерсхагене, приобретает книгу о раскопках в Помпеях, что в художественной интерпретации Г. Штоля потребовало экономии на еде для всей семьи в течение месяца [Штоль. С. 35]. Тем не менее, Эрнст Шлиман шел на приобретение за немаленькие деньги книг для развития детей, в том числе и Генриха.
В биографиях Н. Гоголя упоминаются цены на его книги, издаваемые в России, при его жизни. Один из примеров: 10 рублей, 50 копеек (за книгу "Приключения Чичикова, или Мертвые души", 473 стр., Москва, 1842 г.) [Труайя А. С. 366]. ("Мне бы хотелось, чтоб изданье продава<лось> дешевле: за 5 томов пять, шесть целковых, не больше" (Н.В. Гоголь – С. П. Шевыреву, 7-го ноября <1850>) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
Самый примитивный и грубый и упрощенный пересчет: умножайте "те" рубли на 1 (1 грамм золота в рубле) и умножайте на 2500 рублей (весьма приблизительная стоимость грамма золота, выраженная в современных рублях РФ). Даже если затем поделить на 2 или на 4 (всегда можно что-то подкорректировать, или поспорить о цифрах), то, при любом варианте, полученный результат будет не мал. (До дешевых изданий И.Д. Сытина, осуществившего революцию в издательском деле и в ценах на книги, было еще весьма далеко).
Закончился детский счастливый для Генриха анкерсхагенский период. Впереди были Ной-Штрелиц (Нойштрелиц), Фюрстенберг, Гамбург, Амстердам. В каких-то случаях у Г. Шлимана были условия для чтения книг, где-то условия чтению и книгам не благоприятствовали. Но вот Генрих Шлиман обретает материальную независимость. Один из предметов интереса коммерсанта Г. Шлимана в Петербурге, в России становятся книги, чтение, литература.
"По-прежнему вставал он в пять часов утра, работал усердно в конторе, по нескольку часов ежедневно проводил на складе: не доверяя приказчикам, сам показывал покупателям товары. Каждую свободную минуту проводил он за книгами, особенно жадно зачитываясь русской литературой. Пушкина и Лермонтова он знал едва ли не наизусть" [Мейерович М.Л. С. 50].
"...Шлиман, хотя и проводил все время на бирже, оказывается, успевал читать Гоголя" [Богданов И.А., 2008 а. С. 161].
Петербургская библиотека в связи с завершением коммерческой карьеры была передана сыну Генриха Шлимана Сергею [Богданов И.А., 2008 б. С. 150-151].
В Париже Г. Шлиман, успешный домовладелец и рантье, обладает значительной библиотекой. Ее судьба беспокоит его в период франко-прусской войны 1870-1871 года (а ведь было о чем беспокоиться: несколько парижских домов, другое парижское имущество). Переодевшись в одежду почтмейстера, он, назвавшись именем почтмейстера и предъявив его документы патрулям германской армии, с риском быть принятым за шпиона, пробирается в осажденный Париж. И дома, и библиотека сохранились. В письме, посланном из Парижа 14 марта 1871 года, он пишет: "я целовал свою библиотеку, как целовал бы воскресшего от смерти любимого ребенка" [Мейерович М.Л. С. 89-90].
Из осажденного Парижа Г. Шлиман пишет жене Софии в Афины: "Ведь ты более фанатично, чем я, увлечена Троей... Несомненно, тебе доставит величайшее удовольствие написать о наших раскопках книгу по-гречески и выпустить ее в свет под твоим именем, чтобы увековечить Софью Шлиман..." [Мейерович М.Л. С. 90]. Раскопки не просто состоялись, им сопутствовал успех, блистательный успех.
Можно было начинать тратить капиталы на семью. В Афинах Г. Шлиман строит дом, своего рода сказочный дворец.
"...Мраморная лестница ведет в святая святых: в рабочие комнаты, помещающиеся во втором этаже, из которых особое внимание привлекает библиотека. Целые ряды полок, с полу до потолка, заполнены тут исключительно рукописями самого Шлимана. Над библиотекой значится изречение Пифагора: "Кто не учится геометрии, тот не входи" [Мейерович М.Л. С. 142]. "Гостей своих Шлиман предпочитал принимать в библиотеке. Именно это помещение было самым уютным в доме, от него, казалось, исходило тепло" [Вандерберг. С. 450].
Жизнь Гениха и Софии Шлиманов разнообразна: раскопки, путешествия. Но так или иначе в биографии (автобиографии) снова появляется слово "библиотека".
Отметим выступление Софии с докладом о троянских раскопках 8 июня 1877 года в зале библиотеки Лондонского общества любителей древности [Вандерберг. С. 387]. Это был восьмой год их семейной жизни. Завершился этот день банкетом, который в честь супругов Шлиманов дал лорд-мэр Лондона.
Г. Шлиман, уже став богатым, не забывал своего учителя кандидата Карла Андреса, под руководством которого Генрих смог на Рождество 1832 года (десятилетний возраст) написать и направить в подарок своему отцу Эрнсту Шлиману "дурно написанное латинское сочинение о главных событиях Троянской войны". В Автобиографии Г. Шлиман отмечает: "Кандидат Карл Андрес теперь библиотекарь в библиотеке великого герцога и хранитель в музее древностей в Ной-Штрелице" [Шлиман Г. Илион. Т. 1. С. 41].
В жизни Николая Гоголя, одного из наиболее значимых мировых писателей, книги также занимали важное место.
Одним из дальних родственников семьи Гоголей, их покровителем (см., напр. [Манн Ю. В. С. 60]), был уроженец Малороссии, отставной петербургский вельможа Дмитрий Прокофьевич Трощинский: человек с широким кругозором, меценат, владелец редкого для тех времен и тех мест театра и владелец весьма богатой библиотеки, коллекционер. Его служба в "верхах" не осталась без последствий для личности: практически все биографии Н. Гоголя описывают "развлечения" Д.П. Трощинского; однако в этих описаниях отсутствуют насилия, в основном все сводится к розыгрышам, замешанным на людских глупости, жадности и трусости. Розыгрыши не могли не унижать человеческого достоинства, что справедливо шокирует современного читателя. Таковы, видимо, были его "университеты" имперского управления, не самые плохие и отвратительные. В числе объектов его розыгрышей был не вполне нормальный (возможно, расстриженный в связи с ненормальностью) священник, не самая лучшая кандидатура для "шуток"; так или иначе единственная дочь Д.П. Трощинского умерла внезапно и намного раньше его самого.
"В доме Трощинского была коллекция картин, богатая библиотека. Дмитрий Прокофьевич выписывал из столиц газеты и журналы. Большую часть времени Никоша проводил с книгами. Тут – уже гимназистом – зачитывался он Петраркой, ... Аристофаном, Державиным, Пушкиным" [Золотусский И.П.].
Сами Кибинцы, как писали биографы – видимо со слов современников или потомков современников Д.П. Трощинского – зачастую воспринимались как "украинские Афины" (См.:[Степанов Н. Л.]).
Малороссия, глубинка, провинция. Можно сказать, захолустье. Но лишь на первый взгляд.
"Гоголь рано приобщился к русской культуре, воспитывался на произведениях лучших русских писателей. Близким приятелем отца и соседом по имению был писатель В.В. Капнист, автор широко известной в то время комедии "Ябеда", осмеивавшей взяточничество и казнокрадство чиновников" [Степанов Н. Л. "Гоголь"].
Приходит время, Н. Гоголь поступает в Нежинскую гимназию.
"Пожалуй, самым большим богатством гимназии была библиотека, начало которой положил почетный попечитель граф А. Г. Кушелев-Безбородко, внучатый племянник А. А. Безбородко, по существу и основавший Нежинский лицей. (...) Граф подарил гимназии две с половиной тысячи томов, а когда Гоголь кончал гимназию, в библиотеке было уже семь тысяч книг" [Золотусский И.П.].
"...профессора ... не только отлично знали свой предмет, но и давали воспитанникам читать книги из своих личных библиотек, принимали их дома, где велись литературные и ученые собеседования, где читали в подлиннике французских и немецких классиков, переводили Шиллера, немецких романтиков, а то и самого Вольтера" [Золотусский И.П.].
Анри Труайя пишет, что в группе друзей, товарищей, соучеников Н.Гоголя по Нежинской гимназии были пятеро будущих литераторов: Нестор Кукольник, Евгений Гребенка, Константин Базили, Николай Прокопович, Василий Любич-Романовский. "Охочие до чтения, эти юноши не могли удовлетвориться скудными запасами лицейской библиотеки... Иногда Гоголь покупал книги на деньги, выделенные на карманные расходы. (...) Постепенно молодые люди стали приобретать книги и журналы в складчину. Дела шли успешно, и настала необходимость определить библиотекаря. Им единодушно избрали Николая. К своим обязанностям Гоголь относился со всей щепетильностью... Было удивительно ожидать от мальчика, который так пренебрежительно относился к своей собственной персоне, такого трепетного отношения к книгам" [Труайя А. С. 33-34]. В письме от 6 апреля 1827 года из Нежина матери Н. Гоголь, например, упоминает: "За Шиллера...дал я 40 рублей..." [Труайя А. С. 33].
Так же как и в биографиях Г. Шлимана, в жизнеописаниях Н. Гоголя слово "библиотека" появляется довольно часто.
Вот Гоголь в Париже. Что это значит?
"Побывать в театрах, послушать лучших в мире певцов, посмотреть на новые города, поторчать в картинных галереях, погулять (...) по Елисейским полям"? Конечно. Однако: "Здесь (...), – писал он Прокоповичу, – в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами" [Золотусский И.П.].
Пришло время совершить паломничество; Н. Гоголь направляется в Иерусалим. По пути остановка в Стамбуле (Константинополе). И что же (кто же) здесь? Здесь – один из соучеников Н. Гоголя по Нежинской гимназии. Но не только. "Грека Базили потянуло в родные края, но и здесь он остался воспитанником России – рядом с книгами на арабском на полках его библиотеки стояли русские книги; Державин, Пушкин, он, Гоголь. Эта библиотека, разговор, рукопись, которую Базили дал гостю прочесть (то была его работа о Сирии и Палестине), – все растрогало Гоголя. Он слушал Константина с восторгом. В рассказах Базили перед Гоголем открывался Восток. Из полутемных и прохладных комнат консульского особняка хорошо было видно море, его ослепительно синий блеск, до боли режущий своей яркостью, и столь же ярко-белая земля окрестных гор, окаймленных у подножий зеленью садов" [Золотусский И.П.].
Удивительное путешествие. Гоголь – Стамбул -особняк консула (соученика) – библиотека -в библиотеке: Гоголь.
Направлявшийся в поездку Н. Гоголь просил молиться за него мать и сестер. Паломничество в Иерусалим прошло благополучно. Жизнь шла дальше. "Страшна старость! Не дай бог дожить до нее и вот так превратиться в пародию на себя, в пародию на человека. (...) Конечно, есть и иная старость, и он видел ее. По пути в Васильевку заехали они с Максимовичем в Оптину пустынь: давно он мечтал побывать в этой обители, но все не приходилось. Она славилась своими старцами, скитом, умными монахами, библиотекой" [Золотусский И.П.].
Однако, как не живи, чем ни занимайся, в каких библиотеках "кротовьим (кротовым?) трудом" утруждайся или не утруждайся, все-равно на всех не угодишь. "Что сказать о высокомерии Чернышевского, который осаживает Гоголя таким простым и "убийственным" будто бы окриком: "Ты читал не те книги, какие тебе нужно было читать!"" [Мережковский Дм.С. Гоголь. Творчество].
"Пароходный повар Михаил Акимович Смурый стал в русской литературе фигурой принципиальной: без него никакого писателя Горького не было бы. Это он привил маленькому буфетчику не любовь даже, а страсть к поглощению любых книг в произвольном количестве. Он заставлял Пешкова читать себе вслух – так Алексей ознакомился с "Тарасом Бульбой" и навсегда пленился им" [Быков Д.Л.].
"Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года: "Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире."" ("гвардии отставной унтер офицер Михаил Акимович Смурый") [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Полагаю, что писать начал лет с двенадцати и что толчком к этому послужило "перенасыщение опытом". (...) Читал – много, особенно много – переводов иностранной литературы. Любил читать библию..." (М. Горький "[Как я пишу]" (1930 год)).
"Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Stael, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
(...)
И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен."
«Но прежде – некоторые бытовые подробности его пребывания в Нижнем. С октября 1889 года он устроился работать письмоводителем к присяжному поверенному А.И.Ланину за двадцать рублей в месяц. Двадцать рублей – деньги хорошие. Это меньше тридцати рублей, которые „весовщик“ Пешков получал на железной дороге, но и не три рубля, получаемые им за работу в адской пекарне Семенова. Тем более что Ланин работой Пешкова не обременял, зато позволял ему в любое время пользоваться своей роскошной библиотекой» [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Горький дарит сотни книг городской библиотеке, по его просьбе Шаляпин дал в Нижнем концерт, сбор от которого пошел на постройку Народного дома" [Нефедова И.М.].
Максим Горький окончательно переезжает из Италии в Советскую Россию. Моссовет передает ему и его семье красивый двухэтажный особняк (архитектор Ф.О.Шехтель) на тихой Малой Никитской, принадлежавший в прошлом миллионеру Рябушинскому.
Красиво и внутреннее убранство, особенно ведущая на второй этаж широкая лестница.
"Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, -
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет."
«За вестибюлем – огромная горьковская библиотека. Но все книги в ней не уместились: ведь их больше 10 тысяч, и шкафы с книгами стоят и во внутреннем вестибюле, вдоль лестницы. Из русских писателей только у Льва Толстого в библиотеке было больше книг. Но это лишь то, что осталось у Горького к его кончине». «Он любил книги, собирал их, дорожил ими, но немало чрезвычайно редких книг раздарил тем, кому они нравились, кому были, на его взгляд, нужнее. Много книг передал он за свою жизнь и разным библиотекам (к примеру, нижегородской – около 1000 книг)» [Нефедова И.М.].
"Нельзя человеку, – вспоминает слова Горького Вс.Рождественский, – отказывать в двух вещах: в хлебе и в книге" [Нефедова И.М.].
"...Горький – поклонник книги, страстно влюбленный в литературу. Следовательно, Андреев должен "ужалить" его в это "место".
"Читать Л.Н. не любил и, сам являясь делателем книги – творцом чуда, – относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.
– Для тебя книга – фетиш, как для дикаря, – говорил он мне. – Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня "Илиада", Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. "Горе от ума" – скучно так же, как задачник Евтушевского. "Капитанская дочка" надоела, как барышня с Тверского бульвара. (...)". Провокация тут очевидна. Для Горького русская и мировая литература – это незыблемая система ценностей. Да и Андреев, конечно, не верит в то, что говорит. На самом деле он видел в русской литературе ее "вселенский" смысл, обожал Достоевского и был как писатель зависим от него" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Он упоминал, цитировал, пересказывал, оценивал сотни произведений писателей, социологов, философов (особенно в "Самгине"), его герои, начиная с первых же рассказов, характеризуются не только их действиями, поступками, словами, но и книгами, которые они читают и любят, часто повторяют, цитируют прочитанное" [Нефедова И.М.].
"Запечатлённый разум человека, который жил задолго до нас и оставил в назидание нам всё богатство души, накопленное им. Стало быть, примем так: в книгах заключены души людей, живших до нашего рождения, а также живущих в наши дни, и книга есть как бы всемирная беседа людей о деяниях своих и запись душ человеческих о жизни" (М. Горький. "Жизнь Матвея Кожемякина").
"Скворцы да воробьи в бога не верят, оттого им своей песни и не дано. Так же и люди: кто в бога не верит – ничего не может сказать..." (М. Горький. "Жизнь Матвея Кожемякина").
"Книжная мудрость" и интуитивное знание.
Нижегородский психиатр ("с улыбкой веселого чорта"), "маленький, черный, горбатый", "часа два расспрашивал, как я живу,– писал Горький,– потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал: "Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей, вы человек здоровый, и – стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин – как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, – это будет полезно".
Судя, по биографии, Алексей ПешкОв после этого совета направился в большое пешеходное путешествие. М. Горький: "...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей". Но, видно, в памяти (может быть, бессознательно) застряло.
"Впрочем, давно замечено: или читать – или жить..." [Быков Д.Л.] (Кем, где и при каких обстоятельствах замечено?).
ГЛАВА 8. БЕНЕДИКТИАНЦЫ.
С.А. Венгеров, характеризуя географические труды Н. Гоголя, отмечает: «...Ни в какой другой области научных занятий Гоголя не сказалась так ярко жилка кабинетного ученого..., та характеристичная черта всякого научного деятеля по призванию, которую я бы назвал бенедиктинством. Под бенедиктинством, вспоминая колоссальные фолианты, созданные вдохновенным трудолюбием западноевропейских бенедиктинцев, я разумею любовь или вернее страсть к научному труду как таковому, почти независимо от результатов, к которому он приводит. Научному работнику по призванию доставляет какое-то чисто физиологическое удовольствие самый процесс работы. Приятно делать выборки, переписывать интересные документы, приятно то, что называется „копаться“ в своем материале, дышать „архивною пылью“, перебирать библиографические пособия, самому набирать библиографию, собирать нужные книги, волноваться по поводу того, действительно ли „всё“ узнано, прочитано, подобрано. Без такого увлечения самою механикою работы разве мыслимо собственноручно написать целый том в 250 стр. убористой печати, как это сделал Гоголь?». [Венгеров С.А.]. (Говоря о детстве Н. Гоголя, И. Золотусский отмечает: «... Бывали часы, когда (...) он предавался тихим домашним занятиям – рисовал, раскрашивал географические карты...» [Золотусский И.П.]).
Если вспомнить слова М. Мейеровча об афинской библиотеке Г.Шлимана ("Целые ряды полок, с полу до потолка, заполнены тут исключительно рукописями самого Шлимана" [Мейерович М.Л. С. 142]), то, наверное "бенедиктинство" было чертой и Г. Шлимана. Вместе с тем, участие в раскопках и путешествиях, требовавшее значительного времени, ставило перед Г. Шлиманом задачу экономии времени, максимальной собранности и концентрации.
Работа в библиотеках – лишь внешний (но наглядный, естественный и, как правило, необходимый) признак "бенедиктинства", "учености". Об этом может свидетельствовать следующее высказывание о занятии Н. Гоголем должности адъюнкт-профессора по кафедре всеобщей истории: "Смешная получилась история. Человек без ученой репутации, без солидных трудов, без предварительной кротовьей работы в библиотеках вдруг сразу поднялся на целый этаж" [Золотусский И.П.].
"После заседаний Горький часами рассказывал случаи из своей жизни, демонстрируя не только актерский талант, но и фантастическую – лошадиную, по выражению деда, – свою память, начетническую, полную имен и цитат. Он поражал Федина, Иванова, Замятина разнообразием и точностью сведений. Откуда он их черпал и как запоминал – загадка" [Быков Д.Л.].
В полном смысле бенедиктианцем М. Горького назвать, наверное, нельзя. Упомянем такую его обществоведческую работу как "О русском крестьянстве". Упоминания, например, П.Я. Чаадаева или П.А. Кропоткина в ней не имеется. М. Горький ссылается на ряд писателей, историков, политических деятелей... Однако, его работа носит все-же публицистический, журналистский характер, назвать ее научной как-то не получается... Даже если в тему особо глубоко не вникаешь, все же всплывают – ассоциативно – такие темы как "Крестьянские войны" (Китай, Германия, Австрия, Швейцария), "Вандея" (Вандейские войны)... Стремления "набирать библиографию, собирать нужные книги, волноваться по поводу того, действительно ли "всё" узнано, прочитано, подобрано" не наблюдается. Одним словом, как мыслитель, писатель, публицист М. Горький воспринимается, а вот как ученый – нет. Тем не менее, биографы соглашаются в признании за ним огромного объема точных – (почти) энциклопедических – знаний и безусловного признания важности культуры, стремления ее сохранять и развивать.
"Ценой огромного труда Горький упорно преодолевал препятствия, самоотверженно стремясь к знаниям. Это помогло ему стать впоследствии мыслителем-энциклопедистом с колоссальной широтой кругозора, с редкими познаниями в области истории русской и мировой культуры" [Груздев И.А.].
"Эрудиция Горького отмечается множеством людей, с которыми он имел дело. Однажды К. Федин принес ему в подарок книжечку Нарсеса Клаэнского, патриарха всеармянского. Издана она была в Венеции. В ней был перевод одной и той же вещи на двадцати четырех языках. "Горький оценил курьез, – пишет Федин, – и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением... Горький сказал: – Да, был такой. Кажется, в двенадцатом веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь, – Шноргали. Он был не только богослов, но и поэт... А что в Венеции издано – понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?.. И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только что приготовился читать курс по истории Армении". С кем бы ни беседовал Горький: с ученым-археологом, географом, путешественником – он проявлял огромные знания, удивлявшие его собеседника" [Груздев И.А.].
Характеризуя понятие "бенедиктинство", приведем следующие слова:
"Вклад бенедиктинцев в культуру и цивилизацию западного общества огромен, в эпоху раннего Средневековья бенедиктинские монастыри были главными очагами культуры в Западной Европе. Из школ при аббатствах вышли практически все выдающиеся ученые того времени... В библиотеках при монастырях сохранялись и переписывались древние рукописи, велись хроники, велось обучение людей. (...) Многие бенедиктинские монахи, такие как Ансельм Кентерберийский и Петр Дамиан были видными философами и богословами.
Бенедиктинские монастыри оказали сильное влияние на развитие архитектуры, первые образцы романского стиля появились в аббатстве Клюни, а готического – в аббатстве Сен-Дени.
Чрезвычайно велики заслуги ордена бенедиктинцев по отношению к музыке, её истории и теории. Начиная с Папы Григория Великого почти все значительные деятели, о которых упоминает история музыки, были монахами-бенедиктинцами, а бенедиктинские монахи монастыря Святого Галла Ноткер и Туотило стали крупнейшими поэтами и композиторами Европы в эпоху Карла Великого.
Вклад бенедиктинцев в Новое время в исследования средневековых текстов и живописи также очень велик" ["Бенедиктинцы"].
Наверное, упоминание о бенедиктинстве, о бенедиктинцах, в связи с рассказом о биографиях и успехах Г. Шлимана, Н. Гоголя, М. Горького можно считать уместным, во-первых, в связи с характером, содержанием, результатами их труда – творческого, и – в ряде случаев – исследовательского, а, во-вторых, может быть, и в связи с тем, что Г. Шлиман и Н. Гоголь были выходцами из семей, связанными тесными родственными связями со священнослужителями.