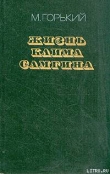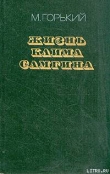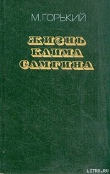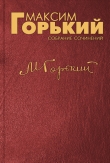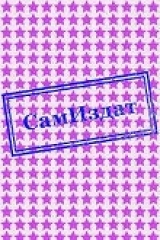
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Вы знаете мягкость моей натуры, дорогие мои, но я должен сознаться, что повешенные за пятки не вызвали никакой жалости во мне, потому что, сам всегда придерживаясь фактов, и только фактов, я неукоснительно требую этого и от других." (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
Глава 2. ГАНЗА – АНКЕРСХАГЕН – ПОМПЕИ
2.1 АНКЕРСХАГЕН: «ГЛУБИНКА» ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР?
Детство Генриха Шлимана было и обычным, и необычным.
И мать, и отец любили его; в большинстве семей родители любят своих детей. Его душа впитывала сказки и легенды; многие дети читают в детстве сказки, верят в них, строят сказочные планы.
Но не у каждого в детстве бывает та среда, в которой проходило детство Генриха. Его непосредственной средой были семья, селение Анкерсхаген, если шире – то Великое Герцогство Мекленбург-Шверин, расположенное у побережья Балтийского моря в северо-восточной Германии.
О Мекленбурге-Шверине – если судить по статьям и книгам о жизни Генриха Шлимана – складывается противоречивое впечатление. С одной стороны, это немецкая глубинка, своего рода захолустье. С другой стороны, прорисовывается весьма гуманное, терпимое, просвещенное, не избалованное материальным изобилием, общество. Рядом с Генрихом Шлиманом живут различные люди, попадают они в разные, иногда весьма неприятные, ситуации. Но не заметно ни жестокости, ни злобности. Напряженные ситуации разряжаются гуманно и, в итоге, благополучно. Сам Генрих, попадая в тяжелое положение, вызывал не столько насмешки и глумление, сколько сочувствие. В книге Генриха Штоля "Шлиман" рассказывается об экскурсии, проведенной отцом товарища Генриха по замку герцога примерно в 1836 году. Генрих, уже после "великой" семейной "катастрофы" оставил гимназию и учится в реальном училище. Одним из его товарищей по училищу стал сын камердинера Вильгельм Руст (дружеские отношения с ним Генрих Шлиман поддерживал на протяжении всей жизни). Камердинер, отец Вильгельма, взяв детей за руки, ведет их по замку, подводит их к статуям, к шкафу со старинными вазами. Генрих внезапно рассказывает, какие персонажи присутствуют в рисунках на вазах. Растроганный камердинер открывает шкаф и дает опаленному семейной катастрофой Генриху подержать в руках эти драгоценные вазы [Штоль. С.54]. Конечно это была атмосфера терпимости, гуманности и сочувствия. Г. Штоль "закольцовывает" эту ситуацию, рассказывая, как примерно через 50 лет Генрих Шлиман (всемирно известный) снова посетил Герцогский замок; имел место визит лично к герцогу (сыну того герцога, при котором состоялось "первое" посещение) [Штоль. С.387-388].
После окончания реального училища в 1836 году Генрих проработал "учеником", своего рода кандидатом в коммерсанты, выполняя обязанности продавца и разнорабочего, пять лет в лавке в Фюрстенберге. Слова Германа Нидерхеффера, по случаю заглянувшего в лавку, "бедность не позорна, ... позорна глупость" [Штоль. С. 65], содержат и моральную поддержку, и позитивную ориентацию на развитие. Построенный Генрихом Шлиманом в Афинах в 1881 году дом-дворец "Палаты Илиона" ("Илиу Мелатрон") украшен надписями; в их числе "Невежество обременяет" [Вандерберг. С. 449]. Само понятие "ученик" содержало в себе некую моральную поддержку: "ученик" был не наемным работником, а человеком с перспективой, одного социального уровня с "хозяином"; в будущем "ученику" предстояло стать коммерсантом (так, кстати, и случилось. Только масштаб коммерции Г. Шлимана оказался неожиданно крупным). Упоминание имени Г. Шлимана в договоре о продаже бакалейной лавки, как мне кажется, вовсе не было оскорбительным и не представляло "ученика" принадлежностью продаваемого мелкого бизнеса, оно служило предусмотрительной – по сути, гуманной – защите "ученика" от увольнения, было своего рода социальной гарантией.
И Адольф Шлиман, двоюродный брат Генриха, гимназист, и Герман Нидерхеффер, недоучившийся в гимназии сын пастора, как пишет Г. Штоль, читают наизусть Гомера (демонстрируют знания плюс неплохую память) [Штоль. С. 50, 66].
В Анкерсхагене жители, современники Генриха, помнят и "односельчанина" Иоганна-Генриха Фосса, переводившего Гомера. В Анкесхагене обсуждают раскопки кургана в одном из соседних селений – Румсхагене [Штоль. С. 28].
Генрих ощущал атмосферу чудес и сказочности. Рядом с пасторским домом располагается пруд "Серебряное чаша", в нем обитает сказочная дева, а рядом с домом появляется приведение [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 36].
Пономарь Пранге (сокрушавшийся о неполученном образовании) и причетчик Веллерт (обладавший отличной памятью и имевший, по мнению Г. Шлимана, задатки великого ученого) рассказывали Генриху сказки, легенды, истории. В одной из историй рассказывалось о попытке Пранге и Велерта узнать, где зимуют аисты (к ноге аиста была привязана записка, написанная Пранге по просьбе Веллерта). Поймав возвратившегося весной аиста, они якобы сняли с его ноги пергамент-ответ, где говорилось: "...Страну, куда аисты прилетают, Святого Иоанна землей называют" [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 39]. У Генриха мог появиться не только интерес к раскопкам, но и склонность к путешествиям. (Интересно, что особенностью Троады было большое количество обитающих там аистов. "...Мы...отдали бы годы своей жизни, чтобы узнать, где же находилась эта таинственная земля Святого Иоанна", пишет Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 34]. В одном из писем миллионера Г. Шлимана своей "детской невесте" Минне Мейнке (уже взрослой и замужней Рихерс) есть фраза: "В Троаде можно увидеть иногда по двадцать аистов на одной крыше" [Мейерович М.Л. С. 145]. Формировалось позитивное отношение к образованию, к научным исследованиям.
Создается впечатление, что Анкерсхаген был не таким уж и захолустьем. В нем жили люди, уважавшие образование, имевшие и широкий кругозор, и широкие интересы.
На периферии биографических материалов – упоминания о мекленбургских консулах, оказывающих пусть и не особо значительную, но весьма своевременную, материальную помощь землякам за границей. О консуле Мекленбурга Кваке упоминает в Автобиографии Г. Шлиман.
2.2. И.Ф. ВЕНДТ, БЛАГОДЕТЕЛЬ.
Й.Ф. Вендт – единственный человек (насколько я могу судить по Автобиографии Г. Шлимана), которого Генрих Шлиман называет своим благодетелем [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 44]. Сама фигура Й.Ф. Вендта является несколько загадочной. Родственники Генриха не жили в условиях материального изобилия. В то же время, уроженец Мекленбурга корабельный маклер Й.Ф. Вендт, действовавший в Гамбурге и встреченный там Генрихом в 1841 году, судя по всему, был материально благополучен, имел связи, влияние. Й.Ф. Вендт (1) устроил Генриху несколько хорошо оплачиваемых работ по переписке, поэтому Генрих смог уехать из Гамбурга без долгов, (2) договорился о плавании (бесплатном для Генриха) в Венесуэлу, снабдил его рекомендательными письмами, (3) прислал Генриху как спасшемуся от кораблекрушения собранные на Рождество среди друзей 240 гульденов (20 фунтов), (4) написал рекомендательное письмо генеральному консулу Пруссии в Амстердаме Гепнеру; с помощью Гепнера Генрих поступил в начале 1842 года на работу в торговую фирму Ф.К. Квина [Штоль. С. 83,94] [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 45].
Если смотреть на ситуацию непредвзято (например, не зная фамилий), то можно предположить не только поддержку земляка земляком, но и помощь родственника родственнику. Г. Шлиман в Автобиографии (1880 год) пишет, что Вендт "в детстве воспитывался" с матерью Генриха Луизой [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 43]. Д.Н. Егоров (1923 год) несколько переставляет акценты, говоря о "детском друге матери" [Егоров, 1923. С.20]. По словам Г. Штоля, Й.Ф. Вендт принадлежал "к числу тех немногих людей, которым можно все рассказать, даже то, о чем обычно не говорят из гордости или стыда"; "...добрый дядюшка Вендт – как Генрих напоследок должен был назвать его и охотно назвал..." [Штоль. С. 82, 84].
В описании помощи, оказанной благодетелем Генриха Шлимана Й.Ф. Вендтом, было использовано – в числе иных – слово "земляк". В русском языке существует еще слово "односельчанин", которое имеет все же некий "профессиональный" крестьянский оттенок. Конечно, и Генрих, и те жители Анкерсхагена, с которыми он в основном общался, к крестьянскому труду имели малое отношение. Поэтому понятие "земляки" более уместно. Отметим, что в жизни Генриха Шлимана занимали заметное место отношения и с земляками, и с односельчанами, жителями Анкерсхагена.
Как бы между прочим Г. Штоль (1910 – 1977) (по словам А.К. Гаврилова, патриот Мекленбурга, беллетрист, скрупулезный исследователь [Гаврилов А.К. С. 20], "заставший" современников Г. Шлимана) упоминает: "...Мекленбург – отечество вендов. У многих мекленбуржцев широкие выпуклые скулы, как и у многих русских, – венды тоже славянский народ" [Штоль. С. 114].
Еще одно небольшое замечание. 20 фунтов, высланные Й.Ф. Вендтом Генриху в Амстердам, в пересчете в современные деньги (через обменные курсы, золотое содержание "тех" валют и современную стоимость золота) составляют примерно 410 000 рублей (современных российских) или около 4900 евро...
2.3. ЭРНСТ ШЛИМАН: ПАСТОР, УЧИТЕЛЬ, ОТЕЦ. ДОМАШНЕЕ (РОДИТЕЛЬСКОЕ) ОБУЧЕНИЕ.
В детстве Генриха имело место домашнее родительское образование.
Распорядок профессиональной деятельности пастора Эрнста Шлимана позволял ему уделять время воспитанию и образованию сына. "...Генрих был усажен за латинскую грамматику и древнюю историю. Пастор не замечал, что сам уже не очень тверд в этих предметах. (...) Особенно увлекался пастор Шлиман, рассказывая сыну о гибели Помпеи и Геркуланума... (...) Когда о Помпеях было рассказано все, что пастор помнил, наступил черед Гомера. Греческого языка Эрнст Шлиман не знал, но читал Гомера в немецком переводе Фосса. (...) Отец рассказал, что в анкерсхагенском замке, в том самом, где когда-то буйствовал Геннинг Браденкирль, жил в 1769 году Иоганн-Генрих Фосс, переводчик Гомера" [Мейерович М.Л. С. 20].
Существует много не совсем лестных оценок жизни и поступков Эрнста Шлимана. Если смотреть объективно, "по гамбургскому счету", его жизнь сложилась не так уж и плохо. До оставления им должности пастора его жизнь была благополучной. Несколько лет (напряженный и трагичный период) длилось разбирательство его деятельности, которое окончилось опять-таки благополучно; Эрнст Шлиман добровольно ушел с должности пастора с вполне приличной компенсацией. Несколько лет прожил не особенно обеспеченной, но и не сильно тяжелой жизнью: будучи вдовцом, женился второй раз (его женой стала женщина почти на 30 лет моложе его; с именем София), во втором браке появились дети. Сын Генрих, начав 1 марта 1844 года работу в торговой фирме "Шредер и К", оказывал материальную помощь и отцу, и другим членам семьи. С середины 1840-х годов до 1870 года (год смерти Шлимана-старшего) Эрнст Шлиман был в целом материально обеспечен, и, не в последнюю очередь, благодаря финансовой поддержке сына Генриха ("Почитай отца твоего..." (Втор 5:16)). Умер Эрнст, зная, что Генрих стал миллионером, совершил кругосветное путешествие, занялся археологией, посетил Помпеи, побывал на Великой Китайской стене и практически приступил к раскопкам Трои. Сомневался ли он в успехе сына? Пусть читатель сам ответит себе на этот вопрос. Наверное, Эрнст Шлиман перестал сомневаться в сыне после получения двух бочонков бордо и ящика сигар. Он получил их от того самого сына Генриха, который отправился почти-что нищим и почти больным в незнакомый город, без особой материальной помощи отца (к тому времени обремененного новой семьей). После 1870 года Генрих продолжал материально поддерживать вдову отца, так как та носила фамилию Шлиман (и кроме того, добавим, была матерью его сводного брата). Так что, суммы, вложенные Эрнстом Шлиманом в книги о Помпеях и о всемирной истории, оказались не чудачеством пастора-неудачника, фантазированием далекого от реальной жизни, запутавшегося в паутине мечтаний, страстей и обстоятельств человека, а вполне эффективными инвестициями.
В 1850 году почти стал богатым человеком другой сын Эрнста Шлимана, Людвиг (умер в США; видимо, от неправильного лечения; располагал на момент смерти приличным капиталом). Устроилась жизнь у сестер Генриха. Видимо, не так уж плохо воспитывал и воспитал своих детей Эрнст Шлиман. "...Кто из вас без греха..." (Ин 8:7).
2.4. ДАЛЕКАЯ ГАНЗА, БЛИЗКИЕ ПОМПЕИ.
Генрих аккумулировал, преобразовывал атмосферу сказочности и транслировал ее на более высокий уровень.
Вряд ли пастор Эрнст Шлиман, отец Генриха, стал бы слушать "россказни" Пранге и Велерта о сокровищах и кладах; пастор, раскапывающий курганы и отыскивающий драгоценности, смотрелся бы странно.
Когда Эрнст Шлиман жаловался на бедность, Генрих советовал ему выкопать серебряную чашу или золотую колыбель. Это не могло восприниматься иначе как наивность и фантазии ребенка. Но "археологические идеи" Генриха накладывались на информацию о раскопках кургана в соседнем Румсхагене, на вести о раскопках в разных частях света, в Помпеях, в Геркулануме [Богданов И.А., 2008 а. С. 48]. Что-то неясное тревожило душу Эрнста Шлимана... "Этот мальчик говорит странные вещи, но мне кажется в его словах что-то есть...". Пастор Эрнст Шлиман, проживающий в Анкерсхагене, приобретает книгу о раскопках в Помпеях. В художественном изложении Г. Штоля покупка этой книги потребовала экономии на еде для всей семьи в течение месяца [Штоль. С. 35]. Книги в то время стоили не мало.
Переместимся по хронологической шкале. Г. Штоль утверждает, что книга самого Генриха Шлимана о Трое в 1883 году стоила 45 марок [Штоль. С. 385] (в переводе на золотое содержание "той" марки и считая по значениям цены на золото ЦБ РФ на 02.02.2016 получаем 44408 рублей или 536 евро).
Вернемся к детству Г. Шлимана. Сомнительно, чтобы в (ориентировочно) 1829 году книги стоили дешевле, чем в 1883 году. Но предположим – условно -, что книга о раскопках в Помпеях и "Всемирная история для детей", приобретенные пастором Эрнстом Шлиманом (примерно в 1829 году), стоили (каждая) в 10 раз меньше стоимости книги Г. Шлимана в 1883 году. Такое предположение маловероятно: чем глубже в прошлое, тем дороже книги; примем названное предположение как временную рабочую гипотезу. Но и при таком расчете 4440 рублей или 53 евро (за одну книгу) – сумма заметная для многодетной семьи. Тем не менее, Эрнст Шлиман шел на эти расходы и на то, чтобы поддерживать и одобрять интерес детей, по крайней мере – Генриха, к археологии и истории. Интересно, много бы нашлось семей, где отец, услышав намерение сына раскопать Трою (!?), одобрил бы такой план? И сколько человек, не считая Эрнста Шлимана, одобряли намерение Генриха Шлимана "раскопать Трою" до момента нахождения "клада Приама" в 1873 году? Разве только направленные Судьбой в Троаду англичане, уроженцы Мальты, братья Калверты, совладельцы "троянского холма". (Ориентировочная дата знакомства Г. Шлимана с одним из братьев, Фрэнком Калвертом, десятое августа 1868 года.). Эрнст Шлиман умер в ноябре 1870 года, когда раскопки Трои стали реальностью (пробные раскопки Генрих Шлиман осуществил в апреле 1870 года). Так что его моральную поддержку (в какие-то периоды не особенно ощутимую, но тем не менее) Генрих имел с детства и почти до открытия "клада Приама". В письме от июня 1870 года поддержку усилий отца выразил четырнадцатилетний сын Г. Шлимана Сергей [Богданов И.А., 2008 б. С. 201].
Германия начала XIX века (еще не объединенная)... Древняя, полумифическая Троя... Что их связывало? Да и связывало ли? На страницах этой книги уважаемый Читатель встретит фамилию: Бисмарк. Канцлер Германской империи (в период 1871-1890 годов) Отто Бисмарк способствовал передаче Генрихом Шлиманом троянской коллекции в дар германскому народу. О юности Отто Бисмарка имеется интересное упоминание: "Уроками он весьма мало интересовался; несколько занимала его разве история, в особенности же рассказы о Троянской войне, которою он увлекался до того, что иногда вслух читал своим товарищам эпизоды из нее. Все это вместе взятое доставило ему кличку Аякса" (Сементковский Р. И. "Князь Бисмарк: Его жизнь и государственная деятельность. 1895. – 98 с."). Читал "Илиаду" Гомера? Наизусть?
Г. Штоль художественно домысливает следующую фразу пастора Эрнста Шлимана: "Быть судовладельцем или купцом, как предки в Висмаре и Любеке, было бы куда лучше!" [Штоль. С. 31-32].
В Википедии говорится, что в роду Шлиманов "кроме священников были аптекари и купцы" ["Шлиман, Генрих"]. М. Мейерович упоминает о прадеде Эрнста Шлимана – богатом любекском купце [Мейерович М.Л. С. 14]. Г. Штоль пишет, что руководитель торговой фирмы, принимая на работу Генриха Шлимана, почувствовал в нем "задатки крупного коммерсанта, из той породы, к которой в прошлые века принадлежали ганзейские купцы" [Штоль. С. 101].
Д.Н. Егоров упоминает о "рискованных предприятиях" Эрнста Шлимана и о "коммерческом риске Шлимана-сына" как "удачном дальнейшем развитии отцовской черты" [Егоров, 1923. С.16]. (Интересно, что Эрнст Шлиман был в числе тех близких Генриху людей, кто "советовал вкладывать деньги в недвижимость: "Так твое состояние никогда не пропадет и принесет тебе хорошие и надежные проценты"" [Вандерберг. С. 122]).
Гены, видимо, брали свое и у Генриха, и у его отца. Их натура требовала простора, энергичных действий.
Анкерсхаген, кусочек сердца Генриха Шлимана, был тем местом, где прошло его детство; но сфера деятельности этого человека была шире.
Для Генриха Шлимана были узковаты те модели жизненного пути, которые предлагал ему северо-восток тогдашней Германия.
Предполагаю, что замена традиционных моделей жизненного пути на нестандартные отвечала натурам и Эрнста, и Генриха; и ни Эрнст, ни Генрих о такой замене не пожалели. (Пастора Эрнста Шлимана не особенно вдохновляла та перспектива, о которой писал М. Мейерович: "приближалась старость, пастору давно перевалило за сорок, мечты надо было оставить" [Мейерович М.Л. С. 15]. Решив не поддаваться пессимизму и "объективному ходу событий", он решил сэкономить на еде, приобрести книги о раскопках в Помпеях и Всемирную историю для детей, заняться домашним образованием сына Генриха; прожил до девяноста лет; его вторая жена пережила его. "Мечта умирает последней" (поговорка)).
Глава 3. ПОСАДИ В ДЕТСТВЕ У ДОМА АСТРАХАНСКУЮ ЯБЛОНЮ;
СТАНЕШЬ ВЗРОСЛЫМ – МОЖЕТ БЫТЬ, СТАНЕШЬ В РОССИИ МИЛЛИОНЕРОМ И УВИДИШЬ В США СЕКВОЙЮ И ПОСТРОИШЬ ДОМ В АФИНАХ!
В книге Г. Штоля есть упоминание об астраханской яблоне, которая росла у пасторского дома в Анкерсхагене, которую Генрих Шлиман оставил вместе с детством и домом в 1831 году, и которую, будучи гражданином США и жителем Афин, навестил в 1883 году [Штоль. С. 389].
Мне показалось упоминание об этой яблоне интересным. Что еще астраханское, или – шире – российское, можно было найти в прибалтийском Мекленбурге? В 1844 году в космополитичном Амстердаме Генриху не удалось обнаружить носителя русского языка (кроме консула Танненберга)! [Штоль. С. 103-105].
В 1866 году российский подданный и купец Генрих Шлиман почти добрался до Астрахани, путешествуя по Волге (миновав Саратов, он от Царицына повернул на Таганрог, и, далее, на Париж). (В Астрахани по торговым делам доводилось бывать представителям Шлимана-коммерсанта [Богданов И.А., 2008 а. С. 245]).
Насколько астраханская яблоня повлияла на юного Генриха в формировании его устремлений? Существовала ли она в действительности? Знал ли Генрих название этой яблони? Почему именно "астраханская"? Знал ли он, что такое "Астрахань"? И что расположен этот город в России? Что рассказали ему в сказочном Анкерсхагене о России, об Астрахани? Может быть, упомянули, что Россия граничит с Китаем? А о Китае, о Великой китайской стене он в детстве слышал – мы знаем это из его Автобиографии. Довелось ли ему отпробовать вкусных, ярко-красных, сладких, чуть с кислинкой, яблок? Когда он принимал решения: сначала выучить русский язык (без учителей, без учебников, почти без книг на русском), а позже – отправиться в 1846 году в далекий и не очень понятный Петербург: мелькнули ли в эти моменты воспоминания о вкусных красных плодах, или, по крайней мере, о самой яблоне? Вспомнилось ли что-то о яблоне, когда он, неожиданно став в России богатым, знакомился в Лондоне с выписками с банковского счета? В какой мере сохранилась яблоня к приезду Г. Шлимана после его многолетнего отсутствия?
На эти вопросы Г. Штоль в своей книге ответов не дает. И, наверное, не мог бы дать. Если только в дневниках, письмах или мемуарных материалах современников Г. Шлимана есть какие-то упоминания...
Но для любознательного мальчика, каким был Генрих, вполне естественно было задавать много вопросов по любому поводу, в том числе и о яблоне. Тем более, по словам Г. Штоля, астраханскую яблоню у дома своего детства посадил сам маленький Генрих. Пришло время, и в 1865 году в США миллионер, ставший в 1869 году американским гражданином, Г. Шлиман осмотрел калифорнийские секвойи [Богданов И.А., 2008 а. С. 360].
Конечно, за достоверность упоминания в книге Г. Штоля астраханской яблони автор данной книги ручаться не может; но сама по себе биографическая деталь, безусловно, красивая.
("И в то же время он успевал заниматься такими вещами, как агитация за разведение эвкалиптов на улицах Афин. Он привез сотню молодых эвкалиптов, вырытых с корнями, и раздал местным домовладельцам. Из сотни посаженных деревьев прижилось только одно, остальные погибли. Шлиман жалел о деревьях, точно ребенок" [Мейерович М.Л. С. 154]).
Глава 4. СПАСАЙСЯ ...БОЧОНКОМ
Определенный уровень мистики ощущается различными авторами, пишущими о Г. Шлимане. Например, в одном из анонимных рефератов, размещенных в Интернете, некоторое акцентированное значение придается бочонку. Бочонок с цикорием, как подчеркивает анонимный автор реферата, спас Г. Шлимана от тяжелой и нудной работы «учеником» в бакалейной лавке. Генрих поднял бочонок, тот был слишком тяжел. Из горла пошла кровь. Работа в лавке на этом завершилась (1841 год). Анонимный автор реферата продолжает «гнуть свою линию»: мистический бочонок снова появился в жизни Г. Шлимана в момент кораблекрушения (при попытке отправиться в Венесуэлу в декабре 1841 года). Генрих якобы вцепился в бочонок, что помогло ему удержаться наплаву.
Немного прервав логику анонимного рефератора отметим, что вслед спасенному Генриху море выбросило и его сундучок с письмами и некоторыми вещами. Он был единственным из числа спасшихся, чьи вещи оказались "возвращены" морем. Генриха после этого случая прозвали Ионой (в составе Библии – Книга Пророка Ионы).
Возвратимся к вышеотмеченному реферату. В третий раз анонимный автор упоминает о бочонке, рассказывая о периоде жизни Генриха Шлимана в Петербурге. Купец Шлиман Андрей Аристович завозил в Россию различный товар, в том числе и голландскую селедку, причем "бочонок дарил купцам-друзьям". Выскажем предположение, что может, и эти бочонки с сельдью (и не только с сельдью) помогли ему благополучно "выплыть" из российских "водоворотов" с хорошим капиталом и благополучно приплыть к проливу Дарданеллы?
Развивая тему мистического бочонка, отмечу, что в биографии Г. Шлимана бочонок "всплывает" еще по меньшей мере один раз.
Приступив к хорошо оплачиваемой работе (1844 год), начав жить, применяя современный термин, "по-человечески", но будучи системно экономным, он отправил два бочонка бордо и ящик сигар своему отцу отставному пастору Эрнсту Шлиману, тому самому, кто в ряде публикаций предстает как человек, виновный в ранней смерти (1831 год) своей первой жены Луизы, матери Г. Шлимана, и присвоивший наследство, завещанное ею сыну Генриху. Именно этот человек, Эрнст Шлиман, по словам самого Генриха, купил ему в подарок книгу "Всемирная история для детей" с картинкой о Троянской войне и изображением стен Трои, поддержал его детское намерение их (троянские стены) раскопать. Он учил Генриха латыни, да, наверное, и не только латыни (с кем мог Генрих в детстве обсуждать полумифическую для прибалтийских жителей Великую китайскую стену?), кто, наверное, не раз молился за Генриха. Может быть, и эти два бочонка послужили спасению. Спасению души. "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мф 16:26).
Кроме двух бочонков (с бордо) Генрих направил отцу еще и ящик с сигарами. Так что тема мистических бочонков преобразуется в тему реальных ящиков. (Слово "бордо" еще появится в нашем повествовании).
В ящиках, как правило, перевозилось то самое "синее золото" (индиго (краситель)), которым Г. Шлиман успешно торговал в России.
Г. Шлиман, кругосветный путешественник, посылает в 1865 году два ящика с камнями от Великой Китайской стены в Петербург [Гаврилов А.К. С. 331].
В пятнадцати ящиках в Берлин была перевезена в 1879 году археологическая коллекция Г. Шлимана, переданная в дар немецкому народу (несколько позже к 15 ящикам прибавилось еще 40).
В музее Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица (г. Петербург) были выставлены высланные в августе 1882 года Г. Шлиманом в дар "древности", занявшие при перевозке не менее 4 ящиков.
В общем, удачливый и неутомимый коммерсант и неутомимый и удачливый путешественник Генрих Шлиман, оставил массу сведений о своих путешествиях. Он совершал их на кораблях, на других транспортных средствах, иногда – короткое время – на бочонке. И немало сведений осталось о деталях, связанных с транспортировкой, путешествиями и переездами: например, о ящиках и чемоданах.
Глава 5. СТАНЬ ... УНИВЕРСИТЕТОМ
5.1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ «ЗЕМНОЙ ШАР».
Хороший, удачливый коммерсант – настойчивый, трудолюбивый, бережливый, – но!... случайный ученый, мыслитель, культурный деятель, ставший знаменитым и общепризнанным благодаря стечению обстоятельств.
В позитивно-ориентированных книгах о Г. Шлимане присутствует едва уловимый акцент. Эта позиция не формулируется отчетливо, она прорывается через гиперболизированные похвалы, слегка иронические оценки, прямой или косвенный сарказм.
После моего знакомства с биографическими работами о Г. Шлимане я понял, что это абсолютно, в корне неверная позиция.
Один из корней этой позиции – это преклонение перед формальными социальными титулами. Уважение к подобным титулам – это свойство любого цивилизованного общества. Но в эпоху феодализма, да и в другие эпохи, формировались социально уязвимые группы, которые генерировали гипертрофированное уважение – преклонение. И это преклонение незаметно стало одним из элементов общественного подсознания.
Читая о детстве Г. Шлимана, проведенном в Анкесхагене, я – совпало – услышал радиопередачу о проблемах современного родительского воспитания детей. Выступавший по радио родитель перечислял множество кружков и секций, куда был определен его ребенок, и продолжил перечисление, размышляя, куда бы его (ребенка) было полезно определить в будущем. Я невольно сопоставил эти радиорассказы и радиоразмышления с фактическим воспитанием Г. Шлимана: в гуманной социальной среде собственными родителями. И подумал, что кружки и секции с какого-то момента превращаются в бестолковую суету; они не могут заменить родительского воспитания, домашнего образования и гуманной доброжелательной социальной среды. Хотя справедливости ради отметим, что маленький Генрих в Анкерсхагене обучался танцам, так что можно сказать, что он посещал танцевальный кружок. (В вышеупомянутом фильме "Таинственное сокровище Трои" его создатели весьма элегантно разместили эпизод с главным героем, Генрихом, танцующим с Софией греческий танец под звездным троянским небом). Насколько навыки танцевального кружка трансформировались в реальные танцы? Сказать сложно. Отчетливых данных ни "за", ни "против" не имеется. В одном из писем Г. Шлиман иронически писал: "...От жизни как от каждого года, остается только то, что сегодня бал ... Жалкая картина..." [Богданов И.А., 2008 а. С. 168]).
Однако при рассмотрении этого родительского "анкерсхагенского" воспитания возникает вопрос о формальных социальных титулах; кружки и секции выдают грамоты, свидетельства и т.д., они сами по себе являются носителями неких брендов. Что мог дать в этом смысле пастор Эрнст Шлиман? Благословить Генриха на раскопки Трои? Смешно, правда?
Пройдет время, всемирно известный Генрих напишет в автобиографии об одобрении отцом планов раскопок Трои: "...наконец мы оба согласились на том, что когда-нибудь я должен раскопать Трою" [Шлиман Г. Илион. Т.1. С. 38, 55]. Формулировка "мы оба согласились" предполагает такую траекторию обсуждения, при которой Генрих не просто бы высказал намерение, но получил бы в ответ одобрение отца; отец высказал одобрение маленькому мальчику. В дневнике Г. Шлимана появится запись, что он увидел Великую китайскую стену "о которой с самого нежного детства я не мог слышать без чувства живейшего интереса" [Мейерович М.Л. С. 61]. Но в некоторых информационных источниках звучат сомнения: " что? в нежном детстве планировал раскопать Трою? обсуждал Великую китайскую стену? практически нереально!" Вот если бы какая-то грамота или свидетельство или еще что-то официальное, с подписью и печатью...
Преклонение перед официальными титулами порождает подсознательный стыд за Г. Шлимана: у него не было ни законченного гимназического, ни законченного высшего образования. За этим подсознательным стыдом следует появление той позиции, о которой я уже упомянул: да, настоящий коммерсант, но ученый как бы случайный, ставший таковым в силу удачного, случайного, счастливого стечения обстоятельств.
На самом деле это феодальноукорененное преклонение перед социальными титулами формирует совершенно ложное представление о Г. Шлимане как об ученом.
Наверное, не случайно именно Англия, в то время наиболее развитая европейская парламентская демократия, реально освободившаяся от феодальных пут, дала старт широкому признанию Г. Шлимана.
Английский выдающийся историк Генри Томас Бокль, не получивший систематического образования, практически ровесник Г. Шлимана, "к двадцати пяти годам ...уже знал девятнадцать языков, читая на каждом из них совершенно свободно и был в состоянии даже говорить на них, хотя и с акцентом", "сохранил он, очевидно под влиянием личного своего опыта, убеждение, что "нельзя насиловать наклонностей и влечений ребенка и юноши", что "надо, по возможности, предоставлять их самим себе, а не коверкать по программе и не принуждать по системе". Всякий, говорил он, сам найдет себе дорогу; не беда, если он будет меньше образован, важно, чтобы он был самостоятелен, был самим собой" (Соловьев Е. А. "Г.Т. Бокль: Его жизнь и научная деятельность. 1895. – 80 с.").