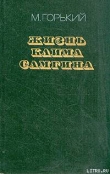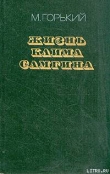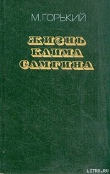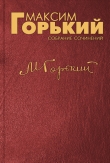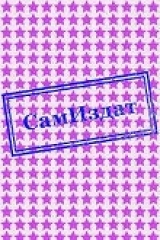
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
И.М.Нефедова упоминает, что в ходе почти полуторогодового путешествия, начатого в апреле 1891 года М. Горький, в числе других занятий, читал молитвы по покойнику [Нефедова И.М.].
"Он еще не переосмыслил на свой лад библейскую книгу Иова. Через много лет он напишет философу В.В.Розанову: "Любимая книга моя – книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнением, а особенно 40 ю главу, где Бог поучает человека, как ему быть богоравным и как спокойно встать рядом с Богом"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"В "Самарской газете" Горький писал заметки о городских событиях, фельетоны. Фельетоны подписывал странно – Иегудиил Хламида. (Иегудиил – по еврейским религиозным сказаниям, один из семи высших ангельских чинов; хламида – у древних греков и римлян плащ, перекинутый через левое плечо; в просторечье – несуразная одежда (в Самаре Горький носил "крылатку" – широкий черный плащ).)" [Нефедова И.М.].
"Конечно, это случайность, что появление "Очерков и рассказов" почти буквально совпало с выходом в свет первого русского перевода "Так говорил Заратустра". Но Горький к этой случайности хорошо подготовился" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Религию М. Горький не отвергал.
В декабре 1887 года М. Горький (ему тогда было 19 лет) совершил попытку самоубийства; за этой попыткой последовало отлучение М. Горького от церкви на несколько лет. (В первой половине 1887 году умерли бабушка и дед М. Горького). Судя по биографической литературе, после окончания срока отлучения от церкви М. Горький продолжил участие в религиозных обрядах (по крайней мере, эпизодическое). Да и само отлучение выглядит не как репрессия (в чем репрессия?), сколько как заботливое увещание. Сам М. Горький позднее вспоминал о своей попытке самоубийства осуждающе. Можно утверждать, что и попытка самоубийства, и последующее отлучение свидетельствуют о драматичности религиозности М. Горького, но не ставят эту религиозность под сомнение.
"Завершают "Исповедь" слова о едином и верном пути народа "ко всеобщему слиянию ради великого дела – всемирного богостроительства ради!"" [Нефедова И.М.].
"Горький увидел в религии одно из средств объединения масс, столь актуального в пору реакции: "разрушаются люди, отъединенные друг от друга и обессиленные одиночеством". Писатель хотел превратить религию из врага социализма в его союзника, пытался признавать "бога без церкви"" [Нефедова И.М.].
"Сурово критиковал Ленин деятельность каприйской партийной школы, в работе которой писатель принимал живое участие и которая не следовала ленинскому курсу, стала фракционным центром отзовистов, ультиматистов и богостроителей" [Нефедова И.М.].
"Но вот, отплывая от сырного острова, я почувствовал крайнее изумление, быть может, впервые в своей жизни. Дело в тем, что остров, как я уже вам рассказывал, покрыт громадными деревьями. И в момент, когда мы отъезжали, все эти деревья трижды низко поклонились нам, после чего приняли снова вертикальное положение. Много раздумывая, я до сих пор не могу отыскать должного объяснения этому обстоятельству в науке" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
"Почему бы не издать библию с критическими комментариями... Библия – книга в высокой степени неточная, неверная. И против каждого из тех текстов, которые могут быть выдвинуты противником, можно найти хороший десяток текстов противоречивых. Библию надо знать", – говорил Горький на открытии II Всесоюзного съезда воинствующих безбожников в 1929 году" [Нефедова И.М.].
(Интересный вариант "воинствующего безбожия"... Как-то не осталось со времен социалистическо-атеистических примеров государственного издания Библии, хотя бы и с критическими комментариями. Разве только, минимальными тиражами, для узкого круга привилегированных читателей? Или даже таких – минимальных – "социалистических" тиражей не случилось?).
"Религиозное творчество я рассматриваю как художественное: жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантастические романы" (М. Горький. "Лев Толстой", примечание).
(В такой позиции отсутствуют и осуждение, и агрессивность. А при перестановке акцентов можно смоделировать восхищение: Романы... Фантастические! Религиозное творчество... Фантастическое!)
Только вот какова была практика постреволюционной власти? Можно было одобрять и присутствием, и молчанием...
М. Горький: "Я видел Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах...".
"В предсмертном бреду он, по собственному признанию, записанному Марией Будберг за два дня до его смерти, "с Господом Богом спорил. Ух, как спорил!"" [Быков Д.Л.].
"За день до смерти Горький сказал Липе Чертковой: "А я сейчас с Богом спорил... ух, как спорил!" Через день, 18 июня, он закончил этот спор навеки. Или ушел доспорить лично – это уж кому как нравится" [Быков Д.Л.].
"Да, обида! Несомненно, Горький был сперва обижен Толстым и только позже, почувствовав его собственную "слабину", несколько успокоился и даже сумел нанести своему обожаемому сопернику ответный удар, создав образ Луки. Конечно, когда он писал Луку, он думал о Толстом. Публика этого не поняла, ну так и что? Зато это понял сам Лев. И как огрызнулся!
Рыкнул так, что осталось в веках как самая, быть может, беспощадная характеристика Горького. "Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядатая, он пришел откуда то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем доносит какому то своему богу. А бог у него – урод..."" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Не мог он понять и того, почему Горький так увлекается житийной, религиозной литературой. Для Андреева, не верящего в Бога так же, как и в Человека, любая мистика – это трусость. (...) Для Горького же святые подвижники вроде Стефана Пермского – это прежде всего люди прямого, ответственного дела. Их цельность, твердая воля привлекали Горького так же, как привлекал его Ленин" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"В этом же письме Горький с уважением отзывается о патриархе Тихоне, которого Ленин ненавидел: "очень умный и честно мыслящий человек". Горький то, который не терпел церковников, так как еще с юности был обижен ими! Насколько же должно было измениться его сознание! Письмо было написано в связи со смертью зятя Короленко К.И. Ляховича" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Горький вообще был страстным "огнепоклонником" – часами любовался горящим костром, праздничным фейерверком в революционном Петрограде и в Сорренто: "Разжечь костер – для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку". С большим чувством и мастерством описывал Горький огонь в своих произведениях" [Нефедова И.М.].
"Вот только один эпизод из последних лет его жизни, недавно обнародованный. С мая 1928 года в семью Горького, который с этого времени ежегодно наезжал из Сорренто в СССР, а затем и поселился на родине окончательно, стала вхожа удивительно красивая, с роскошными густыми длинными волосами и раскосыми глазами, студентка Коммунистического университета трудящихся Востока (сокращенно КУТВ) Алма Кусургашева. Алма происходила из малого алтайского народа – шорцев, ее предки были шаманами. (...) Стареющего Горького чрезвычайно увлекла Алма, но скорее не столько как студентка Коммунистического университета, сколько как девушка неописуемой красоты и как представитель древнего языческого народа. Он много спрашивал ее о шаманизме и проявлял в этом немалую осведомленность" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Все упомянутые выше сведения и обстоятельства позволяют предполагать наличие весьма ощутимой мистической составляющей в судьбах ГенрихаШлимана, Николая Гоголя, Максима Горького.
ГЛАВА 20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУДУЩИМ. ОБЕЩАНИЯ. КЛЯТВЫ. СИЛА СЛОВА (ПРОИЗНЕСЕННОГО, НАПИСАННОГО).
20.1. ЗАКЛИНАЮ ВАС...
Рассматривая развитие «мифа героя своего времени», «мечты о Трое», «троянской легенды», А.К. Гаврилов комментирует один из элементов этой «легенды»: «Ребенок, которого ожидало еще немало тягот в жизни, сказал, что раскопает Трою, а почти пятидесятилетний миллионер обещание выполнил» [Гаврилов А.К. С. 313].
22 и 24 августа 1868 года Генрих Шлиман, после того, как он 10 августа увидел Гиссарлык, "писал из Константинополя отцу и сестре Дорис: "В апреле следующего года я обнажу весь холм Гиссарлык, ибо уверен, что найду Пергам, цитадель Трои"" [Богданов И.А., 2008 б. С. 51].
Перед отъездом в Америку, в феврале 1869 года Г. Шлиман направляет епископу Теоклету Вимпосу письмо, в котором, в частности, содержатся следующие строки: "Клянусь Вам памятью моей матери, все мои думы направлены на то, чтобы сделать счастливой мою будущую супругу. Клянусь Вам, она никогда не будет иметь повода для жалобы, я буду носить ее на руках, если она будет добра и исполнена любви. (...) Я заклинаю Вас: найдите мне жену с таким ровным, ангельским характером, как у Вашей замужней сестры" [Богданов И.А., 2008 б. С. 60].
27 апреля 1869 года: "...приеду в Афины, поговорю с Софией и женюсь на ней..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 65].
Наверное, примыкает к клятвам и обещаниям такое заявление Г. Шлимана, сделанное после оформления американского развода, может быть, не только первой жене, но и самому себе, в мир. В письме, датированном 4 июля 1869 года, адресованном Екатерине Петровне Шлиман-Лыжиной, он, в частности, пишет: "...здешний развод не может быть уничтожен, он навсегда свят..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 56].
Отметим, что в одном из писем Софии Генриху Шлиману, датированном 15 сентября 1869 года (написанном примерно за неделю до свадьбы), содержатся слова: "Клянусь Всевышним, что мое уважение к Вам никогда не будет поколеблено, Вашу волю я буду чтить как божественную власть и сколько всемогущий Бог отпустит мне жить, столько я буду любить Вас и навсегда останусь Вам преданной и верной женой. Клянусь, что самой большой моей заботой будет сделать вас счастливым" [Богданов И.А., 2008 б. С. 77].
"Теоклет Вимпос подыскал-таки ему невесту. Он понимал, что она должна была быть похожа на Елену, дочь Зевса и Леды (хотя кто видел ту Елену?)..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 62]. Можно предположить, что Генрих Шлиман увидел.
После "золотых находок" в Микенах Генрих Шлиман направил телеграмму греческому королю: "Одних этих сокровищ достаточно, чтобы заполнить большой музей, который станет самым чудесным на свете музеем и всегда будет привлекать в Грецию тысячи иностранцев" ["Шлиман, Генрих"] [Богданов И.А., 2008 б. С. 233-234].
"Я молча поклонился, попросил бумаги и чернил и написал несколько почтительных слов Марии-Терезии, дочери покойного императора, чрезвычайно благоволившего ко мне" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).
(В 1887 году "Шлиман выделил часть своих средств на возведение здания Германского археологического института в Афинах по проекту Э. Циллера" ["Шлиман, Генрих"]. Здание существует по сей день. Там не раз останавливался И.А. Богданов [Богданов И.А., 2008 б. С. 259]. Найденные в Микенах золотые артефакты ныне представлены в Национальном археологическом музее (Афины) ["Шлиман, Генрих"]. В шлимановском Илиу Мелатрон – Нумизматический музей ["Илиу Мелатрон"]).
Для полноты картины приведем и такую клятву Генриха Шлимана: 26 апреля 1869 года: "23 года назад я одолжил одному человеку 400 франков, но он мне так и не вернул ни гроша. В то время все мое состояние насчитывало 400 франков. Поэтому ... я поклялся в церкви, что никогда больше не буду никому одалживать деньги" [Богданов И.А., 2008 б. С. 63].
20.2. Я СОВЕРШУ...
В биографии Николая Гоголя также зачастую упоминаются клятвы, обещания.
"И вот теперь Гоголь клянется... перед пушкинской трагедией (кстати, характерно, что он называет ее "поэмой" – знак высшего художественного совершенства; впоследствии это определение будет применено к "Мертвым душам"): "Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки..." и т. д." [Манн Ю. В. С. 195].
"Почти в год Гоголь создает "Тараса Бульбу" (первую редакцию), "Старосветских помещиков", "Портрет", "Невский проспект", повесть о Поприщине, "Вия", "Женихов" (будущую "Женитьбу"), статьи. Все это начинается и обдумывается в 1833-м и завершается в 1834 году, ибо в самом начале 1835 года и "Арабески" и "Миргород" уже выходят в свет, 1834 год – счастливый год в жизни Гоголя.
Он полон сознания, что ему все удается и удастся. Клятва, данная им в 1833 году, сбывается, сбываются ее слова: "Я совершу... Я совершу..."
Эта клятва сохранилась в бумагах Гоголя без всякого названия, вверху листа стоит только дата: 1834-й. Для Гоголя такой способ разговора с собой естествен. Во-первых, потому, что он верит в обет клятвоприношения, как верят, кстати сказать, в это и его герои (Андрий, например). (...) "Великая торжественная минута, – пишет Гоголь. – ...У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й (год)? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною... Таинственный, неизъяснимый 1834 (год)! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? ...Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные ж упоительные лелеявший во мне мечты. О взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О поцалуй и благослови меня!" (См.:[Золотусский И.П.] [Мочульский К.В.]).
"Он, Гоголь, у провидения под присмотром. Но мессианизм не означает облегчения участи – наоборот. Гоголь ожидает новых трудностей, готов "терпеть и недостаток и бедность" ради задуманного подвига. "Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст" (...)" [Манн Ю. В. С. 454]. (Тема "львиной силы" со временем получит некоторое развитие. "...И бесстрашный лев наконец должен взреветь, когда нападут на него бессильные комары со всех сторон и кучею" (Н.В. Гоголь Смирновой А. О., 6 декабря 1849 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.]).
"– Простите, паночку, – отвечала молодица, низко кланяясь, – я не знала, что вы такие добрые панычи. Сказано: у бабы волос долгий, а ум короткий. Конечно, жена всегда глупее чоловика и должна слушать и повиноваться ему – так и в святом писании написано.
Остап показался из-за угла хаты и прервал речь Марты.
– Третий год женат, – сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, – и впервые пришлось услышать от жены разумное слово. Нет, панычу, воля ваша, а вы что-то не простое, я шел сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусила, аж смотрю, вы ее в ягничку (овечку) обернули.
– Послушай, Остапе, – ласково отозвалась Марта, – послушай, что паныч рассказывает!
Но Остап, не слушая жены, с удивлением продолжал смотреть на Гоголя.
– Не простое, ей-ей не простое, – бормотал он, – просто чаровник (чародей)! Смотри, какая добрая и разумная стала, и святое писание знает, как будто грамотная.
Я также разделял мнение Остапа; искусство, с которым Гоголь укротил взбешенную женщину, казалось мне невероятным; в его юные лета еще невозможно было проникать в сердце человеческое до того, чтоб играть им как мячиком; но Гоголь, бессознательно, силою своего гения, постигал уж тайные изгибы сердца. (...)" (А. П. Стороженко. Воспоминание) (См.:["Гоголь в воспоминаниях современников"]).
Обещания... Клятвы... Слова, обращенные к самому себе... Вспоминаются письма Генриха Шлимана к самому себе; несколько таких писем Генрих Шлиман написал в период коммерческой "карьеры".
20.3. ЗАПИСАННОЕ СЛОВО ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ...
«По воспоминаниям Сергея Аллилуева, впоследствии зятя Сталина, а в девяностые годы – бакинского и тифлисского машиниста, Горький предлагал рабочим записывать то, что их на заводе особенно возмущает, факты вопиющего угнетения и т.д. Деталь характерная – он уже и тогда считал, что записанное слово обладает силой свидетельства, а то и приговора, что фиксация несправедливости сама по себе подтачивает ее» [Быков Д.Л.].
ГЛАВА 21. ВИКТИМНОСТЬ. ОРУЖИЕ.
21.1. КОЛЬТ И КИНЖАЛ. КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ И ЛИХОРАДКА.
В жизнеописаниях Генриха Шлимана оружие почти не упоминается. Исключением могут быть вооружение периода скупки Г. Шлиманом золота в Калифорнии и случай с неловким использованием ружья на Ниле.
Оснащение оружием в Калифорнии выглядело следующим образом. "В его письменном столе лежали два заряженных, с взведенными курками кольта. Он сам, его кассир и слуга всегда имели при себе охотничий нож и кольт, демонстрируя их окружающим" [Вандерберг. С. 101]. До применения оружия дело не дошло.
При путешествии по аравийской пустыне Г. Шлиман смог ускакать от разбойников; вроде бы, они по нему стреляли. Возможно, это единственный случай попытки применить (физическое) насилие по отношению к нему (в детстве, возможно, были драки со сверстниками).
Если говорить об опасностях, угрожавших жизни Генриха Шлимана, то можно упомянуть действие болезней, стихий воды и огня.
21.2. РУЖЬЕЦО.
О криминальном насилии в отношении Николая Гоголя также очевидных упоминаний не имеется. Принудительные процедуры лечебной направленности перед его смертью, наверное, стоят особняком.
Что касается оружия, то имеется характерное упоминание о "ружьеце" в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".
В биографических материалах о Н. Гоголе упоминаний оружия не заметно. Можно прийти к выводу, что главную опасность для Н. Гоголя представляли эмоциональные переживания, болезни.
21.3. НОЖ, РЕВОЛЬВЕР БАРАБАНЩИКА, ТУБЕРКУЛЕЗ.
М. Горький не демонстрирует пристрастия к оружию, но в его биографии оно появляется довольно часто.
"Алексей схватил нож ("это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца") и ударил отчима в бок с явным намерением его убить. Если бы Варвара не оттолкнула мужа, Алеша, возможно, убил бы его. Потом он заявил, что зарежет отчима и сам тоже зарежется" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"В декабре я решил убить себя... Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной" ("Мои университеты").
"Он не раз жалел о своем поступке: на почве ранения легкого развился туберкулез, мучивший писателя всю жизнь" [Нефедова И.М.].
"Не только с помощью полиции и продажной прессы боролось самодержавие с Горьким. Вечером в декабре 1903 года к писателю в Нижнем подошел какой-то человек и спросил: "Вы Горький?" Получив утвердительный ответ, он неожиданно ударил его ножом в грудь. Нож прорезал пальто и пиджак, но застрял в деревянном портсигаре, который и спас жизнь писателю" [Нефедова И.М.].
"В последний год жизни Горького Алма гостила у него в Крыму, в Тессели. Рано утром она с "тозовкой" вышла в парк, чтобы подстрелить ворона. У девушки был значок "Ворошиловского стрелка", но ей не верили. Неожиданно возле нее оказался Алексей Максимович. Он взял ее под локоть и сказал:
"– Не надо этого ворона убивать. Он летал над дачей в год смерти Максима (погибший сын Горького. – П.Б.)"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Рассказывая коротко об оружии в жизни М. Горького, упомянем и о позиции его сына, Максима. "Будучи сам, еще со времен ЧК, тесно связан с органами, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустраивать и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. "Мы частная семья", – настаивал он" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"...Коллекцию старинного оружия подарил Ф.И. Шаляпину" [Нефедова И.М.].
Случались в жизни М. Горького и влияния стихий, например, подземной стихии.
"В ночь с 22 на 23 июля 1930 года, находясь в Сорренто, Горький оказался хотя и не в эпицентре, но недалеко от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с предыдущим землетрясением в Мессине, унесшим свыше 30 тысяч жизней. Горький ярко описал эту трагедию в письме к своему биографу Груздеву...
Это страшное событие произошло за год до переезда Горького в СССР..." [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"...Владислав Ходасевич, близко общавшийся с Горьким в 1917-1918 годах и в двадцатые годы, свидетельствует: "Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Сопоставление трех биографий не может дать однозначных выводов относительно связи между оружием (его использованием) и успешностью. Вместе с тем, примеры Генриха Шлимана и Николая Гоголя показывают, что отсутствие оружия и его применения в биографии выдающегося человека вовсе не препятствует достижению успеха. "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф 5:9).
Что касается "виктимности", то такой вопрос более сложен. На выдающегося человека могут сыпаться удары, и он должен идти на риск их принятия. Пример М. Горького дает картину человека, способного не чувствовать боль, "держать удар". Генрих Шлиман дает пример бесстрашия: корабли терпят крушения, в поездках случаются "экциденты", а он пускается в плавания, в путешествия снова и снова. "...Я говорил себе: "О Синдбад, о мореход, ... всякий раз ты испытываешь бедствия и утомление, но не отказываешься от путешествия по морю..."" ("Сказка о Синдбаде-мореходе. Рассказ о седьмом путешествии"). Но в то же время пример Николая Гоголя показывает, что человек собранный, сконцентрированный на творчестве, вовсе не обязательно должен стать мишенью для разнообразных ударов (при таком взгляде не учитывается возникновение у Н. Гоголя болезненных состояний).
Попробуем сформулировать законы успеха: "Старайся не пользоваться оружием; старайся обходиться без оружия", "Сопоставляй успех и риск; определяй приемлемый для тебя уровень риска и принимай решение".
ГЛАВА 22. КАПИТАЛ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.
22.1. ЗОЛОТО СЧАСТЛИВЦА.
Рассмотрим вопрос о материальном положении Г. Шлимана, Н. Гоголя, М. Горького.
В Автобиографии Генрих Шлиман пишет: "Небо продолжало благословлять мои купеческие предприятия чудесным образом, так что к концу 1863 года я был владельцем состояния, о котором никогда не осмеливался даже мечтать" [Шлиман Г. Илион. Т. 1. С. 55].
В сентябре 1862 года г. Генрих Шлиман из России писал жене Екатерине, путешествующей с детьми по Западной Европе, "что у него "нынче огромные дела", а Екатерина Петровна прочитала в газете "Le Nord", что ее муж "больше всех переслал в Англию золота"" ("Упомянутую заметку найти не удалось", – добавляет И.А. Богданов) [Богданов И.А., 2008 б. С. 330].
"...Архимандрит Анатолий пишет В.К. Ернштедту 15 января 1882 г.: "Господин Шлиман два миллиона марок вывез из России..."" [Гаврилов А.К. С. 286].
"Я достиг такого счастья и подобного места только после сильного утомления, великих трудов и многих ужасов. Сколько я испытал в давнее время усталости и труда!" (Синдбад-мореход. "Сказка о Синдбаде-мореходе").
22.2. ВОЛШЕБНЫЕ ДОМА ГЕНИЯ.
Николай Гоголь писал в июле 1851 года: «Друг мой сестра! (...) Но войди в мое положение: говорю тебе, что если я умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня, вот какого рода мои обстоятельства. (...) Денежные обстоятельства мои плохи. Видно, богу угодно, чтобы мы оставались в бедности» [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
Казалось бы, в формате материальной обеспеченности Генрих Шлиман и Николай Гоголь находятся на разных полюсах; отсюда возможны стереотипы относительно материальной обеспеченности: "богатый Шлиман" и "бедный Гоголь".
Однако, все не так однозначно.
Можно предположить, что личный капитал Н. Гоголя включал, в частности, такие ценности, как репутация, как (своего рода) бренд. С чем ассоциировалось имя "Гоголь"? Во-первых, с его личными качествами, например, такими, как талантливость, гениальность. Во-вторых, с такими понятиями как "мировая культура", "мировая литература", "российская культура", "российская литература", "Пушкин".
Если уважаемый Читатель произвольно включит телевизор, радио, зайдет на новостной сайт в интернете, он увидит там перечень новостей, то есть, тех тематик, которые более всего интересуют массового потребителя медиапродукции. Вряд ли в этом перечне тем будут присутствовать такие как "культура" или "литература" (хотя некоторая вероятность упоминания не исключается). Отсюда следует, что будь Николай Гоголь нашим современником, вряд ли бы нематериальные активы его капитала ценились бы высоко. Ценились ли они высоко в XIX веке, в период жизни Гоголя? Они ценились. А вот насколько высоко? Из "сегодня", из XXI века, трудно сделать однозначный вывод.
Факты из жизни Н. Гоголя свидетельствуют о том, что эти нематериальные активы и ценились субъективно, и что они объективно были весьма ценны.
В чем выражалась их субъективная оценка?
Н. Гоголь хотя и испытывал недостаток финансовых ресурсов, никогда реально не бедствовал (по-настоящему не голодал, не замерзал от холода).
В молодости он философски и прозорливо писал своему дяде П.П. Косяровскому: "...кого нужда не совершенствует и не делает богатым? Притом же до слишком большой нужды не доеду. (...) ...Хлеб у меня будет всегда" (Гоголь – дяде П. П. Косяровскому, 8 сентября 1828 г.) (см.: [Вересаев В.В.]).
Незадолго до своей смерти он так же философски обращался к своему другу Н.Я. Прокоповичу: "Мы с тобой, слава богу, перешли сорок лет и во всё это время ничего не знали, кроме хорошего, тогда как иных вся жизнь – одно страдание. Да будет же прежде всего на устах наших благодарность" (Н.В. Гоголь – Прокоповичу Н. Я., 29 марта 1850 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
Казалось бы, у Н. Гоголя не было в собственности объектов недвижимости; права на поместье он передал матери. Но не так уж это было для него и важно: если принять как версию тезис о значительной стоимости его нематериальных активов. "Можно было подумать, что во всех городах на земле возникал, как по волшебству, дом, готовый его встретить" [Труайя А. С. 559].
"Таким образом при всех житейских невзгодах и хроническом безденежье у Гоголя всегда было готово убежище и ласковый прием, при чем ему также представлялся широкий выбор провести время в том или другом приятельском доме" [Шенрок В. И., б. Т. 4. С. 820].
Зачем человеку, для которого "во всех городах на земле" возникает "как по волшебству, дом, готовый его встретить", иметь в собственности недвижимость? При таком счастливом положении обладание недвижимостью можно счесть нерациональным; капитал такого человека представлен в нестандартном формате. Имея такое необыкновенное свойство (чудесное обретение дома, готового встретить) гораздо практичнее жить не помещиком в Васильевке или чиновником в Петербурге, а – гениальным писателем в Париже или Риме. Побывать в Константинополе (Стамбуле), в Иерусалиме.
"Вес литературной репутации" Н. Гоголя в какой-то мере иллюстрируется таким замечанием: "А второе издание моих сочинений нужно уже и потому, что книгопродавцы делают разные мерзости с покупщиками, требуют по сту рублей за экземпляр и распускают под рукой вести, что теперь всё запрещено" (Н.В. Гоголь – Плетневу П. А., 15 июля 1851 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
"Скажу вам сперва от Калуги или России, что вас все знают, все читают. Многие, что меня даже удивило, любят, и все ждут, ждут с нетерпением и с любопытством и недоброжелательным, и исполненным какой-то тревожной надежды, все ждут второй том, если не окончание "Мертвых душ"" (А. О. Смирнова – Н. В. Гоголю, 14 генваря 1846 года) [Гоголь Н.В. Переписка. 1845-1846.].
Для современного человека субъективная оценка выдающихся качеств, таланта, гениальности может быть проиллюстрирована продажей права (как правило, в благотворительных целях) отобедать со знаменитостью на протяжении одного-двух часов; стоимость такого права в нашу эпоху в зависимости от обстоятельств доходит до миллиона долларов.
Субъективная оценка производна от некоего общественного мнения. Достаточно много было писателей, имена которых "звучали" во времена Н. Гоголя, теперь об этих именах не очень-то и вспоминают.
Была ли объективная ценность у "нематериальных активов" Николая Гоголя? Полагаю, что факты свидетельствуют о том, что его нематериальные активы имели объективную ценность. Для конкретного человека общение с Н. Гоголем могло трансформироваться в позитивное влияние на судьбу этого конкретного человека.
Иными словами, можно говорить о кармическом влиянии Н. Гоголя.
"И, как нищий, я могу теперь попросить у первого поперечного, в уверенности, что заплачу ему, если не самым делом, то искренними молитвами" (Н.В. Гоголь – А. О. Смирновой, 1845). [Гоголь Н.В. Переписка. 1845-1846.].