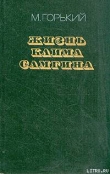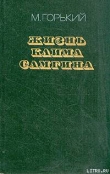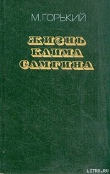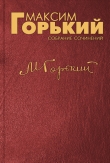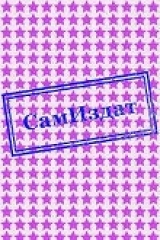
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
"Но здесь нельзя не сказать о том, способен ли был Гоголь к физической близости с женщиной. Врачу А. Т. Тарасенкову, лечившему писателя в последние месяцы его жизни, тот говорил, что "сношения с женщинами он давно не имел и что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения" (...). Свидетельство очень определенное: как бы ни было приглушено физиологическое чувство Гоголя, девственником он не был" [Манн Ю. В. С. 164].
"Иначе говоря, "грехи молодости" относятся скорее всего к гимназическому периоду или к пребыванию в Васильевке во время вакаций" [Манн Ю. В. С. 165].
Достоверных и определенных данных о длительности периода воздержания Н. Гоголя нет; если считать от 1829 и по 1852 год, то длительность такого периода составит более 20 лет. "Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей" (строки из "Тараса Бульбы" Н. Гоголя).
""Я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физического слияния, который я знал в его нищенски грубой, животно простой форме, – этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением". Так он пишет в рассказе "О первой любви". В этом воздержании – тоже нечто сверхчеловеческое, отказ от того человеческого, которое вокруг" [Быков Д.Л.]. (Так ли уж эксклюзивно воздержание (Горьковское воздержание)? Смотри, к примеру, о монахах или об участниках кругосветных плаваний... Да и много других примеров).
"Многие, правда, ставят под вопрос горьковскую чахотку – слишком вынослив и трудоспособен он был почти до самой смерти, может, дело было в хроническом бронхите, – но уж повышенную сексуальность не ставит под вопрос никто. Ранние его вещи целомудренны, зато уж в поздних он перестает стесняться чего бы то ни было – даже Бунину далеко до горьковского эротизма, хотя у Горького он никак не эстетизирован, секс описывается цинично, грубо, часто с отвращением. На Капри рассказывают, что Горький в отелях не пропускал ни одной горничной" [Быков Д.Л.].
15.3. ПУТЕШЕСТВИЯ.
Так же как и Г. Шлиман, Н. Гоголь активно путешествовал. Значительную часть своей сознательной, взрослой жизни он либо жил заграницей, либо путешествовал. География его путешествий и путешествий Генриха Шлимана в чем-то совпадают (Померания, Париж, Рим, Константинополь (Стамбул), Иерусалим, Петербург, Москва, Одесса...).
Анри Труайя называет Рим второй родиной Гоголя [Труайя А. С. 634].
"В Нижнем Горький жил трудно – и материально и душевно. (...) Все это гонит Алексея из Нижнего. И в апреле 1891 года он опять пускается в странствия. Странствовал Горький около полутора лет – побывал на Украине, в Бессарабии, в Крыму, на Кубани, на Кавказе... Батрачил, кашеварил, добывал соль, рыбачил, даже читал молитвы по покойнику..." [Нефедова И.М.]. "Успел побродить и по благословенной Грузии – в Боржоми, Батуми, Телави" [Быков Д.Л.].
"Так начались его странствия. Это было в начале апреля 1891 года. (...)... В одном из его рассказов свои странствия он объясняет неодолимой потребностью уйти "из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности", – так охарактеризовал он жизнь нижегородских кружков..." [Груздев И.А.].
"И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
(...)
Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.
И, позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной..."
«Со станции Филоново его путь лежал через Донскую область, Украину и Новороссию. Он добывает себе на месте пропитание: работает грузчиком в ростовском порту, батрачит у крестьян на Украине, в Екатеринославской и Херсонской губерниях. (...) ...Он прошел к Очакову; здесь, на Днепровском лимане, жил с рыбаками и в поисках заработка ходил на соляную добычу. (...) Его дальнейший путь лежал на Бессарабию. Горький пришел туда к сбору винограда, и этот чудесный край дал ему отдых и восстановил силы. Пройдя южной частью Бессарабии до берегов Дуная, он через Аккерман возвратился в Одессу. Из Одессы, где он работал в порту грузчиком, через Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Тамань, Черноморье, Кубань, Терскую область, по Военно-Грузинской дороге Горький приходит в ноябре 1891 года в Тифлис. (...)... Он исходил Грузию, насыщаясь впечатлениями новой для него и пленившей его страны. Во время этих странствований он побывал в Ахалкалаки, Боржоме, Батуме, Ахалцихе, Кутаисе, Озургетах, Телави и Гори. Летом 1892 года Горький прошел на Черноморье и работал вместе с „голодающими“ на постройке шоссе Сухум – Новороссийск. (...) Еще до похода в Черноморье Горький побывал и в другой, восточной части Кавказа, в Баку» [Груздев И.А.]. «...Рассказ „Макар Чудра“, написанный Горьким в квартире Калюжного в пору их наиболее тесного сближения. Калюжный же содействовал и тому, что рассказ был напечатан в местной газете „Кавказ“ 12 (24) сентября 1892 года. Этот день Горький считал началом своей литературной работы, – тогда же, сидя в редакции, он придумал свой псевдоним. Нужно вспомнить все условия жизни Горького до этого периода, его метания и сомнения, его хождения, как он выразился, „вокруг да около самого себя“, чтобы понять, как велик был для его сознания переход от „бродяги“ к „литератору“, при его высоком представлении о назначении писателя. Рассказ „Макар Чудра“ Горький назвал своим „первым, неуверенным шагом“ на пути литератора. И все же великая объективная правда была в том, что этим рассказом стали открываться собрания сочинений прославленного писателя, что этот полусказочный очерк стал рубежом в русской литературе и целое поколение читателей запомнило его знаменитое начало: „С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов“» [Груздев И.А.].
Перечисление географических названий, характеризующих пешеходные путешествия М. Горького, любопытно дополнить осмотром географической карты, хотя бы мысленной прокладкой траектории его движения.
Невольно возникла мысль: рахитичный парень такие бы расстояния не прошел; да и ветер был не всегда теплый, а иногда "дул влажный холодный". Здоровье, в общем, было неплохим. Василий Васильевич, дедушка, на питании внука не экономил?
15.4. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ.
В системах персональной независимости выдающихся людей важную роль играли перевоплощения.
В перевоплощениях проявляется творческий потенциал личности; перевоплощения могут служить способом адаптации, развлечения, тренировки.
"Предметом" перевоплощений Генриха Шлимана становились, в частности: имя и отчество, место рождения и место жительства, биографические особенности; род занятий; гражданство; религиозная принадлежность.
При переезде в Россию Генрих Шлиман сделал, по-видимому, предпопытку изменить фамилию.
Г. Шлиман попробовал подписываться "Генрих Иванович" (отчество уже стало предметом творческой переработки; имя его отца – Эрнст). Естественно, обладающий минимальной информацией о Генрихе Шлимане человек понимает, что "Иванович" – это отчество. Для человека, не знакомого с биографией Г. Шлимана все выглядит не так уж очевидно. Современником Генриха Шлимана был, например, Михаил Александрович Максимович (3 (15) сентября 1804 – 10 (22) ноября 1873), крупный ученый; "Пушкин и Гоголь были в восторге от украинских песен Максимовича; Гоголь питал к Максимовичу Михаилу Александровичу истинную дружбу и вел с ним переписку" ["Максимович"]. "Иванович" нисколько не противоречило бы привычным звучаниям фамилий; без особого труда могло бы трансформироваться в "Иванова".
Генрих Шлиман получает от С.А. Живаго письмо, датированное 6 декабря 1845 года со следующим недоумением: "Что значит подпись Ваша на письме Генр[их] Иванович, а Шлимана уже нет; у нас же в России ведется так: Генрих Иванович Шлиман, спрашивает меня жена о такой перемене в подписи, но я не знаю, что ей отвечать" [Богданов И.А., 2008 а. С. 86]. Иных сведений о планах (предполагаемых) Генриха Шлимана поэкспериментировать с фамилией автор не встретил.
Намереваясь жениться на гречанке, в письме к епископу, греку по национальности, Генрих Шлиман говорит о греках, употребляя словосочетание "наших предков" [Богданов И.А., 2008 б. С. 65].
Что касается Н. Гоголя, то его намерение изменить фамилию осуществилось вполне удачно. Как пишет Ю. Манн, Н.В. Гоголь "унаследовал двойную фамилию – Гоголь-Яновский, подписываясь ею и в гимназии, и в первые годы петербургской жизни. Иногда, впрочем, писал он только "Н. Гоголь", а с конца 1830 года и вовсе отбросил вторую часть. Своему ученику Михаилу Лонгинову – Гоголь занимался с ним с конца 1830 или начала 1831 года – он сказал: "Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали"" [Манн Ю. В. С. 15]. (Тем не менее, автор не готов утверждать, что все личные документы Н. Гоголя (паспорт и иные) содержали его фамилию в новом варианте написания).
Отметим так же и то, что и "Яновский", и "Гоголь" были, возможно, фамилиями "не оригинальными".
"Первым известным лицом в этой родословной был выходец из Польши Иван Яковлевич (фамилия его не названа), назначенный в 1697 (или в 1695) году викарным священником Троицкой церкви в городе Лубны. Определение "викарный" свидетельствует о том, что он принадлежал к католическому вероисповеданию. Затем должность священника в той же церкви перешла к его сыну Дамиану Иоанновичу (по другой транскрипции – Демьяну Ивановичу), о котором известно то, что у него уже была фамилия Яновский. Скорее всего, она была образована от имени его отца – Иван, по-польски – Ян. Николаю Васильевичу Гоголю Демьян Иванович приходился прадедом". Дедом Н.В. Гоголя был Афанасий Демьянович. " ...Афанасий Демьянович добился своей цели: выписка гласила, что (...) собрание, рассмотрев 19 октября 1784 года "доказательства, представленные от полкового писаря Афанасия Гоголя-Яновского" (именно так!), постановило внести его вместе с детьми "в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу, в первую часть", и подтвердило его право на наследственные имения, в том числе и на деревню Ольховец, якобы пожалованную самим королем польским Яном Казимиром (...). (...) ...Афанасий Демьянович утверждал, что его дед Иван (Ян) был сыном Прокопа и польским шляхтичем (...). Прокоп (Прокопий) – действительно существовавшее лицо, сын Евстафия Гоголя. И это еще более затемняло реальную картину: ведь в таком случае дед Иван, владевший приходом в селе Кононовка, должен был иметь отчество Прокофьевич. а не Яковлевич, как это следует из других документов. (...) Факт тот, что родословная Гоголей не переходила плавно в родословную Яновских, обе линии не связаны, между ними существует какой-то разрыв, объяснить который пока не представляется возможным". [Манн Ю. В. С. 10, 12-13]. Таким образом, креация и последующая трансформация фамилии растянулись если не на века, то на десятилетия, и участвовали в ней несколько представителей (нескольких поколений) рода Гоголей. "Гоголь позднее в статье "Взгляд на составление Малороссии" писал: "...со всех сторон открытое место... это была земля страха..." [Манн Ю. В. С. 36]. Можно достаточно обоснованно утверждать, что адаптация была необходимостью.
Теоретически об этом можно спорить, но биографии Генриха Шлимана и Николая Гоголя свидетельствуют: одним из правил успешного существования личности в различных социальных окружениях является почти непрерывное перевоплощение.
Впрочем, грань между перевоплощением и шуткой, розыгрышем, мистификацией иногда довольно-таки незаметная. Примером может служить следующий случай. Литературу в Нежинской гимназии, где обучался Николай Гоголь, преподавал Парфений Иванович Никольский (1782 – ум. не позже 1851), который происходил из духовенства, учился в Московской славяно-греко-латинской академии, а затем в Петербургском педагогическом институте. Он "на Пушкина, Козлова, Дельвига и вообще на "всю эту молодежь" смотрел с видом негодования и сожаления, которое доказывал тем, что он вовсе не читал их (...). Никольский не только был страстным приверженцем русского классицизма, но и сам сочинял в торжественном и дидактическом духе" [Манн Ю. В. С. 85]. Ю. Манн приводит слова одного из мемуаристов: "На одном уроке Гоголь подал ему (Никольскому) стихотворение Пушкина "Пророк" и с спокойной совестью ожидает профессорской резолюции... Никольский прочел... поморщился и, по привычке своей, начал его переделывать". Возвратив стихи мнимому автору, то есть Гоголю, профессор пристыдил его за недостаточное усердие. Тут Николай сознался, что это произведение Пушкина и что он решил подшутить над Парфением Ивановичем, которому никак не угодишь. "Ну, что ты понимаешь! – воскликнул профессор. – Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство... Вникни-ка, у кого лучше вышло..." [Манн Ю. В. С. 85-86]. (Николай Гоголь представил себя автором стихотворения "Пророк", а в ответ получил открытую, более-менее равноправную дискуссию с хорошим образовательным потенциалом и элементами проблемного обучения; может быть, это был один из главнейших и важнейших уроков, который Николай Гоголь получил в Нежинской гимназии).
"...Была разыграна оригинальная репетицiя "Ревизора", которымъ тогда Гоголь былъ усиленно занятъ. Гоголь хотелъ основательно изучить впечатленiе, которое произведетъ на станцiонныхъ смотрителей его ревизiя съ мнимымъ инкогнито. Для этой цели онъ просилъ Пащенка выезжать впередъ и распространять везде, что следомъ за нимъ едетъ ревизоръ, тщательно скрывающiй настоящую цель своей поездки. Пащенко выехалъ несколькими часами раньше и устраивалъ такъ, что на станцiяхъ все были уже подготовлены къ прiезду и къ встрече мнимаго ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удававшемуся, все трое катили съ необыкновенной быстротой, тогда какъ въ другiе раза имъ нередко приходилось по нескольку часовъ дожидаться лошадей. Когда Гоголь съ Данилевскимъ появлялись на станцiяхъ, ихъ принимали всюду съ необычайной любезностью и предупредительностью. Въ подорожной Гоголя значилось: адъюнктъ-профессоръ, что принималось обыкновенно сбитыми съ толку смотрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорскаго Величества. Гоголь держалъ себя, конечно, какъ частный человекъ, но какъ будто изъ простого любопытства спрашивалъ: "покажите пожалуйста, если можно, какiя здесь лошади; я бы хотелъ посмотреть ихъ" и проч. Такъ ехали они съ самаго Харькова" [Шенрок В. И., а].
"А затем Гоголь вновь, как когда-то с неким Васьковым и Пейкером, прибегнул к мистификации. "Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется, немецкой <...>. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя Гонолем и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с паспортом"" [Манн Ю. В. С. 628].
Генрих Шлиман переименовывал членов семьи, слуг, земляков.
Нечто похожее делал и Николай Гоголь.
"Около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки, и даже один скромный приятель именовался София Ге. Не знаю, почему, я получил титул Жюль-Жанена, под которым и состоял до конца" (См.: [Вересаев В.В.]).
П.В. Анненков, которому Н.В. Гоголь "присвоил степень" "Жанен", стал известным мемуаристом. (Кармическое влияние Н. Гоголя?).
Видимо такая практика переименований способствовала перевоплощению самого переименовывавшего.
Перевоплощения случались и в жизни Максима Горького.
"С наклеенной бородой (чтобы не быть узнанным) ходил писатель по улицам, базарам, чайным Москвы – наблюдал, слушал" [Нефедова И.М.].
"Автор рассказа позднее говорил Калюжному: "Не писать же мне в литературе – Пешков", – видимо имея в виду, что фамилия Пешков намекала на приниженность, убогость (пешка). Воплощением терпения и покорности был и святой Алексей; потому молодой писатель "переменил" не только фамилию, но и имя. Новгородские старожилы утверждали, что он выбрал псевдоним в память об отце, которого звали Максим и прозвище которого – за "острый язычок" – было Горький" [Нефедова И.М.].
"В "Самарской газете" Горький писал заметки о городских событиях, фельетоны. Фельетоны подписывал странно – Иегудиил Хламида" [Нефедова И.М.]. (И.М. Нефедова делает примечание: "Иегудиил – по еврейским религиозным сказаниям, один из семи высших ангельских чинов; хламида – у древних греков и римлян плащ, перекинутый через левое плечо; в просторечье – несуразная одежда (в Самаре Горький носил "крылатку" – широкий черный плащ))"
В биографии Максима Горького упоминаются и мистификация, героем которой он стал. "С 6 июня "Правда", "Известия" и другие газеты ежедневно печатают сообщения о здоровье писателя, но для него самого был отпечатан специальный номер "Правды" – без этого бюллетеня" [Нефедова И.М.].
Не чужда Максиму Горькому и сказочность (особенно в начале писательской карьеры). "Он несет Короленко свой первый литературный опыт – огромную поэму в прозе "Песнь старого дуба". Удивительна в людях, многое переживших, эта тяга писать не о том, что они пережили лично, а о говорящих дубах, соколах, чижах, дятлах; сочинять аллегории и сказки – наверное, это и есть тютчевская "стыдливость страданья", а может, дело в том, что ужасное им в жизни надоело" [Быков Д.Л.].
"Беззаботными шутками угощали не только "Дуку" (таково было прозвище, данное Горькому), но и его гостей, которые, пока не привыкали к духу этого дома, иногда молча обижались (как случилось с Б. К. Зайцевым в Херингсдорфе в 1922 году), иногда озабоченно озирались, думая, что над ними здесь издеваются (как было с Андреем Соболем в Сорренто, в 1925 году). И в самом деле: слушать рассказы о том, как вчера днем белый кашалот заплыл из Невы в Лебяжью канавку; или о том случае, когда двойная искусственная челюсть на пружине выскочила изо рта адвоката Плевако во время его речи на суде по делу об убийстве купца Голоштанникова, но в ту же секунду вернулась и с грохотом встала на место; или о том, что у Соловья один предок был известный индейский вождь Чи-чи-ба-ба, было не совсем ловко, а особенно самому профессору Чичибабину, если он при этом присутствовал.
Ракицкого звали Соловьем, Андрея Романовича Дидерихса – Диди, Валентину Ходасевич – Купчихой и Розочкой, Петра Петровича Крючкова – Пе-пе-крю, самого Горького – Дукой, и Муру, когда она пришла с Чуковским, мечтая переводить на русский сказки Уайльда и романы Голсуорси, и рассказала, что она родилась в Черниговской губернии, немедленно признали украинкой и прозвали Титкой" [Берберова Н.Н. "Железная женщина"].
15.5. АПОЛИТИЧНОСТЬ.
И Генрих Шлиман, и Николай Гоголь были, в общем, аполитичны. Даже лояльны. Видимо они понимали или ощущали неясную перспективу, рискованность крупных социальных преобразований. Аполитичность (и, в какой-то мере, лояльность) были элементами их персональной независимости. (Не лили воду на чужую мельницу?).
Был ли аполитичен и лоялен Максим Горький?
Воспоминания М. Горького о Короленко создают впечатление, что оппозиционер Короленко долго не мог решиться стать (хотя бы отчасти) литературным покровителем начинающего Горького. Что-то Короленко останавливало. Настораживало?
Где каторга? Где ссылка? Всего лишь недолгие задержания...? С кем не случается...
Но в сердце старого оппозиционера легенды о твердом, даже героическом поведении Горького в период изгнания Ромася из деревни, перевесили чашу сомнений. Видимо, М. Горький "подошел", хотя и с трудом, под неявные критерии "своего". А "своим" положено помогать. Укреплять ряды. Хотя и ощутимая поддержка со стороны Короленко началась тогда, когда М. Горький уже стал печататься (тифлисский – на тот момент – оппозиционер Калюжный оказался как-то психологически "подвижнее", легче "поддался"; да ведь и для М. Горького Тифлис был лишь эпизодом – хотя и исключительно важным – не то, что Приволжье – "места постоянного обитания". Все мы -Калюжный, Пешков – "временные" (в Тифлисе). "Мы"... Наконец, "мы"... "Дерзай, парень!". Ситуация созрела – и в какой-то момент благоприятные условия совпали; при большом желании и тщательной подготовке и "Песнь старого дуба" подошла бы для публикации: не главы, так страницы, не страницы, так абзацы, не абзацы, так строчки. Важен ведь не объем, важен старт!
И, тем не менее, не отказывая в помощи, продолжая ее оказывать, Короленко отсылает Горького подальше от себя. И в дальнейшем каких-либо близких устойчивых отношений у них не сложилось. Интересно, что в воспоминаниях Горького есть этот акцент: да помогал, да принимал помощь, да благодарен, но детальных сведений о жизни Короленко не имею. "Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени".
Интеграция М. Горького в среду оппозиционеров была весьма специфической; можно даже просто представить, что "карьере" литератора в большей степени могли поспособствовать оппозиционеры, а не представители официальной власти. ("Паучок" и "паутинки" оказались в литературном деле в начале XX века не очень-то эффективны).
М. Горький как революционер – величина относительная. Суета конкретно жандармов и власти в целом вокруг него делала ему хорошую рекламу как литературу – оппозиционеру; а кто из популярных литераторов не был тогда оппозиционером? Реклама всегда полезна, если только она не выражается в реальных репрессиях.
Царский режим был фактически не его врагом, а помощником, союзником. После "Кровавого воскресенья" 1905 года у М. Горького, наверное, было много негативных эмоций по отношению к императору. Но в целом отношение Алексея Пешкова к императору не было однозначно отрицательным, скорее – более сложным. В этом отношении много оттенков. "Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это – своего рода мудрость...". "Горький не раз был свидетелем душераздирающих проводов солдат на войну с Японией; видел он и царя Николая II – "маленького, несчастного, подавленного, с заплаканными глазами", с тусклым, невыразительным взглядом" [Нефедова И.М.]. ("...мы, люди старого поколения..."). ("У меня здесь пятно!" – восклицал Наполеон, показывая на мундир, получив известие о поражении французской армии при Байлене. (Инсаров Х. Г. "Князь Меттерних: Его жизнь и политическая деятельность. 1905")).
"Он вступается за низложенных Романовых, над которыми гогочет пьяная толпа, вчера еще перед ними раболепствовавшая..." [Быков Д.Л.]. О спасении М. Горьким и М. Андреевой в 1918 году одного из Романовых – князя Гавриила Константиновича Романова – рассказывается в книге Н.Н. Берберовой "Железная женщина".
Инвертированная лояльность? Инвертированная аполитичность? "Вы видите, как я обижен? Как мне горько?!" "Ну,.. вы сильно не обижайтесь! Поймите, мы делаем все, что можно!".
"Структуру имперской Системы простодушно разъяснил Пешкову городовой Никифорыч, позвавший Алешу "в гости":
"– Незримая нить – как бы паутинка – исходит из сердца его императорского величества государя императора Александра Третьего и прочая, – проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево Царство. А полячишки, жиды и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать, где можно, будто бы они – за народ!"" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Возможно, посматривал Алексей на выставленный полицейским-городовым самовар, рассматривал в нем свое отражение, и думал: а где его, Алексея, место в этой паутине? Чего рассказывать о королеве? Даже ее портрета на монете не видал... Дайте совет, подбодрите, подредактируйте рукопись, ошибки, наконец, исправьте, посодействуйте публикации, да так, что бы для "куражу" не только запах типографской краски (хотя и это не плохо), но и пару рублей авторского гонорара... К кому обратиться со всем этим "устремлением" простому пареньку из приволжских ремесленников: к самовару? К рядовому полицейскому-городовому? К жандармскому генералу? Так тот переадресует к оппозиционеру Короленко...
Посмертный подарок жандармского генерала Познанского (коллекция медалей) выглядит симпатично; этот подарок кому-то может напомнить грант или филантропическое пожертвование или литературную премию.
Но, во-первых, этот грант запоздал: М. Горький к моменту его получения был интегрирован в оппозиционное движение, во-вторых, единичный, изолированный поступок представителя имперской "паутинки" (ушедшего, между прочим, из жизни) погоды не делал и не мог сделать.
Может быть, Генрих Шлиман с его культом умеренности и аскетизма мог на вырученные от продажи коллекции старинных медалей средства выучить еще множество языков, освоить дополнительно несколько систем каллиграфии и бухгалтерии и в итоге стать ценным представителем какой-либо коммерческой фирмы в далекой или не очень стране. Но он уложился в средства, присланные И.Ф. Вендтом. Вряд ли бы Н. Гоголь, в силу его индивидуальных взглядов, принял бы аналогичный грант, но если бы случилось принять, то соответствующая сумма (при экономности Н. Гоголя), конечно, продлила бы период его материальной обеспеченности на какой-то период времени.
Но аскетизм и умеренность для М. Горького были явлениями вынужденными, в его систему успеха они не вписывались органично. Период копеек и рублей оставался в прошлом, началась новая жизнь ("С вами жить почему-то невыносимо скучно. (...) Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет... И некому, и... не стоит..." (М. Горький. "Мещане")). Нет ни особого желания жить аскетично. Ни желания лить воду на чужую мельницу. Лучше, если, наоборот, так польется (из внешних источников) на персональную мельницу, что и своей мельнице хватит, и чужим достанется.
Гроссмейстер начинал играть по-крупному. В премиальном фонде крутились миллионы.
("Кто же знал, что так все обернется?" Такой вопрос незримо присутствует в некоторых произведениях М. Горького, посвященных постреволюционной повседневности).
"Во второй половине 1905 года, а возможно, и раньше, он становится членом партии" [Нефедова И.М.]. ""С 903 года я считаю себя большевиком, т.е. искренним другом пролетариата... – писал Горький, – с большевиками я с 1903 г. и немного раньше..."" [Нефедова И.М.]. Когда же и при каких обстоятельствах стал?
В общем, если и стал, то, похоже, после знакомства с М.Ф. Андреевой.
А кто для М. Горького В.И. Ленин?
Руководитель, вождь? Теоретический авторитет?
(За неделю до Октябрьской революции в "Новой жизни" появилось выступление против готовящегося восстания, которое Ленин назвал "неслыханным штрейкбрехерством", ибо оно раскрывало важнейшее секретное решение партии" [Нефедова И.М.]. "Принимая решение о закрытии газеты, Ленин говорил: "А Горький – наш человек... Он безусловно к нам вернется... Случаются с ним такие политические зигзаги"" [Нефедова И.М.]). (Между прочим, любопытное словосочетание: "неслыханное штрейкбрехерство" (нем. Streikbrecher, букв.– стачколом); вроде бы, ни к селу, ни к городу: вопрос стоит не о стачке, а о вооруженном восстании; почему не выразиться прямо: "подлое предательство"?; но ведь революция еще не стала фактом, а если снова подполье-оппозиция и понадобится друг-волжанин с его материальной (и не только) поддержкой, со связями в интеллектуальных кругах?; придется ведь встречаться-общаться-улыбаться, принимать деньги, собранные среди Гариных; штрейкбрехеры "рекрутируются из деклассированных и несознательных элементов" (БСЭ.1969-1978)). ("Опасный политический противник"? Или так... заблудившийся в политических коридорах "бывший босяк"...?)
Или земляк-волжанин? ("В январе 1924 года писателя потрясла смерть Ильича. Он телеграфирует в Москву Е.П. Пешковой: "На венке напиши: "Прощай, друг!". Просьба была выполнена" [Нефедова И.М.]). "...И в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал, потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от Наркомпроса" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
В послереволюционный период Ленин настойчиво рекомендовал М. Горькому выехать за границу для лечения. Не напоминают ли эти подсказки советы Короленко, дававшиеся молодому А. Пешкову, поменять место жительства? "Мобильность – одна из основ успеха!" – мог бы сформулировать один из законов успеха Генрих Шлиман. Наверное, и Короленко, потом и Ленин, давали Горькому не самые плохие советы (насчет смены жительства).
"В 1912 году Горький, вспоминая грузинских революционеров, охранявших его московскую квартиру, писал: "Очень часто и сердечно вспоминаю я о вас, добрые товарищи. Все ли живы, здоровы, все ли целы? Погибшим за великое дело, – мой земной, молчаливый поклон, уцелевших обнимаю крепко, и – да здравствуют! Рад заочно пожать знакомые мне крепкие, честные руки и сегодня за обедом выпью за ваше здоровье стакан каприйского вина"" [Груздев И.А.].
"Наконец мы увидели вдали берег и въехали в устье реки молочного цвета. Зачерпнув ведром жидкость, мы убедились, что, действительно, под нами великолепное на вкус молоко. (...) Оказалось, что остров, к которому мы пристали, есть не что иное, как колоссальный кусок сыру... (...) Но остров изобилует и другой самой разнообразной пищей. Так, например, там произрастает много хлеба (без чего жители лишены были бы возможности делать бутерброды). В отличие от нашего, хлеб у них растет на колосьях в виде готовых булок. Кроме молочных рек, то и дело пересекающих остров, мы за время пребывания там нашли еще около десятка рек винных. (...)...Мы были вознаграждены изумительными плодами, которые росли на том конце сырного острова на деревьях гигантских размеров. Таких божественных абрикосов и персиков я еще не едал и, конечно, никогда больше не увижу" (Э. Распэ. Вечера барона Мюнхаузена).