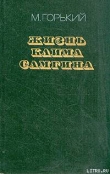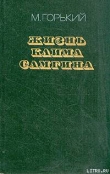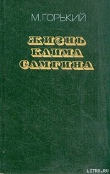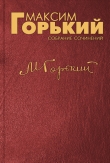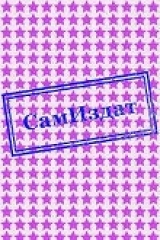
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
"Постоянно окружавшая Горького высококультурная среда оказывала свое влияние на писателя, вышедшего из общественных низов (...). ...Это также не могло не сказаться на писателе, жадно тянувшемся к культуре..." [Нефедова И.М.].
"...До весны 1880 года Леша Пешков пробыл у Сергеевых, потом сбежал, поступил буфетчиком на пароход "Добрый", который иногда, вопреки своему названию, буксировал по Волге баржи с арестантами – до Камы, до Тобола, до Сибири. На одной из таких барж ехал в сибирскую ссылку Короленко – как раз летом восьмидесятого года, – но Алексей тогда понятия о нем не имел и лишь десять лет спустя явился к нему – уже прославленному журналисту и, по-нынешнему говоря, правозащитнику – с первыми опусами" [Быков Д.Л.].
Сверхъестественное притяжение к талантливым людям!
"Он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Но его там не было, он уехал в Москву. Толстого и в Москве, в Хамовниках, не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троице Сергиеву лавру. Неизвестно, что наговорил жене великого писателя никому не известный в Москве Пешков, но Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя ласково и даже угостила кофеем с булкой, как бы между прочим заметила, что к Льву Николаевичу "шляется" очень много "темных бездельников" и что Россия вообще "изобилует бездельниками".
Пешков расстроился и ушел" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Личное его знакомство с Толстым состоялось наконец через 11 лет после неудачной яснополянской попытки – 13 января 1900 года, в Хамовниках" [Быков Д.Л.].
Тесная дружба, несмотря на нередкие личные конфликты, незатихающий идейный спор, связывает Горького с Леонидом Андреевым. Его Горький называл "единственным другом в среде литераторов". Л.Андреев признавался, что обязан Горькому "пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания" [Нефедова И.М.].
"Активной была в городе общественная жизнь. В "Самарской газете" сотрудничали такие видные литераторы тех лет, как Короленко, Гарин-Михайловский, Мамин-Сибиряк" [Нефедова И.М.].
"Горький сблизился со многими "неблагонадежными" людьми города. Он – постоянный участник "ассамблей" в доме Якова Львовича Тейтеля – "одного из самых популярных в то время в Самаре людей" [Нефедова И.М.].
""По вечерам, – вспоминает товарищ Горького по "Самарской газете", – к Тейтелям всегда кто-нибудь приходил, не стесняясь ни отсутствием приглашения, ни костюмом, ни даже временем приглашения: хоть в 12 часов ночи... И кто только не перебывал там... Студенты, военные, актеры, врачи, педагоги, ссыльные, литераторы, городские и земские деятели, курсистки, профессора, журналисты, либералы, народники, марксисты, поэты, статистики, адвокаты, толстовцы, гипнотизеры, путешественники, инженеры, певцы и прочие.
Квартира Тейтелей была каким-то демократическим клубом..." Здесь собиралось по 100-200 человек. В числе других бывал и Ленин, живя в Самаре в 1889-1893 годах; можно было встретить будущих наркомов М.Г.Елизарова и А.Г.Шлихтера.
С Тейтелем был дружен Г.Успенский, его знали лидер народников Михайловский, писатели Златовратский, Чириков, Гарин-Михайловский, путешественник Потанин, еврейский писатель Шолом-Алейхем. Выступали в доме Тейтеля и сторонники марксистских взглядов" [Нефедова И.М.].
"...Якобы "босяк", еще до выхода первой книги был знаком (лично или по письмам) с виднейшими личностями своего времени -Н.Ф.Анненским и В.Г.Короленко, Ф.Д.Батюшковым и Н.К.Михайловским, Д.В.Григоровичем и А.С.Скабичевским. Это было просто тогда: заявиться в дом Короленко (да хоть бы и Льва Толстого), показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке, где Пешков был аккредитован. Послать рассказ по почте в столичные "Русские ведомости" (даже не сам отправил, а его приятель Н.З.Васильев, без ведома автора) и через месяц читать рассказ ("Емельян Пиляй") напечатанным. Сидючи в "глухой провинции", искать в столице издателей через посредников (В.А.Поссе) и находить – не одного, так другого. Отказались издавать "Очерки и рассказы" О.Н.Попова, М.Н.Семенов и А.М.Калмыкова. Зато взялись А.П.Чарушников и С.П.Дороватовский.
Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране! Словно между столицами и провинцией не было никакого расстояния! Вот еще пример. Через два месяца после выхода "Очерков и рассказов" литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький как бы между прочим пишет жене: "Гиббона" скоро прочту". То есть что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую "Историю упадка Римской империи", сравнивая ее с упадком империи собственной!" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Еще недавно он был занят сокрушающим тяжелым физическим трудом за три рубля. Ситуация внезапно меняется. "В октябре 1902 года Горький встречается с представительницей "Искры" – Гурвич-Кожевниковой. "Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь "Искру", – писала она Ленину об этой встрече, – и нашу организацию (социал-демократическую. – И.Н.) – самой крепкой и солидной... Он будет давать каждый год по 5000 рублей... Сам он проживает не больше 30% всего, что зарабатывает, остальное отдавал на разные дела... все его симпатии лежат лишь на нашей стороне..." Много помогал Горький партии и помимо этого" [Нефедова И.М.].
"Квартира на Кронверкском и дача в Мустамяках – центры литературной жизни Петербурга. Здесь бывают Куприн, Бунин, Чуковский, Маяковский" [Нефедова И.М.].
(Появился собственный культурный бренд).
"Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам-"вольноотпущенникам", садились за один стол со своими владыками" (М.Горький "О том, как я учился писать").
Говоря о "Летописи", И.М. Нефедова отмечает: "В журнале печатались писатели Короленко, Бунин, Блок, Есенин, Пришвин, Гладков, Маяковский, Бабель, Чапыгин, Брюсов, Райнис, Исаакян, Шишков, историк-марксист М.Н.Покровский, А.В.Луначарский, К.А.Тимирязев" [Нефедова И.М.].
М. Горький встраивается (или так может показаться) в литературную традицию. Он не литературный сирота и не литературный бродяга.
"Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем, то кричит пророк победы:
– Пусть сильнее грянет буря!.."
Этот призыв "Пусть сильнее грянет буря!" был развитием революционной традиции русской поэзии XIX века – лермонтовского "А он, мятежный, просит бури", некрасовского "Буря бы грянула, что ли"..." [Нефедова И.М.].
"Романтические произведения Горького связаны не только с фольклорной, но и с русской литературной традицией – в частности, с романтизмом раннего Гоголя: вспомним его "Вия", "Тараса Бульбу", "Вечера на хуторе близ Диканьки". И "романтические" и "реалистические произведения Горького образуют органическое внутреннее единство, являясь выражением целостности художественного мировосприятия" [Нефедова И.М.]. М. Горький: ""Мертвые души" я прочитал неохотно..." ("В людях"). "Среди книг Смурого попадались и произведения классической литературы. Так, потрясающее впечатление на чтеца и на слушателя произвела повесть Гоголя "Тарас Бульба"" [Груздев И.А.]. Что еще из Гоголя понравилось?.. "Вий"? "Вечера"?
"Свой шестидесятилетний юбилей в марте 1928 года Горький отмечал за границей. Его чествовали писатели всего мира. Поздравительные послания пришли от Стефана Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Герберта Уэллса, Джона Голсуорси, Сельмы Лагерлёф, Шервуда Андерсона, Эптона Синклера и других литераторов с крупными именами" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Линия на формирование среды, творческой среды, – сознательная или интуитивная – безусловно дала свои положительные результаты.
Горький не только формировал творческую среду вокруг себя – творческую среду в узком смысле. Он формировал творческую среду в широком смысле – писательское сообщество.
"Стремясь сплотить писателей-реалистов на демократической основе, Горький читает много рукописей начинающих писателей, содействует их опубликованию, помогает советом. Так, за 1909 год он прочитал 417 рукописей, а за два с небольшим месяца следующего года – около семидесяти. Благодаря его поддержке и помощи вошли в литературу в недалеком будущем известные советские писатели К.А. Тренев, А.С. Новиков-Прибой. Впечатления Горького от рукописей начинающих литераторов, надежды на их литературное будущее изложены в статье "О писателях-самоучках" (1911)" [Нефедова И.М.].
"Внимание Горького привлекает поэтическая молодежь, в частности поэты-футуристы. Не любивший богемы, писатель на вечере футуристов в кафе "Бродячая собака" чувствовал себя неловко. Он беспокойно поворачивал голову, теребил усы – признак его внутреннего волнения, – но среди выступавших выделил Маяковского: "Силач, далеко пойдет, даром что молод и неугомонен, такие в самый раз нужны..."" [Нефедова И.М.].
""Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет", – с улыбкой вспоминал поэт о чтении в Мустамяках "Облака в штанах". Горьковский "Парус" выпустил сборник стихов Маяковского "Простое как мычание", его поэму "Война и мир"" [Нефедова И.М.].
""В нем много лихачества, задора, но много и наблюдательности, любви к жизни и несомненной талантливости, – говорил о Маяковском Горький. – Мне кажется, он скоро заставит о себе говорить... Такой талантливый! Грубоват? Это от застенчивости. Знаю по себе... Поэт. Большой поэт"" [Нефедова И.М.].
"В свою очередь, и Маяковский, вообще-то довольно скептически настроенный к писателям старшего поколения, уважал Горького, которому подарил несколько книг своих стихов, надписав: "Алексею Максимовичу с любовью", "Дорогому Алексею Максимовичу" и т.п." [Нефедова И.М.].
"Горький заботился о росте писательских сил, помогал молодым писателям – М.Пришвину, К.Треневу, И.Вольнову, А.Неверову, С.Подъячеву, В.Шишкову и другим. "Хорошо говорил он со мной, часа 1 1/2. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу", – вспоминал Бабель" [Нефедова И.М.].
"Когда писателю хотели посочувствовать, что к нему "лезут литературные младенцы", Горький отвечал: "Я – неизлечимый "антропофил". Люблю человека... сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлении – они не встретили опоры, поддержки. Вот отсюда и происходит мое отношение к "литературным младенцам"..."" [Нефедова И.М.].
"Читая рукопись, Горький не только писал замечания общего характера – о сюжете, героях, – но и отмечал трудные сочетания звуков, не пропускал даже грамматических ошибок и опечаток, тщательно исправлял их – в назидание автору – даже тогда, когда рукопись им отвергалась" [Нефедова И.М.].
"Помогал Горький писателям и материально. Когда начинающий поэт Павел Железнов, получив от него сумму, равную своему заработку за год, смутился, Горький сказал: "Учись, работай, а когда выйдешь в люди, помоги какому-нибудь способному молодому человеку, – и мы будем в расчете!" Писатель с большим вниманием следит за рабкоровским движением, делится своим богатым опытом. Так появляются его брошюры "Рабселькорам", "Письмо селькорам", "Рабкорам и военкорам. О том, как я научился писать" (1928)" [Нефедова И.М.].
"Никто из русских писателей никогда не сделал столько именно для живых, конкретных литераторов, сколько сделал Горький" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Это высказывание Павла Басинского подтверждается конкретными фактами.
Помогал и до 1917 года, и в 1917-ом, и после 1917 года.
Эмигрировавшие из России писатели вспоминали и о М. Горьком. Были ли у них основания считать, что некоторую роль в их судьбе сыграл М. Горький?
Диалектика...
Это сильнее "Фауста" Гете.
"Часто приезжал и подолгу беседовал с Горьким наедине Сталин, понимавший огромную роль литературы и внимательно следивший за ходом литературной жизни" [Нефедова И.М.].
"Принесли вино... Все выпили... Ворошилов поцеловал Ал.М. руку или в плечо. Ал.М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками. Когда они вышли, А.М. сказал: "Какие хорошие ребята! Сколько в них силы..."" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
"Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме "Девушка и Смерть", начертанной во время визита Сталина осенью 1931 года. Вот ее точный текст: "Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гёте (любовь побеждает смерть). 11/Х-31 г.". Иванов: "Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака..."" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
Поинтересуемся: от кого стало известно о самом факте написания и о содержании резолюции?
В 1917 году И. Сталин писал: "Мы боимся, что Горького "смертельно" потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов".
Любовь побеждает?
Это сильнее "Фауста" Гете!
Закон успеха: "Отсутствует творческая среда? Закаляйся! Отжимайся!! Не унывай!!!"
ГЛАВА 11. ТЕАТР. ДАЙТЕ МНЕ ТЕАТР, И Я ПЕРЕВЕРНУСЬ!
11.1. МЕЛЬПОМЕНА И АМФИТЕАТРЫ. «ВИШНЕВЫЙ САД» ГЕНРИХА ШЛИМАНА.
Театр вошел в жизни и Г.Шлимана, и Н. Гоголя, и М. Горького.
В жизни Генриха Шлимана театр – так или иначе – присутствовал постоянно.
Расстающийся с Петербургом коммерсант, осваивающий культурные пространства Западной, Южной Европы, Средиземноморья, рантье и цивилизационный деятель Генрих Шлиман попытался соблазнить возможностью посещения театров первую жену Екатерину. Объясняя преимущества переезда из Петербурга в Париж, он, например, писал: "Ты будешь счастлива, я стал совсем парижанином, каждый вечер бываю в театрах или на лекциях знаменитейших профессоров мира и могу тебе рассказывать разные истории десять лет подряд – не заскучаешь..." [Мейерович М.Л. С. 72]. Екатерина оказалась твердым орешком, ни посещения парижских театров, ни иные предложения к переезду из России ее не побудили.
"...Жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву... Я вижу, что не уедем...".
Мельпомена – греческого происхождения, а "греки – наши предки". Вторая жена Г. Шлимана, София, предпочитала жить в Афинах, а не в Париже, несмотря на возможность посещения парижских театров.
Сам Генрих Шлиман проводил в Париже не так уж и много времени, его звали другие дела. Вне Парижа он снова встречал театр и театры.
"В качестве заправского туриста Шлиман нанимает в проводники атамана разбойничьей шайки некоего Абу-Дауда.
"Такой проводник был верной гарантией безопасности путешествия по пустынным местам Палестины, к Мертвому морю, в Петру. Восхищенный найденными в Петре развалинами великолепных дворцов, театров, гробниц, Шлиман предпринял полное обследование берега, побывал в Тире, Сидоне, Бейруте, поднялся на Ливанские горы. Письмо, написанное там 26 мая 1859 года, носит пометку: "На Ливанских горах, в древней Финикии, посреди знаменитых кедров"" [Мейерович М.Л. С. 57]. "В тот день, когда на горизонте появились берега Америки, в портфеле Шлимана лежала рукопись книги. (...) В ней было описание Великой стены, спектакля китайского театра, процессии сёогуна и много других наблюдений и соображений" [Мейерович М.Л. С. 63].
Возможно, Мельпомена покровительствовала Генриху Шлиману, когда он, в период первых в своей жизни раскопок в Греции, читал местным жителям Гомера. Г.Штоль излагает следующую художественную интерпретацию этих событий. "...Его ведут в деревню...Кто-то приносит стол и ставит его на площади перед под платаном... И вот Шлиман стоит на столе и читает им первую половину двадцать третьей песни – читает о встрече вернувшегося домой Одиссея с Пенелопой... Приносят кувшины с вином, и все хотят с ним чокнуться. Приносят ему множество древних монет, которые они нашли на своих полях. Прежде чем его, наконец, отпустить, они все его по очереди целуют" [Штоль. С. 195-196].
К теме "театра" эти события можно отнести без натяжки. Хотя у этого театра нет ни билетов, ни кулис.
Похоже, что даже в Троаде, на холме Гиссарлык, без театра не обошлось. Правда, с вопросов театра Г. Шлиману пришлось переключиться на другие темы. "С каждой вагонеткой земли, вывезенной из траншеи во время раскопок 1879 года, все полней раскрывались сооружения глубокой древности и... все трудней становилось разобраться в них. (...) В долине под холмом Шлиман нашел развалины огромного амфитеатра на несколько тысяч зрителей – очевидно, это был театр эллинистической Трои позднейшего времени. В самом холме обнажились стены еще нескольких зданий. Которое из них моложе, которое старше? Этот вопрос властно стал перед исследователями, подчинив себе все остальные проблемы" [Мейерович М.Л. С. 135].
Вся последующая жизнь Генриха Шлимана была насыщена активностью, познанием, бурными событиями. Находка "клада Приама", его тайный вывоз, обыск в греческом доме Г. Шлимана, судебный спор с Османской империей (билет на завершающее победное – по сути – заседание стоил суммарно 150000 франков) [Вандерберг. С. 397] – разве это не постановка Судьбы, покровительство которой (постановке), возможно, оказывала и Мельпомена?
Стояла ли перед смертью Генриха Шлимана у него альтернатива: пойти в театр или почитать сказки из "Тысячи и одной ночи", побродить по развалинам Помпей? Трудно сказать. Наверное, для больного, перенесшего сложную операцию на ушах, и снова простудившегося человека посещение театра было бы неуместно. Он читал сказки, бродил по развалинам. Впрочем, в Помпеях тоже есть театр (амфитеатр). Так что театр он посетил. Практически в момент своей смерти.
11.2. УСПЕХ И БЕГСТВО. «РЕВИЗОР» НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.
Театр был неотъемлемой частью жизни Н. Гоголя. Театр в Кибинцах (поместье Трощинского), театр в Полтаве, театр (самодеятельный) в Нежинской гимназии. Начинается петербургская карьера Н. Гоголя. «Первые дни уныния сменились азартом блеснуть, взять свое, притвориться петербургским франтом, перед которым сами собой раскроются двери департаментов и редакций, и он меняет воротник на шинели, ездит на извозчиках, покупает дорогие билеты в театр» [Золотусский И.П.]. «Он тратит последние ассигнации на то, чтобы посмотреть „Гамлета“ и „Дон-Карлоса“ в театре, купить газету, насладиться языком объявлений и разносных критических статей, которыми особенно отличаются Греч и Булгарин» [Золотусский И.П.]. Жизнь берет свое. «Он просит эти сто рублей (потом снижая сумму до восьмидесяти) у маменьки, у единственного своего „ангела“, который уже не раз выручал его. „Всякая копейка у меня пристроена“, – пишет он ей и сознается, что вынужден отказаться от многих мелких удовольствий, которые позволяют себе его сослуживцы, как-то: участие в дружеской пирушке с выпивкой и угощениями, катание на извозчике, посещение театра» [Золотусский И.П.].
Далее тема "театра" в жизни Гоголя несколько отходит на второй план. Но вот 1835 год. Н. Гоголь – автор "Миргорода", других широко известных произведений. Когда он вошел в ложу Аксаковых в Большом театре, сразу же несколько трубок и биноклей обратились на эту ложу, и слова "Гоголь, Гоголь" разнеслись по креслам [Золотусский И.П.]. Н. Гоголь готовит для театра "Женитьбу". Приступает к "Ревизору". "Комедия была готова в месяц. 6 декабря 1835 года Гоголь сообщал Погодину, что третьего дня окончил пьесу" [Золотусский И.П.]. 19 апреля 1836 года ""Ревизора" смотрел в Александрийском театре весь Петербург во главе с Николаем. Стремительные темпы и горячка чувствуются за всем этим. Это горячка безумной деятельности Гоголя, который из тихого обитателя чердака превратился вдруг в автора, которого приглашают на репетиции, о котором знает двор. Гоголь выбирает актеров, Гоголь выбирает костюмы, Гоголь вписывает и вписывает новые ремарки и реплики в свою пьесу, а она тем временем печатается в типографии, ее разучивают театры, пишутся декорации, готовится издание пьесы отдельной книжкой" [Золотусский И.П.]. Император смеется. Император аплодирует! Император доволен!!! Явный успех! Театрал? Завсегдатай? Свой человек? "Почетный гражданин кулис"? "Николай, как известно, пошел за кулисы, благодарил актеров. Но где был в это время Гоголь? Никаких свидетельств о его встрече с царем не сохранилось. Можно предположить, что он бежал и от этого успеха, и от позора, который, быть может, чувствовал только он один" [Золотусский И.П.]. В 1836 году "...Пушкин, находясь в Москве, занимается делами Гоголя. Он встречается со Щепкиным и хлопочет о постановке на московской сцене "Ревизора". Он пишет в Петербург письмо Наталии Николаевне о том, чтобы она позвала Гоголя и передала ему, что в Москве его любят и лучше поймут и поставят его комедию. Гоголь откликается через Щепкина, что ему все равно, что он уже остыл к "Ревизору" и как его поставит Москва – ему безразлично" [Золотусский И.П.]. "...г. Гоголь уже печатал в "Санкт-Петербургских ведомостях" объявление о своем отбытии за границу. В прибавлениях к этой газете 17 мая 1836 года появилась строка: "...Николай Гоголь, 8-го класса..." [Золотусский И.П.]. Вот и заграница. "Перед ним открылись залы оперных театров, лучших сцен Парижа" [Золотусский И.П.]. "Вспомните дорожную шкатулку Чичикова – это же поэма! (...) ...и чего там только нет! И сорванная с тумбы городская афишка, и приглашение на свадьбу, и театральный билет, и какие-то записочки, счетца" [Золотусский И.П.]. В 1838 году в России, "в театре, куда его уговорил прийти Аксаков и где давали "Ревизора", Гоголь не высидел до конца представления. Смущенный взорами, обращенными на него, и ожиданием его выхода на сцену, он бежал, озадачив Аксакова и обидев директора московских императорских театров M. H. Загоскина. Пришлось Гоголю оправдываться и писать письмо, что он якобы узнал в этот момент о болезни своих близких и вынужден был покинуть зал. Ничего этого не было, никто из близких Гоголя не был болен, да они (в частности, маменька) и не знали еще, что он на родине" [Золотусский И.П.]. "..."Выбранные места" (...) Тридцать две главы-письма охватывали необъятное число тем – от значения болезней до "Одиссеи", переводимой Жуковским. Были здесь главы о просвещении, о церкви, о театре, о Карамзине, о русском помещике, о лиризме русских поэтов и о "Мертвых душах"" [Золотусский И.П.]. Тема "театра" из жизни Н. Гоголя не уходит, но постепенно затухает. 1851 год. "Гоголь еще жил. Мало того, он готовился печатать второй том, изучал греческий язык, намечал маршруты своих будущих поездок, читал актерам Малого театра "Ревизора", дописывал "Божественную Литургию". Он жил вспышками, наитиями, а лето 1851 года все прошло под знаком счастливого настроения, счастливого ожидания печатания" [Золотусский И.П.]. 21 февраля 1852 года в 8 часов утра Н. В. Гоголь умер.
11.3. ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА И СУДЬБОНОСНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИЛЕТ. «НА ДНЕ» МАКСИМА ГОРЬКОГО.
Театр относительно рано вошел в жизнь Алексея Пешкова. Вот как это описано И.А. Груздевым: «„Лет пятнадцати, – вспоминает Горький, – я чувствовал себя на земле не крепко, не стойко, все подо мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям. (...)“ (...) „Тогда я вспомнил, что ведь и мне, в иконописной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им, удовлетворявшее меня... Может быть, мне действительно надо идти в цирк, в театр, – там я найду прочное место для себя?“[»Направлять себя" в цирк или в театр советовали Горькому его товарищи по иконописной мастерской. – И. Г.] Горький поступает в ярмарочный театр статистом. Театр снова всколыхнул его книжные увлечения. «(...)...мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений». Грубый эпизод за кулисами произвел такое впечатление на Горького, что он ушел из театра, и на этом закончилась театральная «карьера» его" [Груздев И.А.]. «Весной 1897 года Горький поселяется в селе Мануйловка Полтавской губернии и здесь, освобожденный от срочной газетной работы, пишет рассказы, устраивает деревенский театр. Устраивая в Мануйловке крестьянский театр, Горький проявляет блестящие способности организатора, пропагандиста, выступает режиссером и актером» [Груздев И.А.].
Согласитесь, что это незаметный, но – качественный скачок. Был актером, стал организатором, режиссером – пусть и деревенского, крестьянского – театра. (Кроме всего прочего, за кулисами теперь он – главный). Он, Горький, – главный. А то, что театр именно деревенский, крестьянский, мужицкий – это проявление того самого "накопления успеха", которое свойственно М. Горькому. Другой элемент "мозаичного успеха" Максима Горького, этакое блестящее цветное стеклышко, сверкнуло на одном из представлений. "Пристав все же пытался разогнать зрителей, но зал был так полон, что ему не удалось это. Крестьяне не соглашались разойтись, и представление началось. "Спектакль прошел блестяще и с блестящим скандалом..." – писал Горький Е. П. Пешковой" [Груздев И.А.].
Близится переворот во всей горькой жизни Алексея Пешкова; скоро Максим Горький начнет пить ее сладкий сок.
"Весной 1900 года в Севастополе, куда МХТ выезжал показать А. П. Чехову его "Чайку", Андреева познакомилась с Горьким, в пьесах которого блистала. "Меня захватила красота и мощь его дарования", – вспоминала Андреева. Обоим в год их первой встречи исполнилось по 32 года; начиная с крымских гастролей писатель и актриса стали видеться часто, особенное впечатление Андреева произвела на Горького в образе Наташи в пьесе "На дне": "Пришёл весь в слезах, жал руки, благодарил. В первый раз тогда я крепко обняла и поцеловала его, тут же на сцене, при всех". В конце 1903 года Мария Фёдоровна уходит из семьи, снимает себе квартиру, становится гражданской женой Горького и его литературным секретарём ["Андреева, Мария Федоровна"].
Мария Федоровна Андреева была интересным человеком. В статье о ней упоминаются и Ольга Книппер, и Савва Морозов, и генерал-майор Владимир Джунковский, в начале 1913 года занявший пост товарища министра внутренних дел и командира отдельного корпуса жандармов, и большевики (и не только, например, Николай Бауман и Леонид Красин. Но и В.И. Ленин) ["Андреева, Мария Федоровна"]. Уступала ли она по уровню "игрового мастерства" М. Горькому? Она также была весьма талантливым гроссмейстером, способным играть сразу на нескольких досках, "подхватить" партию, вести пешку в ферзи. Много интересных событий произошло в ее жизни, например: "Савва Морозов оплатил лечение и выдал неверной Марии полис на предъявителя, по которому ещё в 1902 году застраховал свою жизнь на 100 000 рублей. С 29 марта по 7 мая 1905 года Андреева после выздоровления отдыхала с Горьким в Ялте, потом в дачном местечке Куоккала, а спустя неделю, 13 мая, в Ницце при неясных обстоятельствах покончил с собой Савва Морозов. После загадочного самоубийства бывшего любовника Андреева получила завещанные им страховым способом деньги и большую часть унаследованного капитала отдала большевикам" ["Андреева, Мария Федоровна"]. "Характеризуя изменчивую натуру Андреевой, биографы отмечают, что уже начав отношения с Горьким, Мария Фёдоровна не раз использовала увлечённость ею Саввой Морозовым для финансирования на его средства партийных нужд, в частности, газеты "Искра", а также редактируемой Горьким большевистской газеты "Новая жизнь". В издательстве этой газеты, в доме Лопатина произошла первая встреча Горького с Лениным" ["Андреева, Мария Федоровна"].
"Существует оригинальное предположение Альфреда Баркова о том, что Мария Андреева стала прообразом Маргариты в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита", та совращала большевизмом Мастера, в котором Булгаков, по трактовке литературоведа, подразумевал Максима Горького. Эта версия в литературоведении особого признания и популярности не снискала" ["Андреева, Мария Федоровна"].
"Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился – и зевнул,
И молвил: "Всех пора на смену...""
1901 год. Первая пьеса Горького «Мещане». «О „Мещанах“ Горького можно сказать, что это политическая комедия» [Груздев И.А.]. Игра идет сразу на нескольких досках. И пьеса – комедия, и обстоятельства ее постановки – политическая комедия. «Министр внутренних дел Сипягин писал московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Романову: „Хотя из пьесы „Мещане“ устранены все неудобные в цензурном отношении места и выражения, но, принимая во внимание широкую популярность Горького в известных кругах публики и особенно молодежи, а также направление названного писателя, я признал необходимым командировать на генеральную репетицию означенной пьесы начальника главного управления по делам печати князя Н. В. Шаховского. Ввиду тех же соображений, не благоугодно ли будет Вашему императорскому высочеству назначить для присутствования на генеральной репетиции пьесы „Мещане“ особое лицо, которое могло бы доложить Вам о сценическом впечатлении, производимом первым драматургическим опытом Горького. Таким образом представится возможность не допустить до публичного воспроизведения тех отдельных мест или выражений, которые в чтении не производят отрицательного впечатления, но каковые в исполнении на сцене могут вызвать нежелательное действие...“. ...Царским сатрапам внушал беспокойство самый факт горьковского спектакля, ожидание, что в связи с возмущением по поводу „отмены“ избрания Горького в академию будет устроена во время спектакля в его честь демонстрация, которую Сипягин называл „нежелательным действием“» [Груздев И.А.].
Если в "спектакле" "играют" министр внутренних дел и московский генерал-губернатор великий князь (плюс цензоры и другие "сатрапы"), то автору спектаклю трудно остаться безвестным. А известность – это успех. По крайней мере, элемент "мозаичного успеха".