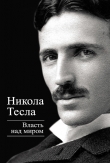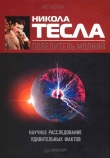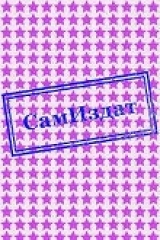
Текст книги "Три Учебника Успеха (СИ)"
Автор книги: Владимир Залесский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Закон успеха сформулируем, используя слова М. Горького: "Процесс творчества важен сам по себе".
ГЛАВА 9. ПУБЛИКУЙСЯ!
«Публикуйся!» («Пиши! Публикуйся!»), как закон успеха, осознается по итогам ознакомления с историями жизни Генриха Шлимана, Николая Гоголя, Алексея Пешкова.
Что значит "публикуйся"? Это означает (а) понимай, о чем писать, (б) умей писать (в смысле: умей более или менее связно мыслить и излагать свои мысли в виде текста) ("Рассказывать и писать – две вещи совсем разные; под перо не так скоро ложатся мысль и слово" [Смирнова-Россет А.О. С. 569]; "выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта способность дается природой, а не ученьем" (Н. Гоголь) (См.:[Вересаев])), (в) имей смелость и решимость представить написанное тобой для чтения и для возможных обсуждения, критики, (г) будь морально, организационно и финансово готов к возможной необходимости оплатить публикацию.
Н. Гоголь реализовал этот закон успеха. Но его "публикуемость" осуществлялась более постепенным и органичным (если сравнивать с Генрихом Шлиманом и Алексеем Пешковым) образом. В детстве он был знаком с писателем В.В. Капнистом, Василий Афанасьевич Гоголь обладал литературным даром, в гимназии поощрялось – хотя и любительское – литературное творчество. Ряд преподавателей и соучеников – кто в период нахождения в гимназии Н. Гоголя, кто уже в последующие годы – проявили себя как авторы литературных произведений. Конечно, уровень дарований у каждого был свой, индивидуальный. Тем не менее, как человек способный связно писать и представлять написанное на суд публики, Н. Гоголь созревал органично, постепенно.
Иное дело Г. Шлиман. Для него, человека, оставившего в зрелом возрасте коммерцию, и наметившего совершить в сфере археологии недостижимое, "публикуемость", "публикабельность" были вопросом критическими. Способность писать (описывать археологические труды и достижения), а главное – публиковать написанное, была одним из ключей к успеху. Без этой способности он или вообще не стал бы успешен и известен, или остался бы фигурой малоразличимой, возможно, воспринимаемой с оттенками жалкости или комичности.
Двигаясь по пути успеха, будучи в тот период российским купцом, Генрих Шлиман писал в одном из писем в канун 1857 года: "...У меня одно только заучивание, в чем помогает мне память, (...) быть способным хоть самую малость сочинить самому, этого я не могу и никогда, к сожалению, не приду к этому..." [Гаврилов А.К. С. 122].
Решив круто изменить жизнь, Генрих Шлиман не столько предавался сомнениям и размышлениям, сколько начал действовать. Итог: 10 опубликованных книг [Вандерберг. С 587].
Например, 24 июля 1870 года Г. Шлиман писал сыну Сергею: "Никогда ни один негоциант в Петербурге не мог написать научную книгу, тогда как я написал такую, которая переведена на 4 языка и является предметом всеобщего восхищения" [Богданов И.А., 2008 б. С.129].
Г. Шлиман: "... я буду писать книги всю свою жизнь ... Тот, кто пишет книги, счастлив, доволен, сосредоточен ..." [Богданов И.А., 2008 б. С. 124].
Несмотря на то, что в юные годы у Н. Гоголя формировалась литературная сноровка, первые публикации стали важным моментом на пути жизненного и литературного успеха. Кем был Н. Гоголь после окончания гимназии, приезда в Петербург и до первых публикаций? (Отметим, что по одной из версий первая публикация состоялась почти сразу же после его приезда в Петербург; в числе первых произведений предполагается стихотворение "Италия"). Малоудачливым чиновником, находящимся в тяжелом материальном положении. После первых публикаций (хотя романтическая идиллия "Ганц Кюхельгартен" и была сожжена), Н. Гоголь был "направлен" по двум траекториям (а) от П.П. Свиньина к Л.А. Перовскому и В.И. Панаеву (как версия), (б) от О.М. Сомова и А.А. Дельвига к В.А. Жуковскому, М.Ю. Виельегорскому, А.С. Пушкину (возможны уточнения)... Можно обсуждать детали жизненных траекторий Н. Гоголя в этот период, но движение было явным. Легче стало и материально: новый круг людей – образованных, выдающихся, талантливых – не только направлял творчески, но и помогал организационно.
Ю.В. Манн о 1830 годе пишет: "А в февральской и мартовской книжках журнала без подписи появилось первое гоголевское прозаическое произведение "Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви". Эта повесть, по-видимому, и открыла Гоголю двери новой службы – в Департаменте уделов. Гоголь писал матери, что своим теперешним местом он "обязан своим собственным трудам". И позднее: "...одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое". В то время "статьей" называли разные произведения, в том числе и художественные (повесть, рассказ и т. д), так что Гоголь мог подразумевать и свой "Вечер накануне Ивана Купала". В таком случае он впервые на своем опыте убедился в силе воздействия писательского слова, которое способно приносить даже непосредственную, практическую пользу" [Манн Ю. В. С. 183].
"...Прошение Перовскому было подано 27 марта 1830 года. В тот же день прошение подписал начальник II отделения В. И. Панаев. (...) Панаев, кстати, не только чиновник, но и известный писатель, автор многочисленных идиллий – "человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю""... [Манн Ю. В. С. 184].
"Документ, подписанный Павлом I, так называемое "Учреждение", гласил, что Министерство уделов подчиняется непосредственно высочайшей власти (...) Против вмешательства общей администрации официально возражал Д. Трощинский, бывший (в 1802-1806 гг.) четвертым министром этого учреждения. Прямая зависимость от двора, близость к царю, возможность, как сегодня говорят, "выйти" на царя – все это Гоголю должно было прийтись по душе" [Манн Ю. В. С. 185].
Появились частные уроки, работа преподавателем... Такая среда как-то в большей степени способствовала написанию "Вечеров на хуторе...", чем работа писцом в департаменте. "Вечера..." принесли известность, признание талантливости. "Ревизор" и "Мертвые души" – признание гениальности. "Письма..." ("Выбранные места из переписки с друзьями") вызвали критику с разных сторон, но ведь до сих пор читают, обсуждают, анализируют...
Отметим, судьба Н. Гоголя ставит на рассмотрение и возможность существования "обратного" закона успеха: (не опубликовывай, а) "Вовремя осознай излишнесть написанного". Однако, если рассматривать судьбу (сожженной) второй части "Мертвых душ", то нужно признать, что все же перед второй частью была первая. А перед первой – "Ревизор", а еще ранее "Вечера..." (перечислять все произведения Н. Гоголя здесь, наверное, неуместно). Да и вторая часть "Мертвых душ" не исчезла полностью: остались воспоминания, черновики...
Небольшое дополнение относительно значимости публикаций для жизненной траектории Н. Гоголя. 27 марта 1830 года Н. Гоголь адресовал в Министерство уделов заявление о приеме в состав сотрудников. Февраль-март 1830 года – публикация "Бисаврюка". Однако с 15 ноября 1829 года до 25 февраля 1830 года Н. Гоголь успел поработать (послужить) в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий министерства внутренних дел. Видимо на этом месте работы проявил он себя неотрицательным образом, "показал" себя, а "зарекомендовавшему себя" помогать легче; в итоге могли сработать не только публикации, но и семейные связи; впрочем, (семейные) связи – сами по себе – вряд ли смогли бы ввести его в круг В.А. Жуковского и А.С. Пушкина (на этой "траектории" все же требовались в первую очередь не связи, а публикации).
"...Шлиман недолго задержался в Стране Восходящего Солнца. Маленький английский пароходик повез его в Сан-Франциско.
Переезд длился пятьдесят дней. В пути Шлиман вспомнил давнишний разговор с одним знакомым англичанином. Шлиман рассказывал о своей первой американской поездке. Дойдя до заседания конгресса, Шлиман слово в слово повторил своему собеседнику речь Кошута. Пораженный его памятью, англичанин воскликнул:
–Стыдно вам повторять чужие речи! У вас достаточно способностей, чтобы произносить и писать свои.
С тех пор Шлиман особенно тщательно стал вести дневник. Но печатать эти писания было бы смешно: кому интересен дневник заурядного человека?
Теперь другое дело. Он объехал весь мир, он много видел и многому научился. Дневник путешествия по Китаю и Японии может найти благосклонных читателей. В тот день, когда на горизонте появились берега Америки, в портфеле Шлимана лежала рукопись книги. Она была написана по-французски – не все ли равно ему было, на каком языке писать!" [Мейерович М.Л. С. 63].
Следует ли позволять традиции или перфекционизму (стремлению к совершенству) становиться препятствием для опубликования?
Ведение Г. Шлиманом дневников, написание им писем трансформировалось в написание книг. "В 1869 году одновременно в Париже и Лейпциге вышла книга, вызвавшая в ученом мире взрыв возмущенных насмешек. Все в ней возбуждало предубеждение, начиная с еретических утверждений, наполнявших каждую ее страницу, и кончая отсутствием ученого звания перед именем автора. Книга называлась: "Итака, Пелопоннес и Троя. Археологические исследования Генриха Шлимана". Это был дневник путешествия, обильно наполненный различными учеными отступлениями и ссылками. Автор взял на себя задачу опровергнуть едва ли не все данные древнегреческой археологии. (...) Интересно, что большая часть выступлений против книги Шлимана содержала не критику его утверждений, а насмешки над его слепой верой в Гомера, в предание, в вещественность легенд. Высмеивали его самонадеянное "я": вся книга подчеркнуто написана от собственного имени. Высмеивали его детское увлечение сказками" [Мейерович М.Л. С. 82].
О трансформации писем Н. Гоголя в его книгу "Выбранные места из переписки с друзьями" И. Золотусский пишет: "Он решился на обнародование своих писем, причем это были письма сугубо семейные, личные, частные, интимные. "Выбранные места" открывались "Завещанием" Гоголя, и не завещанием литературным, условным, (...), а прямым завещанием человека, который перед смертью исповедуется и дает распоряжение о своем имуществе, о долгах и т. п. Такой откровенности никто до Гоголя в русской литературе себе не позволял. Пушкин в письмах совсем не тот, что Гоголь: для него переписка с близкими не литература, а быт, Пушкин еще держится традиционного классического представления о литературе как о чистом творчестве, где творец преображается, сохраняя себя, выступает под другими именами. Гоголь как бы срывает и этот последний покров условности: он выходит со своей обнаженной душою, допускает читателя в свою душевную жизнь" [Золотусский И.П.].
Приведенные примеры показывают, что в ряде случаев сомнения (по поводу ценности, актуальности, перспектив положительного приема публикой, учеными, критикой и т.д.) и Г. Шлиман, и Н. Гоголь решали в пользу опубликования. Что помогало им принимать такие решения? Расчет? Интуиция? Проницательность? Прозорливость?
Обратим внимание уважаемого Читателя и на несколько случаев сожжения Н. Гоголем своих работ. Может быть и эти случаи – результат проницательности, прозорливости?
В обширном архиве Г. Шлимана наверняка хранятся труды, от публикации которых он воздержался. Выше упоминался случай публикации Генрихом Шлиманом книги на основе дневников. Возможно (как версия), имело место уничтожение Г. Шлиманом части дневника (характеризуя дневниковые записи Г. Шлимана в период его путешествия с 01 октября по 14 декабря 1846 года из Петербурга в Западную Европу и обратно, И.А. Богданов пишет: "Г. Шлиман вел дневник и на обратном пути, но страницы этого дневника почему-то (и неизвестно, кем) вырезаны..." [Богданов И.А., 2008 а. С. 116]).
Подводя итог изложению здесь данной темы, дополнительно отметим, что и Г. Шлиман, и Н. Гоголь не останавливались, в определенных случаях, перед публикацией своих произведений за свой счет. [Манн Ю. В. С. 157] [Вандерберг. С. 208]. Видимо, у каждого из них для каждого такого конкретного случая имелись основания (опыт? интуиция?) полагать, что преимущества от публикации превзойдут затраты.
К писательскому успеху М. Горький шел долго, в каком-то смысле – органично. Еще будучи совсем юным он ощутил потребность в письменном изложении полученных знаний и впечатлений. "В лавке становилось всё труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начетчиков, – говорили они всё об одном и том же. Только Петр Васильев по-прежнему привлекал меня своим знанием темной человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный. (...) Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать:
– Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-кось мне записки-то эти, а?
Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а потом стал сердито шептаться с приказчиком."
Моральная поддержка "мощная": "Это, малый, не годится!" "Нет, ты это брось!".
"Через посредство уже служивших на железной дороге "неблагонадежных" Алексей устроился ночным сторожем на станцию Добринка (в Тамбовской губернии). Помимо служебных обязанностей, его, как это было принято тогда, заставляли работать по хозяйству у станционного начальства – колоть и таскать дрова, топить печи, ухаживать за лошадью и т.д. Спать и читать времени не оставалось. Алексей не выдержал и написал в правление дороги жалобу... в стихах. Это позабавило чиновников, и юношу перевели в Борисоглебск, потом на станцию Крутая" [Нефедова И.М.].
Практическая польза от литературных навыков!
Когда-то в жизни нужно было сделать решительный шаг и осуществить публикацию написанного.
"В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах "Песнь старого дуба"". "Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. (...) Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит всхрапывая:
– Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите. Хорошие стихи – приятно читать...
Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет "хорошие" относится именно к моим стихам. Но в то же время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах. (...)
– Какой вы революционер? – брюзгливо говорил он. – (...) Вот, когда я выпущу вас, – покажите ваши рукописи Короленко, – знакомы с ним? Нет? это – серьезный писатель, не хуже Тургенева... (...)
Однажды в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В.Г. Короленко. (...)
Недели через две рыженький статистик Дрягин – милый и умный – принес мне рукопись ...
На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:
"По "Песне" трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.".
О содержании рукописи – ни слова. Что же читал в ней этот странный человек? (...) Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: – что значит писать о "пережитом"?
Все, написанное в поэме, я пережил...
(...) Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем – почти два года – ничего не писал. А – иногда – очень хотелось.
С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню. (...)
Летней ночью я сидел на "Откосе", высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев – реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В.Г. ...
– Что же, пишете вы?
– Нет.
– Почему?
– Времени не имею...
– Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю – кажется, у вас есть способности..."
Постепенно нерешительность М. Горького прошла, начались публикации.
1892 год. Первый рассказ писателя – "Макар Чудра" в газете "Кавказ".
"...Рассказ "Макар Чудра" под псевдонимом "Максим Горький" появился в газете "Кавказ" 12 сентября 1892 года. (...) За следующие пять лет, наполненные непрерывной работой, он стал самым известным писателем России" [Быков Д.Л.].
За несколько лет Максим Горький сделал карьеру: Разнорабочий – письмоводитель – путешественник – (известный, материально обеспеченный) писатель.
"И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал."
«С февраля 1895 года Горький живет в Самаре. Здесь он стал профессиональным литератором, вошел в „большую литературу“: шестую книжку известного в те годы журнала „Русское богатство“ за 1895 год открывал горьковский „Челкаш“» [Нефедова И.М.].
"Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру..."
«Слава Горького-драматурга началась с его первой пьесы „Мещане“ (1900-1901), поставленной на сцене Московского Художественного театра. „Художественный театр – это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его – невозможно, не работать для него – преступление...“ – писал Горький Чехову» [Нефедова И.М.].
"Начиная с 1900 года тридцатидвухлетний Горький – уже русский классик. Так мало кому в нашей литературе везло" [Быков Д.Л.].
""Возникло желание уничтожить половину написанного", – признавался Горький в 1930 году" [Нефедова И.М.].
Закон "Публикуйся!" был реализован Г. Шлиманом в XIX веке, М. Горьким – в XIX и XX веках. Но не будем примитивны, иди – по крайней мере – излишне примитивны.
""Правда" заключается в том, что для "этики будущего", этики двадцатого века "люди" перестанут быть индивидуальными, духовно ценными единицами" [Басинский П.В. Страсти по Максиму]. Над этим тезисом может призадуматься уважаемый читатель. Этот тезис не отменяет закона "Публикуйся!", но...
Грамотность.
Грамотность, точнее, ее высокий уровень, не является обязательным условием для публикации (хотя и представляет собой хороший повод для самоуважения, как достойное и привлекательное выражение общей культурности человека). Во-первых, обретение литературного (писательского) таланта и научение (самонаучение) грамотности – разные процессы. Во-вторых, издательское дело поставлено таким образом, что предполагает (во многих случаях) участие в издательском процессе корректора. В-третьи, современные текстовые редакторы облегчают проверку текста на грамотность.
Для иллюстрации приведем мнение о современнике Н. Гоголя, достаточно популярном писателе (и культурном деятеле) того времени М.Н. Загоскине (его произведения в числе иных книг читал юный Алексей Пешков): "Михаил Николаевич получил посредственное домашнее образование и впоследствии в рукописях допускал многочисленные грамматические ошибки, часть из которых попадала и в печатные издания" ["Загоскин, Михаил Николаевич"].
"Он не мог грамотно писать до тридцати лет, но поражал своими знаниями (а главное, пониманием различных сложных областей знания) и особым литературным вкусом А.С. Деренкова, студентов университета и Духовной академии и культурнейшего нижегородского адвоката А.И. Ланина, у которого потом служил письмоводителем" [Басинский П.В. Страсти по Максиму].
ГЛАВА 10. ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА. ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА. ЛИТЕРАТУРНАЯ СНОРОВКА. ГОМЕР.
Н. Гоголь с детства и до признания его таланта и гениальности развивался в творческой среде. Детство: Кибинцы (поместье Д.П. Трощинского с театром, библиотекой, коллекцией), общение с творческими личностями, в том числе, общение с отцом. Гимназия: преподаватели, соученики. Петербург: круг Пушкина, Жуковского, Виельегорского и других.
"Однакож, в кругу своих домашних, Пушкин говорил смеясь: "С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя" (См.:[Вересаев В.В.]).
Отметим, далее, уже после признания таланта, Рим: гениальный художник А.А. Иванов, другие люди творческого, культурного круга. ("В плане совместных посещений, составленном Гоголем для Смирновой, с десяток имен художников, проживавших в это время в Риме, – немецких, английских, итальянских и других; среди них – несколько знаменитостей, например Овербек и Тенерани (...). Вместе со Смирновой Гоголь посетил и Александра Иванова" [Манн Ю. В. С.646]).
"Он попросил сестер записывать для него украинские песни, которые они слышали в исполнении крестьян. Они записали в его тетрадь 228 песен" [Труайя А. С. 564]. (228!)
Размышляя, дискутируя, оспаривая, А. Белый – тем не менее – произносит: "Гоголь – отец послегоголевской литературы, то есть Тургенева, Григоровича, Толстого, Достоевского, Островского, Салтыкова, Лескова и прочих..."[Белый Андрей. С 283].
Судьба Генриха Шлимана не обделила его общением в детстве с творческими, интеллектуальными людьми. Однако, затем были периоды гимназии, училища, фюрстенбергской лавки, Гамбурга, и отчасти – Амстердама.
Лишь в Петербурге – во многом благодаря родственникам и знакомым первой жены Екатерины – у Генриха Шлимана сформировался интеллектуальный творческий круг, общение в котором укрепило Г. Шлимана в решимости стать ученым, писателем.
Вернемся к периоду жизни Генриха Шлимана между Анкерсхагеном и Петербургом. В этот период его жизни ему довелось общаться (с разной длительностью) с дядей пастором Фридрихом Шлиманом, К. Э. Лауэ, Карлом Андерсом, недоучившимся гимназистом Германом Нидерхеффером, внезапно прочитавшим наизусть Генриху-"ученику" лавочника несколько страниц из Гомера, камердинером Рустом из герцогского замка, показавшим Генриху некоторые хранившиеся в замке древние ценности.
Признание важности этого общения все же не дает основания для того, чтобы говорить о жизни Генриха в эти годы в творческой среде.
Казалось бы – "биографический пробел". Но только на первый взгляд. У Генриха Шлимана, похоже, в этот период выковались воля, характер – то, что не может эффективно сформироваться в творческой среде (кроме, может быть, при совпадении многих условий – спортивной или тревеллерской).
Трудно сказать, относились ли слова Екатерины Лыжиной-Шлиман "сердце каменное, которое ничего не боится" (см.:[Шлиман Е., Письма. С. 48]) к Генриху Шлиману (текст этого письма Екатерины разбирается с определенным трудом). Но очевидно, что в характере Генриха Шлимана присутствовали и твердость, и бесстрашие. Екатерина могла предполагать такие качества в Генрихе еще до брака, зная о его поездке в Калифорнию и историю его обогащении там. (Факт чудесного спасения Генриха Шлимана из зимних пучин Северного моря в 1841 году также был достаточно широко известен).
Определенный "перерыв" в формировании литературной сноровки, в наличии творческого окружения, "замещение" этого якобы "выпавшего" периода этапом испытаний, сформировавших бесстрашный и твердый характер, стали одной из предпосылок и археологических открытий (троянских и микенских), и социальных, и финансовых успехов Г. Шлимана-археолога, да и вообще счастливого, славного завершения жизни Генриха Шлимана.
Николаю Гоголю не откажешь в твердости характера. Он мог отказать Ф.Б. Булгарину. Он мог отказать оказывающему гостеприимство М.П. Погодину (в его доме Н. Гоголь жил достаточно долго). Но все же Н. Гоголь в большей степени полагался на ту Незримую Руку, которая вела его по жизни; он старался адаптироваться к сложившимся обстоятельствам (благоприятным или неблагоприятным). Примером может быть следующая ситуация. В биографии описывается радость Н. Гоголя, с которой он воспринял благословение на паломничество после публикации "Мертвых душ". (Слово "публикация" мало расшифровывает тот общем цензурных, "разрешительных" забот, того объема "продвигательных" усилий, которые благополучно привели к выходу в свет поэму "Мертвые души"). После публикации Н. Гоголь снова стремился выехать за границу. Предлоги были. Но ситуация не выглядела гармоничной, убедительной. Все же ... столько времени (столько лет) провел заграницей... И снова покидает родные края... Разве в России нельзя творить?
"Он давно уже подумывал о паломничестве в Святую землю, но решил держать это намерение в тайне, пока не получит благословение авторитетного лица. И вот в начале 1842 г. такая возможность представилась: в Москву приехал знаменитый богослов и церковный деятель Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов, 1800-1857), одно время (1830-1841) ректор Киевской духовной академии, с 1841 г. глава Харьковской епархии (в 1845 г. он стал ее архиепископом). Беседа с Иннокентием и данное им благословение имели на Гоголя такое сильное действие, что Сергей Тимофеевич тотчас же подметил перемену. "Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал".
Объявленное Гоголем решение о паломничестве Аксаков не одобрил. "Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно опасным в Гоголе как в художнике..." (...)" [Манн Ю. В. С. 627].
Наконец ситуация сложилась. Священнослужитель высокого уровня (в ту пору епископ Харьковский), дает благословение на паломничество. Паломничество требует длительной подготовки. За границей. Для России того времени, для любого ее жителя от царя, в столице империи, до крестьянина, проживающего в Васильевке, такое благословление – аргумент более чем достаточный. Оно не требует никакого обоснования, его даже можно рассматривать как определенного рода обязывающее деяние. Мысли других людей – высказанные и невысказанные – о предыдущем весьма долгом нахождении Н. Гоголя за границей оставались после получения этого благословения "за скобками". Н. Гоголь едва скрывает радость; не медля, он собирается и выезжает за границу. В его действиях есть и твердость, и решительность, и стремление адаптироваться к ситуации.
Такие жизненные проекты, как спровоцированный процесс Генриха Шлимана с Османской администрацией, СОВЕРШЕННО НЕ В ХАРАКТЕРЕ Н. Гоголя. А американский развод Генриха Шлимана? А получение Г. Шлиманом американского гражданства? А характер отношений Генриха Шлимана (дважды венчавшегося: и первый, и второй брак – церковные) с епископом Вимпосом?
Все эти биографические особенности Генриха Шлимана совершенно не "в стиле" Н. Гоголя, несмотря на твердость характера Н. Гоголя.
Все же и пример (неоднозначный) жизни его отца Эрнста, и период испытаний, оказались для Генриха Шлимана не бесполезны. Как не бесполезным, по-видимому, оказалось постепенное творческое созревание Н. Гоголя в творческом окружении (в детские годы, в гимназии, в Петербурге..., без катастроф и трагических испытаний), творческое созревание уроженца малороссийской Васильевки, ставшего одним из гениальных мировых писателей.
Характер.. Воспитание...Среда... Где найдешь? Где потеряешь? Что лучше? С испытаниями? Или без испытаний? "...Дай ответ" (Н. Гоголь. "Мертвые души").
Характеризуя культурную среду, культурное окружение Г. Шлимана и Н. Гоголя, отметим незримое присутствие Гомера в их культурной атмосфере.
И работы (биографические) о Г. Шлимане, и работы самого Г. Шлимана содержат частые упоминания Гомера. Начиная читать, например, работу Г. Шлимана "Илион", приходишь к мнению, что Гомер упоминается если не на каждой странице, то весьма и весьма часто. Биографы Г. Шлимана иронически сопоставляли произведения Гомера и путеводители: Генрих Шлиман исходил из достоверности сведений, изложенных в поэмах Гомера. ("Слепая вера в Гомера"). Генрих Шлиман знал поэмы Гомера наизусть, довольно часто их цитировал.
Позитивное отношение к Гомеру в окружении Н. Гоголя было признаком культурности. Трудно определить пропорцию между комплиментарностью по отношению к Гомеру и практическим использованием Н. Гоголем в литературном творчестве тех эмоций, того вдохновения, тех знаний, который Н. Гоголь получал, читая поэмы Гомера. Уверенно можно утверждать, что Н. Гоголь на протяжении сознательной жизни так или иначе обращался к произведениям Гомера.
"Пребывание Гоголя в Баден-Бадене запомнилось Смирновой и тем, что чуть ли не каждый день после обеда он читал ей "Илиаду". Гоголю это было необходимо для художнического настроя в предчувствии интенсивной работы..." [Манн Ю. В. С. 667].
""Мертвые души" часто сравнивают с "Илиадой". Да и сам Гоголь не очень спорил с теми, кто сопоставлял его поэму с поэмой Гомера" [Золотусский И.П.].
"...Мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера" (Н.В. Гоголь – Жуковскому В. А., 10 января 1848 / 29 декабря 1847 года) [Гоголь Н.В. Письма. 1848-1852.].
"...Не вовсе аттичен, но не азиатичен – Гомер". В Гоголе "Гомер, арабизм, и барокко, и готика оригинально преломлены..." [Белый Андрей. С 298].
"Жизнь Клима Самгина" – это прежде всего идеологический роман, показывающий движение страны к революции через идеологические споры, философские течения, книги, которые читают и о которых спорят (в произведении упоминаются сотни произведений литературы, музыки, живописи – от "Илиады" до горьковской пьесы "На дне") [Нефедова И.М.]. М. Горький знал о Гомере, упоминал его имя. Какой-то конкретный интерес к Гомеру со стороны М. Горького не просматривается.
В жизни М. Горького, также как и в биографии Г. Шлимана, были периоды закалки, выковывания характера. Если у Генриха Шлимана характер выковывался трудностями и самодисциплиной, то у Максима Горького к вышеназванному добавлялись многочисленные случаи насилия.
Характер, продуктивность, творчество: эти понятия взаимообусловлены. Существует талант "от природы". Но бывает, что и "характер" становится талантом. Характер порождает продуктивность, а итогом необычно высокой продуктивности становятся великие свершения. Если следовать этой логике рассуждений, то в какие-то периоды жизни для формирования характера следует оказаться вне творческой среды. А она – благотворна.
Может быть, М. Горький, как выходец из "низов", предпринимал – сознательно или неосознанно – специальные меры по формированию вокруг себя творческой среды. Даже мальчиком он старался проводить больше времени среди талантливых людей или рядом с ними.