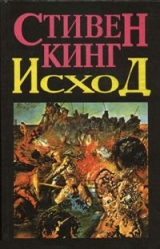
Текст книги "Исход. Том 1"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
– Порядок вещей распадается. Центр не сдерживает.
– Повторите. Я не понял.
– Неважно. Ты можешь выбраться?
– Нет, черт. Но первому ворвавшемуся мерзавцу будет над чем поразмыслить. У меня есть автомат. Мерзавцы. Трахнутые подонки.
– Удачи, Дэвид.
– Тебе также. Сдерживай, сколько сможешь.
– Попытаюсь.
– Я не уверен…
На этом разговор обрывается. Послышались звуки – что-то разбивалось, крушилось, звяканье металла, звон бьющегося стекла. Орущие что-то голоса. Выстрелы, а затем очень близко к радиопередатчику, настолько близко, что звук мог даже оглушить, загрохотало то, что могло быть только автоматом. Лязг оружия, вопящие голоса раздавались все ближе. Свист пуль, крик очень близко от передатчика, грохот и – тишина.
Следующая запись воспроизводила разговор по армейскому радио в Сан-Франциско. Разговор происходил с 19.28 до 19.30.
– Солдаты, братья! Мы захватили радиостанцию и командный пункт! Ваши притеснители мертвы! Я, брат Зено, до последнего времени сержант первого класса Роланд Гиббс, объявляю себя первым президентом Республики Северная Калифорния! Мы контролируем все! Все в наших руках! Если ваши офицеры попытаются не подчиниться моим приказам, пристрелите их как собак! Как бешеных собак! Как этих сук с подсыхающим на заднице дерьмом! Запишите фамилии, звания и номера дезертиров! Составьте список бунтовщиков и тех, кто подстрекает к измене Республике Северная Калифорния! Восходит новый день! День конца притеснителей! Мы…
Грохот автоматной очереди. Крики. Грохот, удары, револьверные выстрелы, крики, стоны, продолжительная автоматная очередь. Долгий предсмертный стон. Три секунды мертвой тишины.
– Это майор Альфред Нанн. Я принимаю на себя временное командование вооруженными силами Сан-Франциско. С кучкой изменников, внедрившихся в наш штаб, покончено. Командующий – я, повторяю, приказываю я. Начатую операцию – продолжать. С изменниками и предателями будут поступать как и раньше: высшая мера, повторяю, высшая мера. Теперь я…
Опять стрельба. Крик. Издалека: «… всех их! Убейте всех! Смерть свиньям – военным!» Грохот стрельбы. Тишина.
В 21.16 те, кто был еще в состоянии смотреть телевизоры в Портленде, штат Мэн, включили канал Дабл Ю-Си-Эс-Эйч и с немым ужасом увидели, как огромный негр, на котором не было ничего, кроме набедренной повязки и фуражки морского офицера, очень больной, вершит публичную расправу.
Его коллеги, тоже негры, тоже почти нагие, все в кожаных набедренных повязках с какими-то знаками отличия, чтобы показать, что они имеют отношение к армии, все они имели при себе автоматическое и полуавтоматическое оружие. В помещении, в котором ранее телеаудитория наблюдала за политическими дебатами, расположилась эта черная «хунта», состоящая, возможно, из двухсот солдат в хаки с винтовками и револьверами. Огромный негр, расплывшийся в широкой улыбке, которая обнажала удивительно ровные, ослепительно белые зубы, держал в руке «кольт» 45-го калибра, стоя позади огромного стеклянного барабана. Раньше этот барабан использовали в развлекательных телевикторинах. Теперь негр повращал его, достал водительское удостоверение и выкрикнул:
– Вперед и в центр. Рядовой первого класса Франклин Стерн, паф-паф!
Вооруженные люда, окружавшие аудиторию со всех сторон, нагнулись, разыскивая названного, пока оператор, явно новичок в этом деле, рывками видеокамеры обводил присутствующих.
Наконец светловолосый юноша, не старше девятнадцати, кричащий и сопротивляющийся, был вытащен на середину. Двое негров заставили его стать на колени. Огромный негр оскалился в ухмылке, чихнул, разбрызгивая слюну, и приставил «кольт» к виску рядового первого класса Стерна.
– Нет! – истерично взвизгнул Стерн. – Я пойду с вами, клянусь Богом, я буду с вами! Я…
– Воимяотцаисынаисвятогодуха, – провозгласил громила-негр и нажал на спусковой крючок. Позади того места, где стоял на коленях Стерн, осталось огромное пятно крови и мозгов. Теперь и он внес свой собственный вклад в общее дело.
Плюх.
Черный громила снова чихнул, чуть не упав. Другой негр, сидевший за режиссерским пультом (этот был в зеленой форменной фуражке и чистеньких белых шортах), нажал на кнопку «АПЛОДИСМЕНТЫ», и перед публикой в аудитории вспыхнула надпись. Черные, охраняющие аудиторию (заключенных), угрожающе подняли автоматы, и захваченные в плен белые солдаты с блестящими от пота, испуганными лицами неистово захлопали в ладоши.
– Следующий! – хрипло провозгласил негр в набедренной повязке и снова крутнул барабан. Взглянув на карточку, он провозгласил: – Сержант Роджер Петерсен, вперед и в центр, паф-паф!
Видно было, как мужчина, пригнувшись, попытался вынырнуть в заднюю дверь. А через секунду он уже оказался на сцене. В смятении один из сидевших в третьем ряду попытался снять табличку с именем, прикрепленную к своей форменной блузе. Раздался одинокий выстрел, и он сполз со своего кресла, глаза его медленно закрылись, будто подобное безвкусное шоу утомило его и навеяло дремоту.
Этот спектакль продолжался почти до 10.45, когда четыре взвода кадровых военных, все в респираторах, с автоматами ворвались в студию. Две группировки смертельно больных военных немедленно вступили в бой.
Негр-громила в набедренной повязке был уложен почти немедленно. Извивающийся, потный, пробитый пулями, он безумно разрядил свой автомат в пол. Новоявленный оператор, пытавшийся закрыться видеокамерой, был убит выстрелом в живот. Когда он склонился вперед, чтобы подхватить выползающие кишки, его камера медленно повернулась, предоставив на обозрение картину из разверзшегося ада. Полуголые охранники отстреливались, военные в респираторах поливали огнем всю аудиторию. Безоружные солдаты в центре, вместо того чтобы быть спасенными, поняли, что расправа над ними была только ускорена.
Юноша с волосами морковного цвета и с выражением дикой паники на лице попытался бежать по спинкам шести рядов кресел, как цирковой акробат, пока ему не прострелили ноги. Остальные ползли по проходам между креслами, уткнувшись носами в пол, как их и учили ползти под автоматным огнем на тактических учениях. Старый сержант с седой шевелюрой встал, театрально раскинул руки и что есть мочи заорал: «ВСТА-А-А-АТЬ!». Пули, вылетевшие с обеих сторон, нашли в нем свой приют, и он задергался, как несмышленый щенок. Грохот автоматов и стоны умирающих и раненых достигли такого уровня, что в комнате управления стрелка прибора подскочила до пятидесяти децибел.
Оператор упал на штатив своей камеры, и теперь телезрителям показывали только благословенную белизну потолка телестудии. Сплошной огонь за пять минут перешел в одиночные выстрелы, потом в ничто. Раздавались только крики. В пять минут двенадцатого потолок студии заменило изображение нарисованного человечка, радостно уставившегося в нарисованный телевизор. На нарисованном экране можно было прочитать: «ИЗВИНИТЕ! У НАС НЕПОЛАДКИ!»
Когда вечер, хромая, приближался к концу, всем было очевидно, что все происшедшее правда.
В 23. 30 в Де-Мойне старый бьюик, украшенный лозунгом: «СИГНАЛЬ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ИИСУСА СРЕДИ ПРОЧИХ», – без устали курсировал по пустынным улицам центра. Днем в Де-Мойне произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся южная сторона Холл-авеню и здание Грандвью Джуниор Колледж, а потом начался грабеж, опустошивший почти весь центральный район города.
После захода солнца улицы наполнились толпами людей, большинство в возрасте до двадцати пяти, многие были вооружены ножами и дубинками. Они разбивали витрины, выносили телевизоры, наполняли машины бензином на заправочных станциях, оглядываясь, опасаясь увидеть человека с огнестрельным оружием. Теперь улицы были пусты. Некоторые мародеры – в основном мотоциклисты – удирали по шоссе № 80. Но когда дневной свет покинул эту плоскую земную равнину, большинство скрылось в своих домах, заперев двери и уже страдая от супергриппа или пока только от ужаса перед ним. Теперь Де-Мойн напоминал место, где повеселился чудовищный монстр, очнувшийся после векового сна и выбравший улицы города местом своей хмельной пирушки. Колеса «бьюика» шипели, с хрустом раздавливая разбитое стекло, и повернули на запад с Четырнадцатой улицы на Евклид-авеню, минуя два автомобиля, которые врезались лоб в лоб и теперь застыли, их бамперы переплелись, как любовники после удавшегося взаимного убийства. На крыше «бьюика» был установлен громкоговоритель, оттуда раздавались гудки, за которыми последовал скрип заезженной пластинки, а затем, взмывая над вымершими улицами Де-Мойна, раздался нежный голос Мамы Мейбл Картер, поющей блюз «Держись на солнечной стороне»:
Держись на солнечной стороне,
Только на солнечной, только здесь,
Держись на солнечной стороне жизни,
Даже если проблем не счесть,
Тебе покажется – их вовсе нет,
Если будет солнечный свет,
Если будешь держаться
Солнечной стороны жизни…
Старенький «бьюик» все ехал и ехал, выписывая восьмерки, петли, иногда объезжая те же самые кварталы по три-четыре раза. Когда он наталкивался на бордюр (или переезжал распростертое тело), пластинка сбивалась. За двадцать минут до полуночи «бьюик» въехал в кювет и затих. Затем мотор снова заработал. Теперь громкоговоритель выплескивал песню Элвиса Пресли «Старое жестокое страданье», а ночной ветер носился по улицам, перешептывался с деревьями и развеивал последние дымки с тлеющих руин бывшего здания колледжа.
Из речи Президента, произнесенной в 19. 00, хотя и не увиденной во многих районах.
– … великая нация, такая как наша, обязана выстоять. Мы не можем позволить себе бояться малейшей тени, как это делают маленькие дети в темной комнате, но точно так же мы не можем позволить себе не считаться с этой серьезной эпидемией гриппа. Сограждане, я призываю вас не покидать дома. Если вы больны, оставайтесь в постелях, принимайте аспирин и пейте побольше жидкости. Будьте уверены, что самое большее через неделю вы уже будете чувствовать себя лучше. Позвольте мне повторить то, что я уже говорил вам сегодня вечером: это неправда – неправда, – что этот штамм гриппа является фатальным, как утверждают злопыхатели. В большинстве случаев заболевший может рассчитывать, что уже через неделю он снова будет на ногах и здоров. Далее… (приступ кашля)
– Далее, прошел слух, распространяемый радикальными группировками, что этот штамм гриппа был каким-то образом разработан правительством для возможного использования его в военных целях. Сограждане, это злостная фальсификация, и я хотел бы немедленно пресечь подобные разговоры. Наша страна подписала Женевское соглашение о неиспользовании отравляющих газов, нервно-паралитических веществ и запрещении исследований в области разработки бактериологического оружия. Ни теперь, ни ранее мы никогда… (чихает)
– … мы никогда не занимались тайным производством веществ, запрещенных Женевским соглашением. Это чрезвычайно серьезная эпидемия гриппа, но не более того. Мы имеем донесения о подобных вспышках гриппа в других странах, включая Россию и красный Китай. Поэтому мы… (кашляет и чихает)
– … мы призываем вас соблюдать спокойствие, сообщаем, что в конце этой недели или в начале следующей противогриппозная вакцина будет уже доступна тем, кто еще не поправился. В некоторых районах были призваны силы Национальной гвардии для защиты населения от хулиганов, вандалов, паникеров, но абсолютной ложью является слух, будто некоторые города «оккупированы» силами регулярной армии или что новости не сообщаются. Сограждане, это наглая фальсификация, и я хотел бы немедленно опровергнуть эти слухи…
На здании Первой баптистской церкви в Атланте красной краской было написано следующее:
«Дорогой Иисус! Вскоре я увижу Тебя. Твой друг Америка.
P. S. Надеюсь, что к концу недели у Тебя будет еще какая-нибудь вакцина».
Глава 27
Утром 27 июля Ларри Андервуд, сидя на скамье в Центральном парке, смотрел на бродячий зверинец. Позади него тянулась Пятая авеню, запруженная машинами, владельцы которых были либо мертвы, либо бежали. А вдоль Пятой авеню дымились разграбленные шикарные магазины.
Со своего места Ларри мог видеть льва, антилопу, зебру и обезьянку. Все, кроме обезьянки, были мертвы. Насколько мог судить Ларри, животные умерли не от гриппа, они Бог весть сколько времени не получали еды и питья, и именно это убило их. Всех, кроме обезьянки. За три часа, которые Ларри просидел здесь, обезьянка шевельнулась только четыре или пять раз. Она была достаточно смышленой, чтобы избежать смерти от голода или жажды – пока, но она, очевидно, страдала от супергриппа. Эта обезьяна была очень больна. Это был старый жестокий мир.
Справа от него часы, украшенные фигурками животных, показывали одиннадцать часов. Фигурки, которые когда-то привлекали тысячи детишек, теперь играли перед пустотой. Медведь трубил в рожок, резная обезьянка, которая никогда не заболеет (но которая в конце концов может сломаться), играла на тамбурине, а слон бил по барабану хоботом. Тяжелая мелодия, детка, чертовски тяжелая. Сюита конца света, исполненная фигурками на часах.
После положенных одиннадцати ударов часы затихли, и Ларри снова услышал хриплые истошные крики, теперь ухе смягченные расстоянием. В это чудесное утро крики доносились откуда-то слева от Ларри, возможно, с площадки для игр. Может быть, какой-то монстр упал в пруд и утонул там?
– Чудовища идут! – выкрикнул слабый охрипший голос. В это утро тяжелые тучи расступились, и день стоял ясный и жаркий. Мимо носа Ларри пролетела пчела и уселась на ближайшую клумбу, выбрав местом посадки великолепный пион. Из зверинца доносилось успокаивающее, усыпляющее жужжание мух, они влетали в клетки и садились на погибших животных.
– Чудовища уже идут! – Это кричал высокий мужчина, на вид ему было лет шестьдесят с небольшим. Впервые Ларри услышал его вчера вечером. Ночью, опустившейся на неестественно тихий город, этот слабый завывающий голос казался высокопарным и жутким, голосом безумного Иеремии, парящего над Манхэттеном, отдающегося эхом, зовущего и тревожащего. Ларри, который не смыкал глаз, лежа на постели и включив все люстры, вопреки всякой логике вдруг с убеждением подумал, что этот крикун идет за ним, разыскивает именно его, как это иногда делали чудовища в его ночных кошмарах. Очень долго казалось, что голос приближается: – Чудовища идут! Чудовища уже в пути! Они в пригородах! – и Ларри уже ожидал, что входная дверь, которую он запер на все три замка, сейчас будет взломана, и этот крикун окажется здесь… но не человеческое существо, а гигантский тролль – чудовище с собачьей головой, с глазами-блюдцами и клыками вместо зубов.
Но рано утром Ларри увидел его в парке – это был всего лишь спятивший с ума старик в вельветовых брюках, куртке и очках в роговой оправе. Ларри попытался заговорить с ним, но этот человек в ужасе убежал, крича, что чудовища могут появиться на улицах в любой момент. Он перепрыгнул через низенькую ограду и побежал по велосипедной дорожке, смешно хлопая ботинками, очки его слетели, но не разбились. Ларри направился к нему, но прежде чем он успел подойти, крикун схватил очки и побежал к площадке для игр, неумолимо выкрикивая свое предупреждение. Так что мнение Ларри об этом человеке изменилось от смертельного ужаса к скуке и раздражению менее чем за двенадцать часов.
В парке находились и другие люди; с некоторыми у Ларри завязался разговор. Все вели себя одинаково. Ларри подумал, что и сам он не слишком отличается от них. Все были ошеломлены, речь людей была бессвязной, казалось, они не могут не теребить его за рукав во время беседы. У каждого была своя история. Но все эти истории были схожи. Их друзья и родственники были мертвы или умирали. На улицах стрельба, на Пятой авеню – ад кромешный, правда ли, что Тиффани больше нет, возможно ли подобное? И кто же будет убирать? Кто же будет вывозить мусор и разлагающиеся трупы? Может быть, лучше уехать из Нью-Йорка? Они слышали, что военные охраняют все въезды и выезды из города. Одна женщина была напугана тем, что крысы могут выбраться из подземелий и наводнить город. Это вернуло Ларри к невеселым мыслям в тот первый день возвращения в Нью-Йорк. Один юноша доверительно сообщил Ларри, что хочет реализовать мечту всей своей жизни. Он отправится на стадион «Янки», голым пробежится вдоль поля, а потом займется мастурбацией. «Единственный шанс в жизни, приятель», – сказал он Ларри, зажмуриваясь, а потом побрел прочь.
Множество людей в парке были больны, но лишь немногие умирали здесь. Возможно, их пугала перспектива быть съеденными зверьем, и они расползались по домам, когда чувствовали приближение конца. В это утро у Ларри была только одна очная ставка со смертью – хорошо, что только одна. Он направился по главной аллее в туалет. Ларри открыл дверь, и усмехающийся мертвый мужчина с усеянным червями и личинками лицом, сидевший на стульчаке, руки его покоились на голых бедрах, уставился запавшими глазами на Ларри. Затхлый, приторный запах разложения ударил в нос Ларри, как будто сидящий мужчина был прогорклой конфетой, сладкой приманкой, оставленной для мух. Ларри захлопнул дверь, но было уже поздно: он расстался с кукурузными хлопьями, которые съел на завтрак, его так выворачивало, что он стал беспокоиться, как бы у него внутри что-нибудь не лопнуло. «Господи, если Ты есть, – молился он, возвращаясь из туалета, – если сегодня Ты принимаешь просьбы, приятель, прошу, сделай так, чтобы больше я не видел ничего подобного. Я не смогу вынести этого. Заранее благодарю».
И теперь, сидя на скамье (крикун ушел из пределов слышимости, по крайней мере пока), Ларри поймал себя на воспоминаниях о Всемирной Серии, было это пять лет назад. Вспоминать об этом было приятно, потому что теперь ему казалось, что именно тогда в последний раз он был безгранично счастлив, физически здоров и крепок, ум его был свободен от тяжелых мыслей.
Это было сразу после того, как они с Руди разбежались в разные стороны. Это было ужасно, этот дурацкий разрыв, и если когда-нибудь он снова увидит Руди (никогда этого не случится, со вздохом подсказал ему внутренний голос), Ларри извинился бы. Он пал бы ниц и облобызал башмаки Руди, если бы это было нужно для того, чтобы все снова стало хорошо.
Они отправились в путешествие по стране на стареньком «меркюри» выпуска 1968 года, который сломался в Омахе. Оттуда они несколько дней шли пешком, добирались попутными на запад, потом работали несколько недель, потом снова ехали на попутных. Они немного поработали на ферме в западной Небраске, и тогда в один из вечеров Ларри проиграл в покер целых шестьдесят долларов. И на следующий день был вынужден попросить у Руди взаймы, чтобы выпутаться. А еще через месяц они добрались до Лос-Анджелеса, и именно Ларри первым нашел работу – если, конечно, мытье посуды за минимальную плату можно назвать работой. Однажды вечером, недели три спустя, Руди завел разговор о долге. Он сказал, что встретил одного парня, который рассказал ему об агентстве по найму, которое всегда подыскивает работу, но для этого необходимо заплатить двадцать пять баксов. Что и составляло ту сумму, которую занял у него Ларри после неудачной игры в покер. При обычных обстоятельствах, сказал Руди, он бы никогда не напомнил об этом, но…
Ларри запротестовал, сказав, что уже вернул свой долг. Они в расчете. Если Руди нужно двадцать пять долларов, хорошо, но он надеется, что Руди не пытается заставить его заплатить один и тот же долг дважды. Руди сказал, что ему не нужна подачка, он хочет только те деньги, которые занял ему, и его вовсе не интересует дерьмо по имени Ларри Андервуд. «Господи Иисусе, – сказал Ларри, пытаясь рассмеяться. – Я никогда не думал, что мне потребуется от тебя расписка, Руди. Значит, я ошибся». И все это перешло в крупную ссору, даже чуть до драки не дошло. Лицо Руди пылало. «В этом весь ты, Ларри! – выкрикнул он. – Это полностью в твоем стиле. Такой уж ты есть. Я надеялся, что не попадусь к тебе на крючок, но, по-видимому, попался. Черт с тобой, Ларри». Руди ушел, а Ларри кинулся за ним вниз по лестнице дома, где сдавались дешевые меблированные комнаты, доставая бумажник из заднего кармана брюк. Там под фото были спрятаны три десятки, и он швырнул их вслед Руди.
– Дешевый обманщик! Возьми их! Возьми эти проклятые деньги!
Руди что есть силы хлопнул входной дверью и исчез в ночи, отправившись к тому сомнительному благополучию, которое могло ожидать в этом мире таких вот Руди. Он не оглянулся. Ларри, тяжело дыша, стоял на лестнице, но через пару минут уже искал свои три десятки, поднял их и спрятал обратно.
Обдумывая этот случай теперь, через столько лет, он все больше приходил к убеждению, что Руди был прав. Действительно, он был абсолютно прав. Даже если бы он действительно вернул Руди долг, они дружили с детских лет, и казалось (оглядываясь назад), что у Ларри всегда были деньги на субботний концерт, он всегда покупал конфеты по дороге к Руди, занимал ему деньги на школьный завтрак или давал семь центов, чтобы оплатить место на автостоянке. За все эти годы он истратил на Руди долларов пятьдесят, может быть даже сотню. Когда Руди напомнил ему о долге, Ларри поразмыслил, в каком затруднительном положении находится сам. Его мозг вычел эти двадцать пять из тридцати и сказал ему: «Остается только пять баксов. К тому же ты и так уже вернул ему все. Я не уверен когда, но ты расплатился. И давай больше не рассуждать на эту тему». И больше он не рассуждал.
После этого Ларри остался в городе один. У него не было друзей, он даже не пытался завести знакомства в том кафе, где работал. Дело в том, что он считал всех работающих там, начиная с вечно орущего и всем недовольного главного повара и кончая официантками, которые крутили задами и вечно жевали жвачку, непроходимыми тупицами. Да, он действительно считал всех дураками, кроме себя, которого ждет несомненный успех (и вам лучше поверил» в это), святого и непорочного Ларри Андервуда. Одному в этом мире пошляков ему было так же больно, как скулящему щенку, и он так же тосковал по дому, как человек, заброшенный волей судьбы на необитаемый остров. Он все чаще начинал подумывать о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Через месяц, может быть, даже пару недель он бы так и сделал… если бы не Ивонн.
Он встретил Ивонн Уэттерлен в кинотеатре, в двух кварталах от клуба, где та работала танцовщицей. Когда закончился второй фильм, она, плача, искала вокруг себя сумочку. В ней были ее водительские права, кредитная карточка, свидетельство о рождении, страховой полис. Хотя ему было вполне очевидно, что сумочку украли, Ларри не сказал об этом и предложил помочь ей в поисках пропажи. Иногда действительно кажется, что мы живем в мире чудес, потому что Ларри нашел сумочку через три ряда, когда они уже потеряли всяческую надежду и собирались прекратить поиски. Он сказал, что, возможно, сумочка попала туда в результате того, что люди двигали ногами во время сеанса, так как фильм был довольно-таки скучным. Она обняла его и заплакала, когда благодарила Ларри за помощь. Ларри, чувствуя себя Капитаном Америка[3]3
Популярный герой комиксов.
[Закрыть], сказал, что с удовольствием пригласил бы ее куда-нибудь отметить это событие, но у него сейчас очень туго с деньгами. Ивонн тут же сказала, что угощает она. Ларри, этот великий набоб, великодушно согласился, ни минуты не сомневаясь, что она может себе позволить это.
Они стали встречаться; менее чем за две недели их свидания стали регулярными. Ларри нашел место служащего в книжном магазине, да еще подрабатывал пением с группой, которая называлась «Зажигательный солдатский ритм и буги-вуги на все времена». Самым лучшим в этой группе было ее название, но ритм-гитаристом там был Джонни Макколл, который позже перешел к «Оборванцам», а уж это была действительно неплохая группа.
Ларри и Ивонн стали жить вместе. И для Ларри все переменилось. Во-первых, у него появилось место, его собственный дом, за который он платил только половину. Ивонн повесила шторы, они купили дешевую подержанную мебель и вместе привели ее в порядок, к ним стали заходить в гости друзья Ивонн и музыканты из группы Ларри. Днем в квартирке было очень светло, а по ночам ароматный калифорнийский бриз, казалось, благоухающий апельсинами даже тогда, когда благоухал он только смогом, вплывал в раскрытые окна. Когда никто не приходил, они с Ивонн смотрели телевизор, иногда она приносила ему баночку пива, садилась рядом на ручку кресла и гладила его по шее. Это было его местом, его домом, черт побери, и иногда он просыпался по ночам рядом со спящей Ивонн и удивлялся тому, как ему хорошо. Затем он снова засыпал, и видел приятные сны, и никогда не вспоминал о Руди Шварце. По крайней мере, очень редко.
Они прожили вместе четырнадцать месяцев, и все было очень хорошо, кроме последних шести недель, когда Ивонн превратилась в настоящую стерву, и та часть его, которая указала на это Ларри, была обязана этим тоже Всемирной Серии. Он отрабатывал положенные часы в книжном магазине, потом шел к Джонни Макколлу, и вдвоем – в полном составе группа играла только по уик-эндам, потому что остальные работали по ночам, – они играли с новым составом или просто бренчали в забегаловках мотивчики типа «Никто, кроме меня» и «Двойной залп любви».
Потом он отправлялся домой, к себе домой, и у Ивонн уже был готов ужин. Не какой-нибудь дрянной ужин из полуфабрикатов. Настоящая домашняя стряпня. В этом девочка была мастерица. А после этого они отправлялись в гостиную, включали телек и смотрели сериалы. Позже любовь. И все казалось так хорошо, все это казалось его. И ничто не омрачало его разум. С тех пор ничего уже не было так хорошо. Ничего.
Вдруг Ларри понял, что слезы текут по его лицу, и почувствовал к себе мгновенное отвращение – вот он сидит здесь на лавочке в Центральном парке и распускает нюни под солнышком, как какой-нибудь старикашка. Затем ему показалось, что он имеет право оплакивать то, что потерял, что он имеет право на шок, если это было тем, чем было.
Три дня назад умерла его мать. Она лежала на раскладушке в коридоре больницы вместе с тысячам других, которые тоже были заняты умиранием. Ларри стоял рядом с ней на коленях, когда она ушла, и подумал, что сойдет с ума, наблюдая, как умирает его мать, вокруг зловоние мочи и фекалий, бормотание в бреду, кашель, безумные выкрики, всхлипывания. В конце она уже не узнавала его; и даже в последнюю минуту она не пришла в себя. Ее грудь просто остановилась на середине вдоха, а потом очень медленно опустилась, как под тяжестью автомобиля сдуваются проколотые шины. Минут десять он в оцепенении сидел рядом с ней, не зная, что делать, смущенно думая, что вынужден ждать, пока ему выдадут свидетельство о смерти или кто-то не спросит его, что же случилось. Но ведь было и так понятно, что произошло, это происходило повсюду. Это было так же очевидно, как и то, что это место превратилось в сумасшедший дом. Никакой врач не собирался подходить и выражать свое сочувствие. Никакого ритуала. Рано или поздно его мать просто унесут, как мешок с овсом, и он не хотел видеть этого. Ее сумочка была под раскладушкой. Он нашел там ручку, заколку и ее чековую книжку. Он вырвал листок из этой книжки, написал на нем ее имя и фамилию, адрес, и после секундного вычисления ее возраст. Затем прикрепил этот листок заколкой к карману блузки и расплакался. Он поцеловал ее в щеку и, все так же плача, ушел. Он чувствовал себя дезертиром. На улице было немного лучше, хотя в это время улицы были запружены обезумевшими больными людьми и вооруженными патрульными. И теперь Ларри мог просто сидеть на этой лавочке и оплакивать более общие вещи: потерю матерью ее пенсии, свою собственную загубленную карьеру, горевать по тем временам, когда он вместе с Ивонн смотрел Всемирную Серию в Лос-Анджелесе и знал, что потом наступит время любви, тосковать по Руди. Да, больше всего он сожалел о Руди и о том, что не заплатил Руди его двадцать пять долларов. Жаль, что на понимание этого ушло целых шесть лет.
Обезьяна умерла без четверти двенадцать. Она просто сидела на своем месте, апатично подперев лапками подбородок, потом веки ее опустились, и она упала вперед, ударившись о бетон с ужасным чмокающим звуком.
Ларри больше не хотелось сидеть здесь. Он поднялся и бесцельно побрел с площадки для игр. Минут пятнадцать назад он еще слышал крики старика, стращающего всех чудовищами, где-то очень далеко, но теперь казалось, что единственными звуками, нарушающими тишину парка, были его собственные шаги и щебетанье птиц. Очевидно, птицы не заражались гриппом. К счастью для них.
Подойдя к оркестровой площадке, Ларри увидел женщину, сидящую на скамье. Ей было лет пятьдесят, но она явно прилагала немало усилий, чтобы выглядеть моложе. На ней были очень дорогие серо-зеленые слаксы и шелковая блуза в крестьянском стиле… только Ларри знал, что вряд ли крестьяне могут позволить себе носить дорогие шелковые блузы. Женщина оглянулась на звук шагов Ларри. В руке у нее была таблетка, и она чопорно положила ее в рот, как будто это был арахис, а не лекарство.
– Привет, – сказал Ларри. У женщины было спокойное лицо, в ее голубых глазах сверкал острый ум. Она носила очки в золотой оправе, да и ее записная книжечка была оправлена в нечто дорогостоящее. На пальцах было четыре кольца: обручальное, два с бриллиантами и одно с изумрудом, по размеру не уступающим глазу кота.
– Мэм, я не опасен, – сказал Ларри. Смешно было говорить об этом, но эта женщина носила на руках не менее двадцати тысяч долларов. Конечно, все это могло оказаться подделкой, но она не была похожа на женщину, которая стала бы носить мишуру.
– Да, – согласилась она, – вы не выглядите угрожающе. К тому же вы не больны – При последнем слове голос ее немного взлетел вверх, превращая ее утверждение в вежливый полувопрос. Она не была такой спокойной, как казалось с первого взгляда, с одной стороны шеи нервно билась жижа, а за живой проницательностью ее голубых глаз скрывался тот же испуг, который Ларри увидел в своих собственных, когда брился сегодня утром.
– Нет, я не думаю, что болен. А вы?
– Абсолютно. Вы знаете, что к вашему ботинку прилипла обертка от мороженого?
Посмотрев вниз, Ларри увидел, что так оно и есть. Это заставило его покраснеть, потому что он подозревал, что таким же тоном она сообщила бы ему о расстегнутой ширинке. Встав на одну ногу, он попытался отделаться от обертки.
– Вы похожи на цаплю, – улыбнулась она. – Сядьте и уберите бумажку. Меня зовут Рита Блэкмур.
– Приятно с вами познакомиться. Я Ларри Андервуд.








