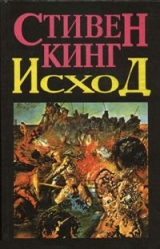
Текст книги "Исход. Том 1"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
– У нас был такой хорошенький домик, и я никогда не думала, что все может закончиться вот так, – со вздохом-полурыданием произнесла Люси. – Мы действительно очень хорошо ладили друг с другом, все трое. И скорее всего Марси, а не я, угомонила Веза. Он видел, как всходит солнце, и показывал это ребенку. Он видел…
– Не надо, – сказала Надин. – Все это было раньше.
«И снова это слово, – подумал Ларри. – Такое маленькое слово из двух слогов».
– Да, теперь все прошло. Думаю, я привыкну к одиночеству. И я уже начала привыкать, пока меня не стали мучить кошмары.
Ларри вздернул голову:
– Кошмары?
Надин смотрела на Джо. Мгновение назад мальчик клевал носом перед костром, а теперь смотрел на Люси сверкающими глазами.
– Страшные сны, кошмары, – сказала Люси. – Они не всегда одинаковые. Чаще всего меня преследует какой-то мужчина, и я никак не могу разобрать, как он выглядит, потому что весь он завернут во что-то наподобие плаща. И он всегда остается в тени. – Она вздрогнула. – Дошло до того, что я боюсь засыпать. Но теперь, возможно, я…
– Чер-р-р-р-ный мужчина! – неожиданно выкрикнул Джо с таким напором, что все вздрогнули. Он вскочил на ноги, вскинув руки, как миниатюрный Бела Лагоши, и сжав кулаки. – Чер-р-р-ный мужчина! Кошмары! Преследует! Преследует меня! Преследует меня! – Он присел рядом с Надин, с опаской уставившись в темноту.
Воцарилась тяжелая тишина.
– Это безумие, – сказал Ларри, а потом замолчал. Все они смотрели на него. Неожиданно темнота показалась почти непроглядной, и Люси снова выглядела испуганной.
Он заставил себя продолжить:
– Люси, тебе когда-нибудь снилось… ну, место в Небраске?
– Однажды мне снилась старая негритянка, – ответила Люси, – но этот сон был очень коротким. Она сказала что-то типа: «Ты пришла ко мне». А потом я снова оказалась в Энфилде и тот… тот ужасный человек преследовал меня. А потом я проснулась.
Ларри так долго смотрел на нее, что Люси покраснела и смущенно опустила глаза.
Он посмотрел на Джо.
– Джо, тебе когда-нибудь снилось… гм… поле? Старая женщина? Гитара?
Джо только смотрел на него, выглядывая из-под руки Надин.
– Оставь его в покое, ты только расстраиваешь его, – попросила Надин, но голос и у нее был смущенный и расстроенный.
Но Ларри, подумав немного, продолжал:
– Дом, Джо? Дом с маленьким крыльцом?
Ему показалось, что он подметил огонек в глазах Джо.
– Прекрати, Ларри! – сказала Надин.
– Качели, Джо? Качели, сделанные из колеса?
Неожиданно Джо вздрогнул. Он вытащил палец изо рта. Надин пыталась удержать его, но Джо вырвался из ее рук.
– Качели! – ликующе воскликнул Джо. – Качели! Качели! – Он отбежал от костра, а затем показал сначала на Надин, потом на Ларри. – Она! Ты! Много!
– Много? – спросил Ларри, но Джо снова затих.
Люси Суэнн выглядела ошеломленной.
– Качели, – сказала она. – Я тоже помню это. – Она посмотрела на Ларри. – Почему всем нам снится один и тот же сон? Может быть, кто-то воздействует на нас?
– Не знаю. – Ларри взглянул на Надин. – Тебе тоже снится это?
– Мне ничего не снится, – резко ответила она и тут же опустила глаза. Он подумал: «Ты лжешь. Но почему?»
– Надин, если тебе… – начал он.
– Я же сказала тебе, мне ничего не снится! – резко, почти истерично выкрикнула Надин. – Неужели ты не можешь оставить меня в покое? Ты что, хочешь заставить меня говорить силой?
Она встала и ушла, почти убежала от костра. Люси неуверенно посмотрела ей вслед, а потом тоже встала.
– Я пойду за ней.
– Да, так будет лучше. Джо, останься со мной, хорошо?
– Хорошо, – откликнулся Джо и стал расстегивать футляр, в котором лежала гитара.
Минут через десять Люси вернулась вместе с Надин. Ларри заметил, что обе они плакали, но теперь, казалось, были уже в хорошем настроении.
– Извини, – обратилась Надин к Ларри. – Так всегда, когда я расстраиваюсь. И это выходит таким вот смешным образом.
– Да все нормально.
Тема сна больше не возникала. Они сидели и слушали, как Джо проигрывал свой репертуар. Теперь он играл уже довольно хорошо, одновременно что-то мурлыкая себе под нос.
Потом они заснули – Ларри на одном краю, Надин на другом, Джо и Люси посередине.
Сначала Ларри снился темный человек, стоящий на высоком месте, а потом старая негритянка, сидящая на пороге своей лачуги. Только в этом сне он знал, что темнокожий подходит, пробираясь сквозь поле, пролагая сквозь посевы свою собственную кривую дорожку. Ужасающая ухмылка зияла на его лице, он все ближе и ближе подходил к нему.
Ларри проснулся посреди ночи, задыхаясь. Грудь его стеснило от страха. Все остальные спали как убитые. Непостижимым образом он многое понял из этого сна. Темный человек шел не с пустыми руками. На его руках, как обвинение, лежало разлагающееся тело Риты Блэкмур, теперь уже окоченевшее и раздутое, с кожей, разодранной ласками и хорьками. Немое обвинение, которое должно быть брошено к его ногам, чтобы все узнали о его преступлении, молчаливое обвинение в том, что он вовсе не хороший парень, что что-то было оставлено вне его, не докошено, не додато, что он был всегда проигрывающим, что он был только берущим.
Наконец Ларри снова заснул и открыл глаза только в семь часов, замерзший, голодный, горя желанием принять ванну. Ему ничего не снилось.
– О Господи, – опустошенно сказала Надин. Ларри, взглянув на нее, увидел отчаяние, глубокое до слез. Лицо ее было бледным, замечательные глаза затуманились, потемнели.
Было четверть восьмого, 19 июля, тени удлинялись. Они ехали весь день, останавливаясь только на пятиминутный отдых, обед занял у них меньше получаса. Никто из них не жаловался, хотя после шестичасовой беспрерывной езды даже у Ларри тело ныло и ломило, пронзаемое тысячью иголок.
Теперь они стояли все вместе перед железным забором. Внизу раскинулся городок Стовингтон, не так уж и изменившийся с тех пор, как Стью Редмен видел его в последние дни своего пребывания в Центре вирусологии. За оградой и газонами, которые некогда содержались в образцовом порядке, а теперь заросли и были усеяны сорванными грозой ветками и листьями, находился сам институт – трехэтажное здание, но большая его часть была спрятана под землей, как подозревал Ларри.
Место было пустынным, молчаливым, вымершим. В центре газона виднелась табличка:
«ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ СТОВИНГТОНА
ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ!
ПОСЕТИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОТМЕТИТЬСЯ НА ПРОПУСКНИКЕ»
А далее была вторая табличка, именно на нее они и смотрели:
«ШОССЕ № 7 НА РУТЛЕНД
ШОССЕ № 4 НА ШЕЙЛЕРВИЛЛ
ШОССЕ № 29, ПОТОМ № 87
С № 87 НА ЮГ НА № 90
С № 90 НА ЗАПАД
ЗДЕСЬ ВСЕ МЕРТВЫ.
МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ЗАПАД, В НЕБРАСКУ.
ИДИТЕ ПО НАШЕМУ СЛЕДУ.
СЛЕДИТЕ ЗА НАДПИСЯМИ.
ГАРОЛЬД ЭМЕРИ ЛАУДЕР
ФРАНСИС ГОЛДСМИТ
СТЮАРТ РЕДМЕН
ГЛЕНДОН ПЭКУОД БЕЙТМЕН
8 ИЮЛЯ 1990 Г.»
– Гарольд, дружище, – пробормотал Ларри. – Не могу дождаться, когда же я пожму твою руку и разопью с тобой баночку пивка… или съем конфетку.
– Ларри! – резко окликнула его Люси.
Надин потеряла сознание.
Глава 45
Она проковыляла на крылечко в двадцать минут одиннадцатого утром двадцатого июля, неся в руках чашку кофе и тост, точно так же как делала это каждый день, с тех пор как градусник, прикрепленный снаружи к оконной раме, показывал выше пятидесяти градусов. Был венец лета, самого лучшего лета, которое только могла припомнить матушка Абигайль начиная с 1955 года, когда умерла ее мать в возрасте девяноста трех лет. Как плохо, что вокруг больше нет людей, чтобы радоваться летнему теплу, подумала она, осторожно опускаясь в кресло-качалку без ручек. Но разве они когда-нибудь наслаждались этим? Некоторые, конечно, да; влюбленные молодые люди и старики, чьи косточки отлично помнили смертельную хватку зимы. Теперь же большинство молодых и стариков умерло, как и большинство тех, кто находился между этими двумя полярностями. Господь вынес свой суровый приговор человеческой расе.
Кто-то, может, и поспорил бы с этим суровым приговором, но матушка Абигайль не относилась к их числу. Однажды Он уже проделал подобное при помощи воды, а какое-то время спустя Он сделает это при помощи огня. Не ей судить Господа, хотя она и хотела бы, чтобы чаша сия миновала ее. Но когда дело касалось приговора, она была удовлетворена ответом, данным Господом Моисею из горящего тернового куста, когда Моисей осмелился задать вопрос. «Кто ты такой? – спросил Моисей, и Господь появился из этого куста: «Я есмь Сущий» – Я Есть, Кто Я ЕСТЬ. Иначе говоря – Моисей, прекрати совать свой нос, куда не следует.
Она рассмеялась, кивая головой, засунула тост в широкое горло чашки с кофе, пока он не размяк так, что она смогла жевать его. Минуло уже шестнадцать лет с тех пор, как она распрощалась с последним зубом. Беззубой вышла она из лона своей матери, беззубой она и сойдет в могилу. Молли, ее правнучка, и ее муж Джим подарили ей вставные челюсти ко Дню Матери, год спустя, в тот год, когда ей самой уже исполнилось девяносто три года, но протезы натирали ей десны, и теперь она надевала их только тогда, когда знала, что Молли и ее муж собираются навестить ее. Тогда она вынимала протезы из коробочки, тщательно ополаскивала их и надевала. И если у нее оставалось время до прихода Молли и Джима, то корчила рожи в старенькое зеркало, висящее в кухне, и рычала сквозь все эти большие белые фальшивые зубы, ее так и разбирал смех.
Она была очень старой и немощной, но мозги ее соображали по-прежнему отлично. Абигайль Фриментл, так ее звали, родилась в 1882 году, что и подтверждалось свидетельством о рождении. Она перевидала на земле многое за отпущенный на ее долю срок, но не припомнит ничего подобного тому, что произошло за последний месяц. Нет, ничего такого не было прежде, и теперь пришло и ее время стать частью этого, а ей этого не хотелось. Она была слишком старой. Она хотела в покое наслаждаться сменой времен года до тех пор, пока Господь не устанет смотреть на нее и не призовет к себе на небеса. Что же происходит, когда задаешь вопрос Господу? Ответ всегда таков: «Я Есть, Кто Я ЕСТЬ», и все. Когда Его собственный Сын молился о том, чтобы чаша сия миновала его, Господь даже не ответил… теперь и ее ничем не проведешь. Она была обыкновенной грешницей, и по ночам, когда ветер разгуливал по полю, ей страшно было думать, что Господь видел, как маленькая девочка появилась между материнских ног в начале 1882 года, и сказал Сам Себе: «Я продержу ее подольше. Она потрудится в 1990 году, переворошив целую кипу календарных листков».
Ее время на земле подходило к концу, и последняя работа ждала ее на Западе, рядом со Скалистыми горами. Господь послал Моисея взбираться на гору, а Ноя заставил строить ковчег; Он наблюдал, как Его собственного Сына распинали на кресте. Какое Ему дело до того, как сильно боится Абби Фриментл темного человека без лица, того, который прокрадывается в ее сны?
Она никогда не видела его; ей и не нужно было его видеть. Он был тенью, скользящей по полю в полдень, холодной струей воздуха, птицей, обрушивающейся на нее с провода линии электропередач. Его голос взывал к ней на разный манер, пользуясь всем, что пугало ее – было ли это пиликаньем сверчка под лестницей, говорящего ей, что кто-то любимый скоро умрет; дневной грозой, накатывающейся с запада, как кипящий Армагеддон. Иногда вообще не было никаких звуков, лишь одинокий шум ветра в поле, но она знала, что он здесь, и это было хуже всего, потому что тогда человек без лица казался только чуть-чуть ниже Самого Господа Бога; в такие мгновения казалось, что она совсем рядом с темным ангелом, безмолвно парящим над Египтом и убивающим первенцев в каждом доме, чьи ворота не вымазаны кровью. Именно это пугало ее больше всего. В своем страхе она снова становилась ребенком и понимала, что пока другие только предчувствуют его и боятся, ей дано ясное осознание его ужасающей силы и власти.
– Отличный денек! – сказала она и засунула последний кусочек тоста в рот. Раскачиваясь в кресле, она пила кофе. Стоял ясный, просто отличный день, у нее ничего не болело, и она вознесла Господу кроткую молитву, благодаря Его за все, что Он ниспослал ей. Господь велик, Господь милосерден; даже самые маленькие дети могут усвоить эти слова; слова молитвы вбирают в себя весь мир и все, что присуще этому миру, все добро и зло.
– Господь велик, – повторила матушка Абигайль. – Господь милосерден. Благодарю Тебя за солнечный свет. За кофе. За то, что желудок мой работает нормально. Ты был прав, эти дни выкинули шуточку, но, Бог мой, все это кажется мне зловещим. Разве я не такая же, как все? Господь милостив…
Кофе был почти допит. Старая женщина отставила чашку и стала раскачиваться, ее лицо было обращено к небу, как древнее каменное изваяние. Она задремала, затем уснула. Ее сердце, чьи стенки теперь были не толще пергамента, билось ровно, как оно продолжало биться каждую минуту в последние 39 из 360 дней. Она спала безмятежно, как младенец. Казалось, надо было положить руку ей на грудь, чтобы убедиться, что матушка Абигайль вообще дышит.
Но на губах ее играла улыбка.
Конечно, все изменилось с тех пор, когда она была совсем маленькой. Семья Фриментлов приехала в Небраску, когда освободили рабов, и правнучка Абигайль, Молли, цинично смеясь, предполагала, что деньги, на которые отец Абби купил домик, – гроши, заплаченные ему Сэмом Фриментлом из Льюиса, штат Южная Каролина, в виде компенсации за то, что отец и его братья еще восемь лет продолжали работать на хозяина после окончания Гражданской войны, – были «деньгами для очистки совести». Абигайль всегда прикусывала язык, когда Молли говорила это – Молли, Джим и другие были молоды и не понимали ничего, кроме черного и белого, – но мысленно она закатывала глаза и говорила сама себе: «Деньги для очистки совести? Что ж, есть ли деньги чище, чем эти?»
Итак, семья Фриментлов осела в Хемингфорд Хоум, и Абби, последний ребенок в семье, родилась уже здесь. Отец ее был окружен теми, кто не покупал ничего у негров и не продавал им ничего; он прикупал землю постепенно, чтобы не тревожить тех, кого волновали «эти черные ублюдки, идущие по пути Колумба»; он был первым человеком в округе Полк, применившим севооборот; первым же он опробовал и химические удобрения; а в марте 1902 года к ним домой пришел Гарри Сайтс и сказал, что Джон Фриментл избран в Ассоциацию фермеров. Он был единственным чернокожим, избранным в Ассоциацию, во всем штате Небраска. Этот год стал венцом всему.
Абигайль была убеждена, что любой, обозревая ее жизнь, сможет выбрать один год и сказать: «Вот этот был лучше всех». Казалось, что всеми это ощущается как извечное чередование времен года, когда все приходит вместе, нежное, великолепное, полное чудес, удивительное. И только позже начинаешь размышлять, почему все произошло именно так. Это все равно что одновременно положить в кладовую десяток по-разному пахнущих припасов, в результате чего все они немного пропитываются запахом других ингредиентов: грибы с привкусом ветчины, а ветчина со вкусом грибов; оленина припахивает куропаткой, а куропатка издает слабый аромат огурцов. Потом, в дальнейшей жизни, вы можете желать, чтобы все те прекрасные вещи, которые пришли к вам в тот необыкновенный год, растянулись бы на более долгий срок, чтобы можно было взять по одной из этих золотых вещей и выставить их в середину тех трех лет, о которых вы не можете вспомнить ничего хорошего, но вы знаете, что все вдет так, как и должно идти в этом мире, который создал Господь Бог, а Адам и Ева полуразрушили – все выстирано и вымыто, полы надраены, дети ухожены, одежда почищена; три года ничем не нарушаемой серости, даже фейерверком Пасхи, Четвертого Июля, Дня Благодарения или Рождества. Но нет ответа на то, каким образом Господь реализует Свои представления о том, как все должно быть, и для Абби Фриментл, как и для ее отца, 1902 год стал вершиной всего.
Абби считала, что она единственный человек в семье – не считая отца, – который понимает, какое это великое, почти беспрецедентное событие быть включенным в состав Ассоциации фермеров. Он будет первым негром в Ассоциации штата Небраска, возможно, единственным во всех Соединенных Штатах. Отец не питал никаких иллюзий по поводу того, какую цену заплатит за эту честь он сам и его семья, когда на них обрушится поток насмешек и расовой ненависти от всех этих людей – и председателя Бена Конвея среди остальных, – которым претила сама мысль о возможности подобного. Но он также понимал, что Гарри Сайтс предложил ему нечто большее, чем просто шанс выжить: Гарри дал ему шанс к процветанию в содружестве с другими.
Со вступлением в Ассоциацию придет конец его проблемам при покупке хороших семян. Необходимость везти весь свой урожай в Омаху, чтобы найти там покупателя, тоже отпадет. Это могло означать конец перебранкам из-за прав на воду с Беном Конвеем, который приходил в ярость по поводу таких черномазых, как Джон Фриментл, и таких защитников негров, как Гарри Сайте. Это могло означать и конец обманов со стороны окружного сборщика налогов. Поэтому Джон Фриментл принял приглашение, и его членство в Ассоциации пошло своим путем (как и прибыль), и действительно последовали жестокие насмешки и шутки по поводу того, каким образом черномазый прокрался к кормушке Ассоциации, и о том, что когда негритянский ребенок попадает в рай и получает там свои черные крылышки, то зовут его летучей мышью, а не ангелом, а Бен Конвей развлекал, знакомых побасенками о том, что единственной причиной того, что Джона Фриментла приняли в Ассоциацию, стало то, что приближался Детский Бал и им понадобился негр для роли орангутанга. Джон Фриментл делал вид, что не слышит всех этих пересудов, а дома он читал из Библии – «Кротость смягчает ярость» и его любимое место, произносимое не с кротостью, а с мрачным ожиданием: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Мало-помалу он поладил с соседями. Не со всеми, не с такими яростными ненавистниками, как Бен Конвей и его сводный брат Джордж, не с Арнольдами и Диконами, но но многими другими. В 1903 году члены семьи Фриментлов присутствовали на обеде в гостиной Гарри Сайтса, совсем как белые.
И в 1902 году Абигайль играла на гитаре в доме Ассоциации, и не на концерте негритянской песни, а на смотре талантливых белых, проходившем в конце года. Ее мать насмерть стояла против этого: это был один из тех редких случаев, когда она шла против желания своего мужа открыто, возражая при детях (хотя мальчики тогда уже подбирались к среднему возрасту, а сам Джон уже основательно поседел).
– Я знаю, как все это было, – всхлипывая сказала она. – Ты, и Сайтс, и этот Фрэнк Феннер, вы все это придумали вместе. Все это хорошо для них, Джон Фриментл, но что это взбрело тебе в голову? Они же белые! Ты выходишь с ними на задний двор и говоришь о пахоте! Ты можешь даже пойти в центр и выпить с ними пива, если этот Нейт Джексон пустит тебя в свой салун. Отлично! Я знаю, что ты занимался этим в последние годы. Я знаю, что ты будешь улыбаться, даже если в твоем сердце будет полыхать огонь боли. Но это совсем другое! Это твоя собственная дочь! Что ты скажешь, если она выйдет в своем беленьком платьице, а все они начнут смеяться над ней? Что ты будешь делать, если они закидают ее гнилыми помидорами, как сделали это с Бриком Салливаном, когда он хотел спеть на концерте негритянской песни? И что ты скажешь, когда она придет к тебе перепачканная помидорами и спросит: «Почему, папа? Почему они сделали это, и почему ты позволил им?»
– Послушай, Ребекка, – ответил Джон. – Думаю, будет лучше, если мы позволим это решить ей и Дэвиду.
Дэвид был ее первым мужем; в 1902 году Абигайль Фриментл стала Абигайль Троттс. Дэвид Троттс был черным рабочим на ферме, расположенной под Валпараисо, и он проходил пешком миль тридцать в одну сторону, когда начал ухаживать за ней. Однажды Джон Фриментл сказал Ребекке, что медведь хорошенько прижал старину Дэвида, и теперь он совсем как младенец. Очень многие смеялись над первым мужем Абигайль и говорили: «Кажется, я знаю, кто носит брюки в этой семье».
Но Дэвид не был слабаком, он был спокойным и мыслящим человеком. Тогда он сказал Джону и Ребекке Фриментл: «Если Абигайль считает это правильным, то я убежден, что так оно и должно быть». Она благословила его за это и сказала отцу и матери, что намерена идти до конца.
Итак, 27 декабря 1902 года, почти на третьем месяце беременности, она вышла на сцену в гробовой тишине; которая убедила ее в том, что ведущий уже объявил ее имя. Как раз перед ней Гретхен Тайльонс исполняла французский танец, показывая ляжки и нижние юбки, под свист, поощрительные выкрики и топот присутствующих мужчин.
Абигайль стояла, окутанная густым молчанием, зная, каким черным кажется ее лицо и тело на фоне нового белого платья. Сердце бешено колотилось в груди, она думала:«Я забыла все слова, не помню ни единой строчки. Я обещала папе, что не заплачу, что бы ни случилось, и я не стану плакать, но здесь сидит Бен Конвей, и если он выкрикнет «ЧЕРНОМАЗАЯ», я разрыдаюсь. О, почему я вообще пошла на все это? Мама была права, я забыла о своем месте, и я поплачусь за это…»
Зал был заполнен белыми лицами, обращенными к ней. Не пустовало ни одно место, и еще в конце зала люди стояли двумя рядами. Керосиновые светильники мигали, вспыхивая огоньками пламени. Красный бархатный занавес был раздвинут и перехвачен золочеными шнурами.
Она подумала: «Я, Абигайль Фриментл Троттс, я хорошо пою и играю; я не знала этого, потому что никто не говорил мне об этом».
И она запела в неподвижной тишине, пальцы ее наигрывали мелодию. Затем Абигайль стала петь «Как я люблю моего Иисуса», а потом «Встречу в Джорджии». Теперь люди раскачивались в такт почти вопреки своему желанию. Некоторые улыбались и отбивали такт ногой. Она исполнила попурри из песен времен Гражданской войны (теперь еще больше улыбок; многие из этих мужчин, ветеранов Республиканской армии, съели не один пуд соли во время службы). Закончила она свое выступление нежной песней, и когда последний аккорд отзвучал в тишине, ставшей теперь задумчивой и печальной, Абигайль подумала: «А теперь, если вам так хочется, можете швырять в меня свои помидоры или что там еще. Я играла и пела как только могла, я действительно сделала это здорово».
Когда последний аккорд растворился в тишине, та длилась долго, почти бесконечно, как будто все эти сидящие и стоящие в конце зала люди отправились куда-то очень далеко, так далеко, что не могли сразу отыскать дорогу назад. Затем зал взорвался аплодисментами, накатившимися на нее волной, нескончаемой и продолжительной, заставившей Абигайль вспыхнуть, засмущаться. Она вся горела и дрожала. Она увидела мать, откровенно рыдающую, отца и Дэвида, радующихся за нее.
Тогда она попыталась уйти со сцены, но раздались крики: «Еще! Еще!». И, улыбаясь, она проиграла «Выкапывая картошку». Эта песенка была довольно рискованной, но Абби посчитала, что раз уж Гретхен Тайльонс смогла публично показать свои ножки, значит, и она может спеть песенку несколько фривольного содержания. В конце концов, она же замужняя женщина.
Эх, картошечка моя – недотрожечка,
Кто копал тебя тайком, понемножечку?…
Все копал, перебирал да нахваливал,
А потом копать устал, вот охальник-то!
Эх, картошечка моя – слезы горькие,
Эх, беда моя, беда – что в ведерке-то?…
Было еще шесть куплетов в том же духе (некоторые были даже весьма откровенными), и она спела их все, и в конце каждого из них раздавался гул одобрения. И позже Абби подумала, что если она и сделала что-то неправильное в этот вечер, так спела эту песенку, которая была именно той песней, которую они, возможно, ожидали услышать из уст негритянки.
Абигайль закончила под бурю оваций и новые выкрики «Еще!». Она снова вышла на сцену и, когда толпа успокоилась, она сказала:
– Большое вам всем спасибо. Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивой, если я попрошу позволения спеть еще одну песню, которую я специально разучила, но никак не думала, что исполню ее именно здесь. Но это самая лучшая из известных мне песен, учитывая, что президент Линкольн и эта страна сделали для меня и моих родных еще до моего рождения.
Теперь присутствующие затихли и слушали очень внимательно. Вся ее семья застыла рядом с левым проходом, как пятно ежевичного сока на белом носовом платке.
– Учитывая то, что произошло тогда в разгар Гражданской войны, – спокойно продолжала Абигайль, – моя семья смогла переехать сюда и жить по соседству с такими прекрасными людьми.
Затем она заиграла и запела «Звездно-полосатый стяг», и все встали и слушали, и снова появились платочки, а когда она допела, гром оваций чуть не снес крышу.
Это был самый знаменательный и значительный день в ее жизни.
Абигайль очнулась около полудня, выпрямилась, щурясь от солнечного света, – старая женщина в возрасте ста восьми лет. Затекшая спина ныла, теперь она будет болеть весь день, – уж в этом-то матушка Абигайль разбиралась.
– Отличный день, – произнесла старушка и осторожно поднялась. Она стала спускаться по ступенькам крыльца, осторожно держась за расшатанные перила и морщась от боли в спине и покалывания в ногах. Теперь кровообращение у нее было не то, что раньше… да и как оно могло остаться неизменным? Время от времени Абигайль приказывала себе не засыпать в кресле. Но она все равно задремывала, и сразу все прошлые события вставали перед ней, и это было чудесно, уж намного лучше, чем смотреть телевизор, но зато какую цену ей приходилось платить, просыпаясь… Она могла читать себе нотации сколько угодно, но она была как старая собака, которая так и норовит поудобнее умоститься подле камина. Как только матушка устраивалась на солнышке, то сразу же засыпала, и ничего тут не поделаешь. И с этим она уже больше не спорила.
Старушка спустилась по лестнице, остановилась, чтобы «дать ногам возможность догнать себя», затем отхаркалась и сплюнула на землю. Наконец, почувствовав себя как обычно (не считая боли в спине), она медленно направилась в туалет, сооруженный ее внуком Витфором позади дома еще в 1931 году. Она вошла внутрь, плотно закрыла дверь и накинула крючок, будто снаружи разгуливали целые толпы народа, а не пара дроздов, и уселась. Через мгновение она стала мочиться, удовлетворенно вздохнув. В старости приходит еще одно, о чем никто и не подумает рассказать (или, может быть, никто просто не прислушивается к этому?) – перестаешь понимать, когда хочется писать. Такое впечатление, вроде бы ты растерял внизу в мочевом пузыре всякую чувствительность и, если не быть внимательным, ты узнаешь об этом только тогда, когда уже нужно менять одежду. Не в привычке Абигайль было ходить грязной, поэтому она отправлялась посидеть здесь шесть или семь раз за день, а ночью ставила горшок под кровать. Муж ее правнучки, Джим, однажды сказал ей, что она как собака, которая не может пропустить ни одного телеграфного столба, чтобы не отсалютовать ему струйкой, и Абигайль смеялась так, что слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам. Джим работал рекламным агентом в Чикаго и всегда так изящно шутил… по крайней мере, был таким раньше. Абигайль предполагала, что он умер, как и многие другие. Молли тоже. Благослови их, Господи, теперь они уже радом с Иисусом.
В последний год Молли и Джим были почти единственными, кто приезжал навестить ее. Остальные, казалось, забыли, что она вообще существует, но Абигайль вполне могла понять это. Она пережила свое время. Она напоминала динозавра, которому давно уже пора скинуть мясо с костей и занять свое место в музее (или на кладбище). Абигайль могла понять их нежелание навестить ее, но она никак не могла понять, почему они не хотят навестить землю. Осталось не так уж и много, нет, всего несколько акров из огромного пространства. Однако это по-прежнему принадлежало им; это была их земля. Но черное население, кажется, больше не волновала земля. Действительно, были такие, которые, казалось, стыдились ее. Они уехали пробивать себе дорогу в городах, и большинство из них, такие как Джим, например, действительно неплохо устраивались… но как у нее болело сердце от мысли, что все эти чернокожие отвернулись от земли!
Молли и Джим хотели устроить ей современный туалет с унитазом два года назад и обиделись, когда она отказалась. Она попыталась объяснить им причины отказа так, чтобы они поняли, но единственное, что могла сказать Молли, было следующим: «Матушка Абигайль, тебе уже сто шесть лет. Как, ты думаешь, я чувствую себя, зная, что тебе приходится сидеть на корточках, а на улице всего десять градусов тепла? Разве ты не знаешь, что холод вреден тебе?»
– Когда Господь захочет, тогда Он и призовет меня, – ответила Абигайль. Она вязала в тот момент, и они, конечно, подумали, что смотрит она на свое вязанье и не заметит, как они закатили глаза.
Есть вещи, которые невозможно менять. Похоже, это еще одно, чего не знает молодежь. В 1982 году, когда матушке Абигайль исполнилось сто лет, Кэти и Дэвид предложили купить ей телевизор, и она приняла этот подарок. Телевизор был чудесной машиной для времяпрепровождения, особенно когда живешь в одиночестве. Но когда Кристофер и Сюзи приехали и сказали, что они хотят провести в ее домик водопровод, она отказалась, точно так же как ранее отклонила предложение Молли и Джима соорудить у нее смывной туалет. Они спорили и доказывали, что ее выкопанный колодец обмельчал и что он совсем пересохнет, если выдастся еще одно такое же засушливое лето, как в 1988 году. Все это было так, но она продолжала стоять на своем. Они подумали, что старая женщина свихнулась, что она слой за слоем лишалась разума, как слой за слоем сходит краска с пола, но сама Абигайль считала, что разум ее действует отлично, как и всегда.
Она поднялась со стульчака, притрусила известью очко туалета и медленно выбралась на солнечный свет. Она содержала туалет в чистоте, но все равно это было одно из тех старых, неуютных мест, которое, как ни старайся, оставалось весьма убогим.
Как будто голос Бога стал нашептывать ей в ухо, когда Крис и Сюзи предложили ей подсоединиться к городскому водопроводу… голос Господа прозвучал снова, когда Молли и Джим предложили ей этот фарфоровый трон с ручкой смыва на боку. Господь действительно разговаривает с людьми; разве Он не разговаривал с Ноем о ковчеге, о том, какова должна быть его длина и вместимость? Конечно же, он обсуждал с ним все подробности. И Абигайль верила, что и с ней Он разговаривает, но не из пылающего куста или огненного шара, а спокойным, тихим голосом, говорящим: «Абигайль, тебе понадобится твой ручной насос, качающий воду. Можешь наслаждаться электричеством сколько хочешь, Абби, но держи свои керосиновые лампы в полном порядке, а фитили в готовности. И холодный погреб поддерживай так же, как делала это твоя мать. И помни, не позволяй молодежи уговорить тебя согласиться на что-нибудь, что, как ты знаешь, будет против Моей воли, Абби. Они твои дети, но я твой Отец».








