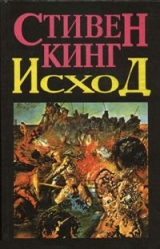
Текст книги "Исход. Том 1"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Глава 6
Уже вечерело, когда Франни вышла в огород, где ее отец терпеливо пропалывал горох и фасоль. Она была поздним ребенком, ее отцу было уже за шестьдесят, пряди седых волос выбивались из-под бейсбольной кепки, которую он постоянно носил. Ее мать отправилась в Портленд покупать белые перчатки: Эми Лаудер, лучшая подруга детства Франни, выходила замуж в начале июля.
Франни с любовью смотрела на склоненную спину отца, наслаждаясь идиллической умиротворенностью предвечерья. В это время суток свет приобретал неповторимое очарование неопределенного времени, свойственное только этим быстротечным мгновениям раннего лета в Мэне. Она как-то вспомнила об этом особенном свете в середине января, и сердце ее защемило от тоски. Свет этого раннего лешего вечера, уже ускользающий в темноту, ассоциировался со многими приятными вещами: бейсбольными матчами в Литл-Лиг-парке, где постоянно играл Фред, арбузами, молодой вареной кукурузой, чаем со льдом в запотевших стаканчиках, детством.
Франни слегка кашлянула:
– Помощь не требуется?
Отец, обернувшись, улыбнулся:
– Привет, Фран. Твоя мать вернулась?. – Он нахмурился, но потом его лицо прояснилось, – Да нет, она же уехала совсем недавно. Можешь запачкать руки, если тебе так уж хочется. Только не забудь потом их вымыть.
– Руки женщины говорят о ее привычках, – скорчив гримасу, произнесла Фран, а потом фыркнула. Питер попытался придать своему лицу неодобрительное выражение, но это ему не удалось.
Она присела у соседнего рядка и стала полоть. Весело чирикали воробьи, с шоссе № 1, проходившего в квартале от их дома, доносился гул. Он еще не достиг такой громкости, как в июле, но все же был достаточно силен.
Питер рассказывал о своих делах, а она задавала ему вопросы, кивая в нужных местах. Увлеченный работой, он не мог видеть ее кивков. Но боковым зрением он мог уловить, как кивает ее тень. Он работал водителем в крупной автомобильной фирме в Санфорде – самой большой автофирме к северу от Бостона. Ему было уже шестьдесят четыре, оставался всего год до пенсии. Даже неполный год, потому что ему полагался четырехнедельный отпуск, который он собирался взять в сентябре, когда все «пришельцы» разъедутся по домам. Он все время думал о пенсии. Он пытался не смотреть на это как на вечные каникулы, говорил он ей, у него много приятелей пенсионного возраста, так вот они говорят, что это вовсе не так. Он не думал, что будет так же скучать, как Эрлан Эндерс, или так позорно бедствовать, как Кэроны – бедный Пол всю свою жизнь с утра до вечера торчал в магазине, но все-таки они с женой были вынуждены продать свой дом и переехать жить к дочери и ее мужу.
Питер Голдсмит не надеялся на социальное обеспечение, он никогда особенно и не верил в это, даже в те дни, когда система еще не начала разваливаться под давлением спада производства, инфляции и постоянно увеличивающегося числа мошенников. В тридцатых и сороковых в Мэне было не так уж и много демократов, говорил он внимательно слушавшей его дочери, но ее дедушка принадлежал именно к этой партии, и, к счастью, ее дедушка и из ее отца сделал демократа. Во времена процветания Оганквита это сделало Голдсмитов кем-то вроде парий. Но у его отца была одна поговорка, камня на каше не оставлявшая от философии республиканцев штата Мэн: «Не следует доверять сильным мира сего – они могут послать тебя к черту, как и их правительство, даже в день второго пришествия».
Франни рассмеялась. Ей нравилось, когда отец говорил вот так. Но это случалось не часто, потому что женщина, приходившаяся ему женой, а ей матерью, вырвала бы ему язык и облила серной кислотой, так и брызжущей с ее ядовитого языка.
Ты должен доверять только себе, продолжал он, и пусть сильные мира сего поступают, как могут, с людьми, избравшими их. В большинстве случаев они обращаются с ними не очень-то хорошо, но и это нормально; они стоят друг друга.
– Твердый доход – вот в чем ответ, – сказал он Франни– Уилл Роджерс говорил, что это земля, потому что это единственная вещь, которую нельзя больше воспроизводить, но то же самое относится к золоту и серебру. Человек, который любит деньги, – ублюдок, такой достоин только презрения. А человек, который не может заработать и сохранить их, – дурак. Его не ненавидят, его жалеют.
Фран подумала, не имеет ли он в виду бедного Пола Кэрона, бывшего другом отца еще до ее рождения, но решила не спрашивать. В любом случае она не хотела, чтобы он рассказывал ей о том, что обдумывал многие годы. Зато он сказал, что она никогда не была обузой для них, в хорошие или плохие времена, и он с гордостью рассказывал своим друзьям, что смог ее послать учиться. Что не смогли сделать его деньги и ее мозги, говорил он им, она сделала по старинке, выпрямив спину и встряхнув волосами. Работать и работать упорно, если хочешь достичь чего-то. Ее мать не всегда понимала это. Женщины теперь стали другими, хотят они этих изменений или нет. И у Карлы никак не укладывалось в голове, почему это Фран не охотится за мужем.
– Она видит, что Эми Лаудер выходит замуж, – сказал Питер, – и она думает: «На ее месте должна быть моя Фран. Конечно, Эми хорошенькая, но если их поставить рядом, то Эми будет похожа на блюдо с трещинами». Твоя мать всю жизнь следовала старым правилам, и теперь она уже не изменится. Именно поэтому время от времени вы и царапаете друг друга, высекая искры, как от удара косы о камень. И в этом нельзя никого винить. Но ты должна помнить, Фран, – она уже слишком стара, чтобы измениться, а ты достаточно взрослая, чтобы понимать это.
Потом он снова принялся за работу, рассказывая, как один из его сослуживцев чуть не потерял указательный палец под прессом, потому что витал в облаках, пока его палец был под штемпелем. Хорошо, что Лестер Кроули вовремя успел оттащить его. Но, добавил он, ведь не всегда же Лестер будет поблизости. Отец вздохнул, как бы вспоминая, что и его тоже не будет, а потом повеселел, рассказывая ей об идее спрятать автомобильную антенну в обшивке капота.
Он переходил от одной темы к другой, голос его при этом был спокойным и добродушным. Тени отца и дочери удлинялись, двигаясь по рядкам впереди них. Его болтовня, как всегда, убаюкивала ее. Франни пришла сюда, чтобы кое-что рассказать ему, Но, как и с самого раннего детства, она приходила поговорить, а оставалась, чтобы слушать. Отец не надоедал ей. Но, насколько ей было известно, никто не считал его скучным или надоедливым – кроме матери, пожалуй. Он был великолепным рассказчиком.
Вдруг до нее дошло, что отец замолчал. Он сидел на камне в конце рядка, набивая свою трубку и глядя на нее.
– О чем ты думаешь, Франни?
Несколько секунд она тупо смотрела на него, не зная с чего начать. Она пришла сюда, чтобы рассказать ему все, но теперь не была уверена, сможет ли. Молчание повисло между ними, разрастаясь и увеличиваясь, и, наконец, она не смогла выдержать этой лавины. Она прыгнула.
– Я беременна, – просто сказала она.
Перестав набивать трубку, он посмотрел на нее.
– Беременна, – повторил он, как будто никогда раньше не слышал этого слова. Потом сказал: – О, Франни… это шутка? Или розыгрыш?
– Нет, папа.
Она подошла к концу рядка и села рядом. В голове у Франни стучало, ее подташнивало.
– Это точно? – спросил он.
– Наверняка, – ответила она, а потом – и в этом не было никакой наигранности, она просто не смогла удержаться, – Франни разрыдалась. Отец прижимал ее к себе одной рукой, казалась, целую вечность. Когда всхлипывания стали стихать, она заставила себя задать вопрос, который волновал ее больше всего:
– Папа, ты меня все еще любишь?
– Что? – Он растерянно взглянул на нее. – Конечно. Я так же люблю тебя, Франни.
От этого слезы снова нахлынули на нее, но в этот раз он предоставил ее самой себе, набивая тем временем трубку.
– Ты очень расстроился? – спросила она.
– Не знаю. Прежде у меня никогда не было беременной дочери, поэтому я просто не знаю, как должен вести себя. Это Джесс?
Она кивнула.
– Ты сказала ему?
Она снова кивнула:
– Он сказал, что женится на мне. Или заплатит за аборт.
– Свадьба или аборт, – задумчиво произнес Питер Голдсмит, попыхивая трубкой. – Он как двуликий Янус.
Опустив голову, она разглядывала свои руки, лежавшие на коленях, обтянутых джинсами. На костяшках пальцев и под ногтями присохла грязь. «Руки женщины говорят о ее привычках, – прозвучал в голове голос ее матери. – Беременная дочь. Мне придется отказаться от участия в церковных делах. Руки женщины…»
Ее отец сказал:
– Я не хотел бы вмешиваться в твою интимную жизнь больше чем нужно… на разве он… или ты… не предохранялись?
– Я принимала противозачаточные таблетки, – ответила она – Но они не помогли.
– Тогда я никого не могу винить, кроме вас обоих, – сказал он, внимательно глядя на нее. – Но и этого я не могу делать, Франни. Я не могу никого винить. В шестьдесят четыре забываешь, что чувствуют люди в двадцать один. Поэтому не будем говорить о вине.
Она почувствовала огромное облегчение, у нее даже закружилась голова, как при обмороке.
– А вот у твоей матери найдется немало упреков, и я не буду останавливать ее, но я и не буду на ее стороне. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Она кивнула. Ее отец никогда не противоречил матери. По крайней мере, вслух. У нее был ядовитый язык. «Иногда, когда с ней споришь, ситуация выходит из-под контроля, – как-то сказал он Франни. – А когда она теряет самообладание, то может так исполосовать своего оппонента, что последующие извинения уже ничем не помогут раненому». Франни тогда еще подумала, что ее отец, наверное, много лет назад был поставлен перед выбором: продолжать восставать, что закончилось бы разводом, или сдаться на милость победителя. Он выбрал второе – но на своих собственных условиях.
Она спокойно спросила:
– Ты уверен, что сможешь не вмешиваться, папа?
– Ты просишь меня принять твою сторону?
– Не знаю.
– Что ты собираешься делать?
– С мамой?
– Нет, с собой, Франни.
– Не знаю.
– Выйдешь за него замуж. Двоим прожить дешевле, чем одному, так, кажется, теперь говорят.
– Я не думаю, что смогу сделать это. Мне кажется, я разлюбила его, если когда-нибудь вообще любила.
– Из-за ребенка? – Его трубка опять разгорелась вовсю, запах дыма был таким приятным в летнем воздухе. В углах сада собирались тени, кузнечики завели свою песню.
– Нет, дело вовсе не в ребенке. Это все равно произошло бы. Джесс… – Она замялась, пытаясь объяснить, что же не так было с Джессом, то, что она могла бы пропустить в том смятении, в которое ее вверг ребенок, стоя перед необходимостью срочно принять решение и выбраться из-под устрашающей тени матери, которая теперь занималась покупкой перчаток к свадьбе подруги детства Франни. То, что могло бы быть похоронено здесь, но, несомненно, беспокойно отдыхало бы шесть месяцев, шестнадцать, даже двадцать шесть, однако все равно восстало бы из могилы и напало бы на них обоих. «Замуж не напасть, как бы замужем не пропасть». Одна из любимых поговорок ее матери.
– Он слабак, – сказала она, – Я не могу объяснить это по-другому.
– Ты не доверяешь ему по-настоящему, чтобы связать с ним судьбу, ведь так, Франни?
– Нет, – сказала она, думая, что ее отец точнее докопался до корней проблемы. Она не доверяла Джессу, который вышел из богатой семьи и носил голубую блузу рабочего.
– Джесс имеет в виду только хорошее. Он хочет поступать только правильно, он действительно хочет этого. Но… два семестра назад мы пошли на поэтический вечер. Стихи читал человек по имени Тед Энсмен. Аудитория была переполнена. Все очень внимательно слушали… буквально затаив дыхание… чтобы не пропустить ни единого слова. А я… ну, ты же знаешь меня…
Отец уютно обхватил ее своими руками и сказал:
– На Франни напал смешок.
– Да. Правильно. Мне кажется, ты меня очень хорошо знаешь. Это – я имею в виду смешок – берется ниоткуда. Я все время думала: «Чистюли, чистюли, мы слушаем грязнулю». Все это повторялось ритмично, как в песенке, которую слушаешь по радио. И на меня напал смешок. Я вовсе не хотела этого. К тому же смех не имел никакого отношения к поэзии мистера Энсмена, его стихи были хороши, даже несмотря на то, каким неопрятным он выглядел. Причина была в том, как они смотрели на него.
Она взглянула на отца, чтобы убедиться, какое это произвело на него впечатление. Он просто кивнул, чтобы она рассказывала дальше.
– Но в любом случае мне нужно было выйти из зала. Мне действительно нужно было. И Джесс просто взбесился. Конечно, я уверена, он имеет полное право злиться… это было так по-детски, так чувствуют только дети… но я частенько бываю такой. Не всегда. Я умею быть серьезной…
– Конечно, умеешь.
– Но иногда…
– Иногда Его Величество Смех стучится в твою дверь, а ты не из тех людей, кто может выпроводить его, – сказал Питер.
– Мне кажется, именно такой я и должна быть. А вот Джесс совсем другой. И если бы мы поженились… он бы встречал этого неприятного гостя, которого я впустила. Не каждый день, но достаточно часто, чтобы выводить его из себя. Тогда я стала бы пытаться и… и, мне кажется…
– Мне кажется, ты была бы несчастна, – докончил Питер, крепче прижимая ее к себе.
– Я думаю, именно так бы все и случилось, – сказала она.
– Тогда не позволь своей матери переубедить тебя.
Она снова закрыла глаза, успокоившись еще больше.
Он понял. Это было какое-то чудо, но он понял.
– Ты думаешь, мне нужно сделать аборт? – через пару минут спросила она.
– Мне кажется, именно об этом ты и хотела поговорить.
Вздохнув, она посмотрела на него. Он тоже взглянул на нее с полуулыбкой-полунасмешкой, изогнув лохматую левую бровь. Но она поняла, что он очень серьезен.
– Послушай, – сказал он, а потом вдруг странно замер. Но она слушала и услышала чириканье воробьев, стрекот кузнечиков, далекий гул самолета, голос, звавший Джеки немедленно идти домой, гуденье проводов линии электропередач, шум скользящей по шоссе № 1 машины.
Она уже собиралась спросить, все ли с ним в порядке, когда отец взял ее за руку и заговорил:
– Франни, плохо, что у тебя такой старый отец, как я, но тут уж ничего не попишешь. Я не женился до 1956 года, – Он задумчиво посмотрел на дочь в призрачном свете сумерек и продолжал: – В те дни Карла была совсем другой. Она была… как огонь. Такая молодая, во-первых.
Она была такой до смерти твоего брата Фредди. Вот… я не хочу, чтобы ты думала, Франни, что я осуждаю твою мать, хотя это звучит так, будто именно это я и делаю. Но, мне кажется, жизнь… замерла в Карле… после, смерти Фредди. Она наложила три слоя лака и толстый слой цемента на свои взгляды на жизнь и посчитала, что это хорошо. И теперь она похожа на смотрителя музея, и если кто-то вмешивается со своими идеями о переустройстве, она быстренько выпроваживает таких новаторов. Но она не всегда была такой. Тебе придется поверить мне на слово. Она была почти такой, как ты, Франни. На нее тоже внезапно нападал смех. Мы часто ездили в Бостон, чтобы посмотреть на игру «Ред сокс», а после восьмого периода выходили в буфет выпить пива.
– Мама… пила пиво?
– Да, конечно. А большую часть девятого периода она не вылазила из туалета и, выходя оттуда, обвиняла меня во всех смертных грехах за то, что по моей вине она пропустила самое интересное, хотя именно она подстрекала меня спуститься в буфет и купить пива.
Франни попыталась представить свою мать с кружкой дива в руке, смотрящую снизу вверх на отца и заливающуюся смехом, как девушка на выданье. Нет, она просто не могла представить себе подобное.
– Она никак не могла забеременеть, – смущенно произнес он. – Мы вместе пошли к врачу, чтобы выяснить, в ком же причина. Доктор сказал, что мы оба здоровы. А потом, в шестидесятых, появился твой брат Фред. Она любила этого мальчика до беспамятства, Фран. Ты знаешь, ее отца звали Фредом. В 1965 году у нее был выкидыш, и мы оба решили, что это уже конец. А потом, в 1969 году, родилась ты, на месяц раньше, но все же здоровенькая. И я полюбил тебя до смерти. У каждого из нас был свой ребенок. Но она потеряла своего.
Он замолчал, задумавшись. Фред Голдсмит умер в 1973 году. Ему было тринадцать, а Франни четыре. Водитель, сбивший Фреда, был пьян. За ним тянулся длинный список нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Фред прожил еще семь суток.
– Мне кажется, аборт – это слишком мягкое слово, – снова заговорил Питер Голдсмит. Его губы медленно выговаривали каждый слог, будто слова причиняли ему боль, – Я считаю, что это убийство детей, простое и ясное. Мне неприятно говорить это, быть таким… суровым, жестоким, каким бы я ни был… таким образом характеризуя то, что ты сейчас должна решить, потому что закон дает тебе право решать. Я уже сказал тебе, что я старик.
– Ты вовсе не старый, папа, – пробормотала она.
– Старый, старый! – резко выкрикнул он. Внезапно он показался ей обезумевшим – Я старик, пытающийся дать совет своей юной дочери, а это равносильно обезьяне, пытающейся научить медведя своим ужимкам. Семнадцать лет назад пьяный водитель отнял жизнь у моего сына, и с тех пор моя жена уже перестала быть прежней. Я всегда анализировал проблему абортов, вспоминая Фреда. Я всегда не в состоянии был смотреть на это с другой точки зрения, точно так же как ты не могла подавить свой смех, когда он накатил на тебя на том вечере поэзии, Франни. Твоя мать будет против этого, приводя все стандартные доводы. Убийство, скажет она. Убийство, которое берет свое начало две тысячи лет назад. Право на жизнь. Вся западная мораль основывается на этой идее. Я читал труды философов. Я изучил их книги от корки до корки, как домохозяйка, рассматривающая дивидендный чек в супермаркете. Твоя мать просто без ума от «Ридерс дайджест», но именно я перестал сопротивляться, потому что я почувствовал это, а она только руководствовалась моральным кодексом. Я просто наблюдал за Фредом. Все внутри у него было переломано. У него не было ни единого шанса выжить. Эти борцы за право на жизнь показывают картинки, изображающие человеческих зародышей в формалине, вытянувших передние конечности, ну и что? Конец жизни всегда непригляден. Я наблюдал за Фредом, лежавшим на кровати все те семь суток. Все то, что было вывернуто из него, подтянули бандажом. Жизнь не стоит и ломаного гроша, а аборты делают ее еще дешевле. За всю жизнь я прочитал больше, чем твоя мать, но именно она внесла в это больше смысла. То, что мы делаем, и то, что мы думаем… эти вещи основываются на абсолютно произвольном суждении. Я не могу свыкнуться с этой мыслью. Это словно ком в горле – как вся эта неопровержимая логика возникает из иррационального. Это судьба. Я не очень-то связно говорю, ведь так?
– Я не хочу делать аборт, – тихо произнесла Франни. – По своим собственным причинам. Ребенок – это часть меня, – сказала она, слегка поднимая подбородок – Даже если это мое эго, для меня это не важно.
– Ты хочешь отказаться от него, Франки?
– Нет. Я хочу сохранить его.
Отец замолчал. Ей показалось, что он не одобряет ее решение.
– Ты думаешь об учебе, не так ли? – спросила она.
– Нет, – вставая, ответил Питер. – Я думаю, мы хорошо поговорили. И ты не обязана принимать это решение прямо сейчас.
– Мама вернулась, – сказала Франни.
Когда он повернулся, чтобы проследить за ее взглядом, машина уже въезжала на подъездную дорожку, посверкивая хромом в последних отсветах дня. Карла увидела их, весело посигналила и приветственно помахала.
– Я должна сказать ей, – выдавила из себя Франни.
– Да, но подожди день или два.
Глава 7
В сумеречном свете, спускающемся на землю после захода солнца, но до прихода настоящей темноты, во время тех редких минут, которые создатели кино называют «волшебными мгновениями», Вик Пэлфри выплыл из темно-зеленого бредового тумана в краткий миг осознанности.
«Я умираю», – подумал он, и эти слова со странным, скрежетом пронеслись у него в голове, заставляя поверить в то, что он говорит вслух, хотя это было и не так.
Он оглянулся вокруг и увидел себя лежащим на больничной койке, поднятой под углом, чтобы мокрота из его легких не задушила его. Сам он был плотно привязан ремнями безопасности, решетки с обеих сторон койки подняты. «Разбился, наверное, – подумал он, удивившись. – Все кости переломаны». А потом с опозданием: «Где я?»
Его шея была обмотана пеленкой, сплошь покрытой комками слизи. Голова страшно болела. Невольная мысль о смерти вновь мелькнула у него в голове, к тому же он понимал, что долго был без сознания… и что скоро снова впадет в это состояние. Он был болен, и это не был конец или начало его болезни, а лишь краткая передышка.
Он приложил тыльную сторону ладони ко лбу и тут же отдернул ее с содроганием, как отдергиваешь руку от раскаленной плиты. Горит, да еще и опутан трубками. Две маленькие прозрачные трубки тянулись из его ноздрей. Еще одна извивалась змеей из-под больничной простыни на пол, и он с полной уверенностью знал, к чему присоединена эта трубочка. Две перевернутые бутылочки были вставлены в штатив, стоявший рядом с койкой, трубки, выходившие из каждой, соединялись буквой «Y» и входили в его руку с тыльной стороны. Капельница.
«Этого было бы вполне достаточно» – подумал он. Но и все его тело было опутано какими-то проводками. Присоединены к голове. И к груди. И к левой руке. А один проводок присоединен прямо к пупку.
Он собирался громко и негодующе крикнуть. Но издал только слабый вскрик смертельно больного человека. К тому же звук вырвался из легких, забитых мокротой, в которой он, казалось, и заглох.
«Мама, Джордж привязал коня?»
Это был бред. Иррациональная мысль, пронесшаяся по пространству более рационального мышления как метеор. Но все равно это вывело его из тумана хоть на пару секунд. Еще очень долго он не сможет подняться. Эта мысль вызвала у него панический ужас. Посмотрев на свои исхудавшие руки, он подумал, что потерял никак не меньше тридцати фунтов, но это было только начало. Это… что бы это там ни было… собиралось убить его. Мысль, что он может умереть в сумасшедшем бреду, как выживший из ума старик, ужаснула его.
«Джордж ухаживает за Нормой Уиллис. Ты раздобыл этого коня самостоятельно, Вик, вот и надевай противогаз, как послушный мальчик.
«Это не мое дело».
«Виктор, ты любишь свою мамочку?»
«Ты должен любить свою мамочку. У нее грипп».
«Нет, это не так, мама. У тебя туберкулез. Этот туберкулез убьет тебя. В девятнадцать сорок семь. А Джордж погибнет через шесть дней после переброски в Корею, времени хватит только чтобы написать письмо, и динь-дон. Джордж…»
«Вик, сейчас ты поможешь мне и привяжешь этого коня, это мое последнее слово».
– Это у меня грипп, а не у нее, – прошептал он, выплывая из бреда. – Это у меня.
Он смотрел на дверь и думал, что даже для больницы это чертовски забавная дверь. Она была овальной Отделана резиновым уплотнителем, а нижняя часть ее дюймов на шесть возвышалась над кафельным полом Даже такой плотник, как Вик Пэлфри, мог…
(Дай мне комиксы, Вик ты и так уже долго разглядываешь их)
(Мама, он забрал у меня рисунки! Отда-а-а-а-й их!)
… сделать немного лучше. Она была…
… стальной.
Что-то в этой мысли, словно острый шип, вонзилось в его мозг, и Вик попытался приподняться, чтобы получше рассмотреть дверь. Да, так оно и есть. Определенно так. Стальная дверь. Почему он находится в больнице за стальной дверью? Что случилось? Он умирает? Может, ему лучше поразмыслить над тем, как он предстанет перед Господом? Боже мой, что же случилось? Он отчаянно пытался пробиться сквозь густой серый туман, но до него донеслись только голоса издалека – да, голоса, но он не мог определить, кому именно они принадлежат.
«Отключи-ка лучше свои насосы, Хэп».
(Хэп? Билл Хэпском? Кто это такой? Я знаю это имя.)
«Боже мой…»
«Они мертвы…»
«Дай мне свою руку, и я вытащу тебя отсюда…»
«Дай мне комиксы, которые у тебя есть, Вик…»
В этот момент солнце полностью опустилось за горизонт, и сразу же автоматически включилось электричество. Когда в палате Вика зажегся свет, он увидел целый ряд лиц, молча наблюдающих за ним через двойное стекло, и вскрикнул, подумав сначала, что именно эти люди беседовали в его голове. Один из них, мужчина в одеянии врача, настойчиво махал кому-то, находившемуся вне поля зрения Вика, но Вик уже переборол страх. Он был слишком слаб, чтобы долго бояться. Но страх вернулся с внезапным потоком электрического света, и вид этих наблюдающих лиц (словно команда призраков в докторском облачении) прорвал блокаду в его мозгу, и он понял, где находится. Атланта.
Атланта, штат Джорджия. Они появились и забрали его – его и Хэпа, Норма, жену Норма и детей Норма. Они забрали Хэнка Кармайкла, Стью Редмена. И еще Бог весть сколько людей. Вик, испугавшись, сопротивлялся. Конечно, у него насморк, он чихает, но у него вовсе не холера и не то, что было у бедного Кэмпиона и его семьи. Температура у него была небольшая, поэтому он помнит, как Норм Брюетт споткнулся на ступеньках трала и уже не смог подняться вверх без посторонней помощи. Жена Норма была страшно испугана и все время плакала, и малыш Бобби Брюетт тоже плакал – плакал и заходился в кашле. В хриплом крупозном кашле. Самолет стоял на маленькой взлетной полосе на окраине Брейнтри, но, чтобы вырваться из Арнетта, им пришлось миновать пост на шоссе № 93, и там уже натягивали проволоку…
Красная лампочка вспыхнула над странной овальной дверью. Послышался шипящий звук, как будто из насоса выпустили воздух. Когда шипение смолкло, дверь отворилась. Вошедший был одет в плотный белый комбинезон, прозрачный плексиглас шлема позволял видеть его лицо. Голова за этим стеклом напоминала шар, заключенный в капсулу. На спине вошедшего были прикреплены баллоны с кислородом, а когда он заговорил, голос его отдавал металлом и был каким-то сдавленным, мало похожим на человеческий. Он напоминал голос из видеоигр, наподобие произносящего: «Попытайся снова, Космический Кадет», – когда теряешь последний шанс.
Голос продребезжал: «Как вы себя чувствуете, мистер Пэлфри?»
Но Вик не смог ответить. Он вновь опустился в темно-зеленые глубины. Теперь за прозрачным стеклом ему виделось лицо матери. Мама была вся в белом, когда отец привез его и Джорджа в санаторий в последний раз повидаться с ней. Она вынуждена была поехать в санаторий, чтобы никто из ее окружения не заразился. Туберкулез заразен. Можно было и умереть.
Он разговаривал со своей мамой… говорил, что будет послушным и привяжет коня… жаловался ей, что Джордж забрал у него комиксы… беспокоился, не хуже ли ей… спрашивал ее, скоро ли она вернется домой… и тут мужчина в белом сделал ему укол, и он нырнул еще глубже, а слова его стали еще более бессвязными. Человек в белом комбинезоне взглянул на сгрудившихся за стеклянной стеной людей и покачал головой.
Щелкнув кнопкой переговорного устройства, вмонтированного в шлем, он произнес:
– Если и это не поможет, мы потеряем его к полуночи.
Для Вика Пэлфри волшебное мгновение закончилось.
– Просто поднимите рукав, мистер Редмен, – попросила хорошенькая темноволосая медсестра, державшая аппарат для измерения давления в руках, обтянутых перчатками. – Это не отнимет у вас и минуты, – Она улыбалась за прозрачной маской из плексигласа, будто делилась с ним каким-то забавным секретом.
– Нет, – ответил Стью.
Ее улыбка слегка дрогнула:
– Я же только хочу измерить вам давление. Это не займет много времени. Это распоряжение врача, – продолжала настаивать она, переходя на деловой тон. – Будьте добры.
– Если это распоряжение врача, то позвольте мне поговорить с ним.
– Боюсь, сейчас он слишком занят. Если вы просто…
– Я подожду, – ровным голосом ответил Стью, не делая ни единого движения, чтобы расстегнуть манжету.
– Это всего-навсего моя работа. Ведь вы не хотите, чтобы у меня возникли неприятности, не правда ли? – На этот раз она улыбнулась ему очаровательной улыбкой. – Если только вы позволите мне…
– Нет, – ответил Стью. – Идите и скажите им. Они направят ко мне кого-нибудь.
Встревоженная медсестра, подойдя к стальной двери, повернула квадратный ключ. Заработал насос, дверь с шипением открылась, и девушка шагнула в коридор. Когда дверь уже закрывалась, медсестра неодобрительно посмотрела на Стью. Стью ответил ей ничего не выражающим взглядом.
Дверь закрылась, он встал и подошел к окну – двойное стекло, забранное снаружи решеткой, – но было уже совсем темно, и Стью ничего не увидел. Он вернулся к койке и сел на стул. На нем были вылинявшие джинсы, клетчатая рубашка и коричневые, прохудившиеся на боках туфли. Он провел рукой по лицу и неодобрительно поморщился, ощутив под пальцами щетину. Ему не позволяли бриться, а он быстро зарастал.
Стью не возражал против анализов как таковых. Но он возражал против того, что его держали в неведении и страхе. Он не был болен, по крайней мере пока, но он был напуган. Здесь происходили странные вещи, и он не собирался участвовать в этом, пока кто-нибудь не расскажет ему, что же случилось в Арнетте и какое отношение имел к этому Кэмпион. По крайней мере, тогда он сможет подвести солидную базу под свои страхи.
Они давно ожидали, что он начнет задавать вопросы, – он мог прочесть это по их глазам. В больнице умеют скрывать тайны. Четыре года назад его жена умерла от рака в возрасте двадцати семи лет, рак зародился в ее матке, а потом пронесся по всему организму, как пожар, и Стью наблюдал, как они уходили от ее вопросов, либо меняя тему разговора, либо давая ей информацию с использованием непонятных терминов. Поэтому он просто не задавал вопросов и видел, как это встревожило их. Но теперь время вопросов пришло, и он получит ответы. Из слов с одним слогом.
Некоторые пробелы он смог заполнить и сам. У Кэмпиона, его жены и ребенка было что-то очень плохое. Это поражало как грипп или другая простуда, но только это становилось все хуже и хуже, пока человек не захлебывался насмерть собственной мокротой или: пока не сгорал от высокой температуры. И это было очень заразно.
Они пришли и увели его семнадцатого, после обеда, два дня назад. Четверо военных и врач. Вежливые, но крайне настойчивые. Не возникало и мысли отказаться: все четверо военных были вооружены. Именно тогда Стью Редмен и испугался до смерти.
Из Арнетта до маленького аэропорта в Брейнтри ходил рейсовый автобус. Но Стью ехал вместе с Виком Пэлфри, Хэпом, семьей Брюетт, Хэнком Кармайклом, его женой и двумя военными в армейском автофургоне, и военные не проронили ни слова, несмотря на истерику, которую закатила Лила Брюетт.
Другие фургоны тоже были переполнены. Стью не видел всех сидящих в них людей, но заметил всех пятерых Ходжесов и Криса Ортегу, брата Карлоса, того водителя кареты скорой помощи. Крис был владельцем бара «Голова индейца». Он заметил также Паркера Нейсона и его жену, пожилых владельцев гаража, расположенного рядом с домом Стью. Он понял, что забрали всех, кто был на автозаправке, и каждого, с кем разговаривали присутствовавшие там, когда Кэмпион врезался в бензоколонку.








