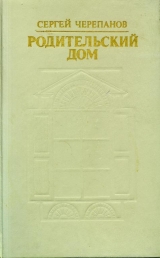
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
15
Лида Васильева писала часто, но письма всегда были короткими, пустыми, неинтересными. Жаловалась на скуку, на усталость и ни разу не спросила ни о его настроении, ни о работе.
Федор не понимал, что такое скука и почему надо так мрачно смотреть на окружающий мир.
Потом Лида перестала писать. Не отвечала. Он подумал, уж не заболела ли, хотел попросить на неделю отпуск и съездить в город, но мать сообщила: видела Лиду живой и здоровой у городского сада, и не одну, а вместе с каким-то ушастым и очкастым мужчиной. Федор отложил поездку, понимая, что образа жизни ради Лиды менять не может.
В воскресные дни ходил по дворам, вербовал читателей. Мужиков, охочих до книг, находилось много, но в библиотеку они не записывались. Одни стеснялись своей малограмотности, другие боялись прослыть бездельниками, третьи по непривычке и от лени, дескать, не пристало мужику тратить время на забавы. Бабы даже в разговор не вступали: «Да бабье ли это занятие? Лошадям ведь лучше жить, чем нам! Им хоть роздых дают, а мы ни днем, ни ночью роздыха не имеем. И постряпать-то надо, и по хозяйству управиться, и в поле успеть, и детишков-то умыть-прибрать, да мужика ублаготворить. Где уж нам!» Девки стыдливо прикрывались ладошками, краснели от смущения, сразу убегали то в горницы, то во двор. «Им о замужестве и о приданом заботиться надо, а не о том, что в книжках пишут! – сурово говорили старухи. – Иная наберется чужого ума, потом в замужестве – горе! Ты уж, миленький, не тронь их, не соблазняй, коли добра им желаешь!» Молодые парни уступали настойчивости избача, записывались, чтобы соблюсти достоинство, но Чекан был уверен, что половина из них ни одной книжки до конца не прочла. «Ладно, хоть из десятка один зацепит умом какую-то мысль, и то хорошо», – думал он.
Дед Савел Половнин однажды в шутку назвал его «коробейником». Это прежде ходили по деревням разносчики с коробами на спине, со двора во двор, раскладывали в избах ленты, бусы, платки цветистые, булавки, пуговицы, гарус и ситцы. «Так вот и ты со своим товаром, – сказал дед Савел. – А много ли наторгуешь? Неходовой у тебя товар! Не дошел еще мужик до настоящих понятий». Не дошел, так надо его доводить, тянуть, увлекать, так решил Чекан, приняв шутку деда Савела вполне серьезно. Ведь и вешняя капель начинается с первой крохотной капли.
Во всем селе не было мужика горемычнее Ивана Добрынина. И не переставал Иван мечтать о каком-то кладе, о счастливой случайности, которая бы вывела его из нужды. Старая изба с подпорками, подслеповатые окна. В избе скрипучий, расшатанный стол. Голые стены. Вся радость семьи – медный самовар. И заварки вдоволь: сушеная морковь, заготовленные впрок листья полевой клубники. Пил Добрынин чаи по три раза в день, но сыт не бывал.
Чекан застал всю семью за столом. Положил книжки на лавку, сказал по обычаю: «Хлеб да соль!» И не сел бы за скудный обед, но Иван настоял, усадил на почетное место, в передний угол. А когда вышли из-за стола, спросил: какая же неми́ня гонит избача по дворам, зачем он носит столько книг с собой и о чем же те книги говорят? Поначалу Чекан взялся рассказывать, а потом кое-что прочитал из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Вся семья слушала, как зачарованная; Иван и его жена Акулина даже поплакали. На следующий день вечером при свете лучины прочитал им рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да нескоро скажет» и вместе с хозяевами немало наволновался, как все-таки плохо была устроена жизнь. Но что-то новое, доброе засветилось в глазах бедного мужика, чем-то неожиданно хорошим скрасилось его унылое существование. Потом в избу к Ивану стали собираться соседи, и Чекан уже не мог управиться без помощи комсомольцев, потому что и в других избах нашлись желающие мужики и бабы. Им было отрадно слушать не только складную речь; книги устраняли из их изб одиночество, сказывали о таких же людях, со всеми их печалями, стремлениями к счастью.
Но клуб пустовал. Ребята-комсомольцы помогли отремонтировать сцену. Кирьян Савватеич взялся руководить драмкружком, подобрал пьесу, а на женские роли никого не нашлось. Без девушек и парни не соглашались играть. Оставалась надежда на комсомольцев, и то не очень большая. Секретарь ячейки Серега сам не верил в успех.
– Не завлечь девок! – тоном совершенно безнадежным сказал он Чекану. – Парней-то еле удерживаем! Кабы ты знал, как меня батя за комсомол беспрестанно строчит! «Ты проклятущий! Ты басурман! Ты семя антихристово!» А мать за ухват берется. Ладно еще из дому не выгнали!
– Однако ты не сдаешься!
– Привык потому что! С малых лет ведь колотят. У меня батя от нужды шибко зол. Богатым завидует. Спит и видит во сне, как бы второго коня купить. А я, выходит, помощник ему плохой. Меня к людям тянет. Теперь батя и мать грозятся женить. Уж и невесту присматривают. Мы-де привяжем тебя за хвост!
– Подчинишься?
– Это никак невозможно. Наотрез откажусь. Опять придется битки принять, но я ничего, стерплю.
– Даже от хорошей невесты откажешься? – любопытствуя, не отставал Чекан. – От такой, что вместе с тобой хоть на край света пойдет?
– Какую мне надо, ту родители не признают. Он имени не назвал.
– А я знаю ее! – засмеялся Чекан. – Это Катька Панова.
Еще осенью как-то при ранних сумерках Чекан встречал их в глухом переулке. Они жались за угол амбара, держась за руки. Одетая в шерстяной пониток, плотно облегающий ее тонкую фигурку, в легком полушалке, сдвинутом на затылок (целовались, наверно), Катька сразу запомнилась.
– Так что же: девушку любишь, а в комсомол не зовешь и даже на вечер танцев в клуб не приводишь? – упрекнул Чекан.
– Ха! – усмехнулся Серега. – Катьку уговорить почти невозможно, а попробуй-ко ее мать, Василису, убедить? Она такого задаст.
– А если мы с тобой вместе возьмемся!
– Дома, что ли, у нее побывать? Не получится. Вытурит Василиса!
– На посиделки сходим. Катька бывает там?
– Еще бы! Теперь зима, только на вечерках встретиться можно. В нашем околотке они собираются у Дарьи в избе. После Согрина никто ее в работницы не берет, так она уговорилась с девками, те ей за беспокойство понемножку платят: то яичками, то зерном, чего удается из дому взять.
– Так пойдем!
– Нельзя! – решительно отрезал Серега. – Мы с предрассудками боремся. Если я соблазнюсь, а мои ребята узнают, так уважать перестанут…
Сама же Катька Панова и помогла побывать на вечерке. Опять она кружила парню голову, стоя с ним в обнимку за тем же углом амбара. Серега смутился, зато Катька намеренно еще ближе прильнула к нему и стрельнула взглядом. Глаза у нее оказались крупные, под длинными ресницами, с тронутыми сиреневым светом зрачками.
– Матери скажу про тебя! – шутливо пригрозил пальцем Чекан. – Выпусти парня…
– А вот и не отпущу, – смело сказала Катька. – Позавидуй!
– Мне уж давно завидно.
– Обзаведись! На тебя любая посмотрит. К нам на вечерки пришел бы.
– Серега не ведет, сам дороги не знаю, – все в том же шутливом тоне ответил Чекан. – Боится он: тебя у него отобью!
– Ну, уж нет! – звонко засмеялась Катька. – Его я даже на десяток таких, вроде тебя, не сменяю! Ты, может, хороший, а он лучше всех. Только плохо мне с ним. Вот так по-за углам видимся. На вечерках все девки с парнями, одна я, как солдатка. Сговори его, а я тебе за то кисет кружевной подарю! И приходите! Да с гармонью. Бают, ты на гармошке играешь всяко…
На вечерки в избу Дарьи Серега все-таки не решился, отрядив для охраны Чекана Афоньку. Добродушный верзила, кудлатый, всегда при любом морозе с открытой грудью. Афонька был верным товарищем.
Проявление всякой безнравственности в деревенском быту было для Чекана уже не в диковинку. И о вечерках, где парни и девки проводили долгие зимние ночи, он также был немало наслышан. А все-таки первобытная дикость, немыслимая обнаженность любви, животная страсть его поразили.
Покосившаяся изба Дарьи, без ограды, с одним приткнутым сбоку сараем для коровы, стояла между сугробами, на отшибе от других дворов.
Возле крыльца двое пьяных парней драли друг друга за волосы, еще двое ломились в сенцы, бухая в закрытую дверь здоровенным поленом.
Афонька разогнал их и давнул дверь плечом. В сенцах и в избе ему снова пришлось применить силу, чтобы протолкаться вперед и провести за собой избача.
На божнице, в переднем углу, рядом с темной иконой, слабо светилось желтое пламя керосиновой лампы без стекла.
В полутьме вдоль лавки сидели девки в оборчатых юбках и кофтах, пряли пряжу и пели во весь голос, успевая наматывать крученые нити на веретена и отвечать на поцелуи своих парней. Под божницей мясистая девка легонько повизгивала, подергивая плечами. У нее на коленях торчал потный ухажер.
Запевала Катька. Голос у нее, густой, на низких нотах, звучал раздольно, перешибая гогот парней, матерщину, посвистыванья, топот ног. Девки подхватывали ее частушки, насмехались:
Я вечер вечеровала
С миленьким за уголком.
Напиталась моя душенька
Вином и табаком.
А парни вступали вслед за ними и похвалялись:
Я ли, я ли не работал!
Я ли не старался!
За работу тятька бил,
За гульбу гармонь купил.
Рядом с Катькой Чекан приметил очень красивую чернявую девушку. Со своими подругами была она не схожа ни в чем. Сидела без прялки, молча грызла семечки и как будто даже не замечала, как сын лавочника Алеха Ергашов ладился к ней, пытаясь обнять.
Афонька вытолкал Чекана наперед себя, подперев спиной жаркую толпу парней, которая еще только жаждала любовных утех.
– А, пришел-таки! – обрадовалась Катька и начала отпихивать Алеху, чтобы усадить Чекана между собой, и подругой. – Серегу-то пошто не привел?
– Стесняется, – усмехнулся Чекан.
– Не хочет!
– Значит, не хочет.
– Вот богу не молитесь, а вера в вас есть. И что это такая вера негодная – вечерок чураться? Зато тут шляются…
Она повернулась вбок и пихнула Алеху обеими руками в грудь.
– Брысь же ты, шалопутный!
И сказала подруге:
– Аганька, дай ему по губам, скорее отстанет! Ишь, кот! Только и знает лизать сметану из чужого горшка!
В избе вдруг стало тихо. Потный, очумелый ухажер сполз с девичьих коленей, заозирался. Его девка спешно поправила кофту, наполовину расстегнутую. С печи, поверх матицы, выглянула сама Дарья, дремавшая там в тепле.
Чекан сообразил: это его появление встревожило всех. «Гликось, избач тута!» – зашептались девки. «Разгонять, наверно, явился!» – тихо произнес кто-то из парней. «А пусть спробует разогнать!» – погрозился другой.
– Эй, что там за шепотки про избача? – спросил Чекан, приподнимаясь со скамейки и вглядываясь в настороженные лица. – Или уж попросту нельзя заходить?
– Так ты же партейный! – мощно прогудела с печи Дарья. – От того и смутно. Вся тутошняя головка без заделья во двор пяткой не ступит.
– Значит, и я имею заделье.
Чекан ответил весело, добродушно, а Катька снова усадила его рядом и отчеканила во весь голос:
– Дарья, ты в кем не сумлевайся! Он подобру здеся. Я его позвала. А вы, девки, перестаньте-ко пялиться! Избач смирный. Но ты пошто, избач, без гармони?
– На квартиру зайти не успел, – соврал Чекан, – рассчитывал от ваших гармонистов попользоваться. Эй, Алеха, дай твою гармонь на часок.
– Катись прочь! – ругнулся тот, привыкший кобениться перед девками и парнями.
– Так ты тоже катись! – яро оборвала его Катька. – Не надейся, здеся тебе не поддует ни с какой стороны.
– Не шуми, конопатая! – приосанился Алеха, вздернув редкие усики.
– Я конопатая? Ах ты!
Катька огрела его по голове веретеном, девки зашумели, парни их поддержали – обзывать девушку, даже если она полезла в драку, не полагалось.
Ой, пимы мои, пимы!
Рваны голенищи.
Отгуляли богачи —
Загуляли нищи!
Катька, притопывая, пропела эту частушку прямо в лицо Алехи, все вокруг него засмеялись, он попятился под полати.
– Очень жаль, – огорчился Чекан. – Не захватил гармошку. Поплясали бы.
– Мы и без нее обойдемся, – задорно отозвалась Катька. – Аганя, бери гостя себе в кавалеры, покажем ему нашу «Ланцею»…
Этот стародавний танец, вихревой, вроде кадрили, исполнять в тесноте было немыслимо, но она схватила от устья печи железную заслонку и ударила по ней всей пятерней.
Звон заслонки в ритме, в стремительном беге всколыхнул примолкших вечерошников: послышалось сначала легкое притопывание каблуками, потом все громче и громче, наконец девки бросили прялки, отдались во власть парней и те, почти не сходя с места, ударились с ними в пляс.
Подруга Катьки тоже встала с лавки, протянула руку Чекану.
– Пошли!
Плясала девушка очень легко, чуть склоняя голову, и только вздрогнула, когда он нечаянно наступил ей на ногу.
– Извини, – произнес мягко Чекан.
– Ладно, – согласилась она. – Не больно ведь!
– А у тебя хорошее имя: Аганя!
– Агафья! Чего в нем хорошего! Так поп назвал.
Шаркание и стук каблуков, звон заслонки, самозабвенность танцоров продолжали нарастать, вся изба ходила ходуном. Чтобы слышать Аганю, Чекан наклонился к ней ближе. На него напахнуло вдруг вместе с ее дыханием ароматом свежего хлеба, парного молока и еще чем-то удивительно близким, как прибранной к празднику горницей в доме Лукерьи.
Даже не подумав, дурно это или хорошо, он чмокнул губами Аганину щеку и хотел повторить, но лампа на божнице погасла, столпотворенье мгновенно стихло.
– Не надо! – строго прошептала Аганя из темноты. – Не балуйся, ты нам не ровня…
Чекан ни одного слова в ответ произнести не успел, кто-то ловко и очень сильно ударил его кулаком в бок. И тотчас же где-то почти рядом озлобленно зарычал Афонька, распахнулась дверь, началась свалка, затем взревела гармонь, выброшенная на крыльцо. Группа парней вместе с Алехой ушла от двора. В избе сразу стало просторнее и свежее. Катька залезла на лавку и вздула лампу. Девки снова уселись с прялками. Агани среди них уже не было.
– Ей пора быть дома, – объяснила с большим сочувствием Катька. – Проживает-то не у отца с матерью, а у чужого дяди. Евтей Лукич шибко характером крутой. Никуда со двора ходить не велит. Тайком да молчком, покуда хозяина дома нету, прибегает она к нам на вечерки.
– У Евтея в батрачках живет?
– Кабы в батрачках, а то робит бесплатно…
У Афоньки под правым глазом засветился большой синяк.
Поглядев на него, Чекан засмеялся.
– И тебе влетело?
– А ништо! – ответил тот равнодушно. – У нас всяко бывает.
Катька вышла во двор проводить Чекана и попросила приходить еще. Без шубенки, в больших валенках, надетых на босу ногу, казалась она совсем девчонкой.
– И приводи Серегу с собой, – напомнила, зябко поводя плечами. – Если тебе можно, то отчего же ему нельзя? Ведь все равно караулит меня каждую ночь, ждет, покуда я с вечерок домой пойду. – В ее низком, не по росту голосе, зазвучало негодование. – Вот и сейчас, наверно, где-то вблизи хоронится. Афоня, иди, взгляни за зародчиком сена…
– Он там, – подтвердил Афонька, ранее предупрежденный Серегой. – И не один. Мало ли какая кутерьма могла здесь случиться.
– А в избу, небось, не зашел, – совсем горестно вздохнула Катька. – Ну, скажи, избач, как мне дальше с ним поступить? Не бросать же…
– Не бросать, – поддержал Чекан. – Но и со мной не надо обходиться так: избач да избач! Называла бы просто Федей или уж, на худой конец, Федором, поскольку я постарше тебя лет на семь.
– Неловко! Ты все же неровня нам, деревенским.
– Как же мне ровней стать?
«Неровня» – вот еще проблема, которой он совсем не предвидел.
16
После вечерки ушибленный бок всю ночь беспокоил. В горнице было холодновато, Лукерья только затопила большую русскую печь. В заиндевелое окно пробивался ранний матово-блеклый свет.
Накинув поверх тонкого одеяла полушубок, Чекан укрылся с головой и попытался снова уснуть. А вместо сна привиделись с детства родные улицы города, каменный мост в Заречье, тополя на острове в излучине реки, березовый сад на взгорье и станционное депо, где на путях, в клубах пара и дыма стоят пыхтящие паровозы, готовые к выезду. Он обрадовался им и подумал, что, вероятно, всякому человеку, если в нем сохранилась хоть капелька настоящей, не испорченной крови, навсегда остается памятным, облюбованным и желанным то место, откуда начались его первые радости и страдания. Затем отчетливо представились вчерашние танцы в избе Дарьи, склоненная, повязанная платком голова Агани, и снова, как на вечерке, нанесло ароматом свежего хлеба…
– Фе-едор! – позвала Лукерья, открывая дверь горницы. – Вставай свежие шаньги кушать!
– Вот не вовремя, – сказал он, поворачиваясь на другой бок. – А мне такое приснилось…
– Завтра досмотришь! Шаньги могут остыть.
– Пусть остывают.
– Все равно надо вставать, – решительно сказала Лукерья. – Давеча посыльный Аким прибегал, велел тебе в Совет поспешить.
– Случилось чего-нибудь?
– У Дарьи после вечерок кто-то окна повыхлестал.
– Алеха Ергашов, наверно.
– Дарья на него и грешит. Это все из-за девок. Ну, тебя-то зачем туда заносило?
Все про всех знала Лукерья. Чекан часто заставал у нее девок и баб. По знахарству и ворожбе в Малом Броде ей не было равных. В чулане на жерди висели травы от «сухоты и ломоты», от «плохих снов и видений», от «измен и мужеских немощей», а в памяти старухи хранилось великое множество нашептываний, заклинаний, наговоров.
– Ну, что же, пойду объясняться, – подымаясь с постели, неохотно сказал Чекан.
Пурга густо сыпала и крутила по улицам пухлые хлопья снега.
Однообразно, безлюдно вокруг. И тихо. Даже слышно, как шумит закрученный ветром снег.
Заснеженные фасады домов стали наряднее, светлее и будто щурились на прохожего: не подойдет ли, не постучит ли в окошко?
Это наружное добродушие было обманчиво. Постучись-ка, попробуй, и сразу донесется из ограды остервенелый лай цепного пса, грубый окрик хозяина: «Чего надо опять?»
Поравнявшись с двором Согрина, Чекан увидел вышедшего оттуда Кузьму Холякова. Если бы тот, как обычно, попросту повел себя, Чекан не остановил бы на нем свой взгляд и прошел бы дальше. Но Холяков отшатнулся, сделал шаг назад, затем пошел навстречу медленно, как бы увязнув ногами в сугробе, а чтобы согнать с лица растерянность, сдвинул шапку к затылку, ощерил зубы в улыбке.
– Раненько куда-то направляешься, Федор Тимофеич? – спросил, подходя вплотную. – И меня вот тоже нужда-то гонит ни свет ни заря заниматься делами.
Чекан не принял его оживленного тона.
– Какая же у тебя нужда к кулаку? Может быть, дружбу заводишь?
– Как бы ты поступил? – взглянул Холяков. – Завтра надо в город за товаром подводы отправлять. Ведь сам же указываешь: в потребительской лавке того нету, другого нету, а у Ергашова есть! При таком положении разве отобьешь к себе покупателей, выдержишь конкуренцию с частным капиталом? А пошто так? Пото, что частный торговец в город гоняет за товаром по два-три раза в неделю, покамест мы собираемся да налаживаемся. У меня же в потребиловке своих коней нет. Волей-неволей приходится со стороны нанимать. Та же нужда-неволя и заставляет к богатым идти на поклон. Я, конечно, сознаю, – непорядок это, вроде не по-партейному, но уж лучше пусть меня партейцы побьют, чем стану я срывать доставку товаров.
– А у бедняков и середняков кони разве повывелись? – не намереваясь давать спуску, спросил Чекан.
– Конь коню рознь! – с ударением произнес Холяков. – Я в прошлый раз Михайлу Суркова сколько упрашивал: поезжай-де, Михайло, все же хоть и не высокий, но заработок. И ни в какую не договорился. Боится, что на своем коне, с возом-то, в первом же сугробе завязнет. Вдобавок, каждый мужик хочет коня приберечь к вёшне, чтобы не сидеть пото́м, не горевать в борозде. А у богатых кони справные. Вот Прокопий-то Екимыч сам, безо всякой просьбы предложил услуги: «Давай-де подряжусь на поездку и дорого не запрошу!»
– А ты «благодетелю» сразу обрадовался? – иронически заметил Чекан.
– Если нельзя, так могу отказать!
Холяков подошел ближе, и от него нанесло перегаром самогона.
– Как откажешь, если уже успел договор «обмыть»? – строго спросил Чекан.
– Есть маленько, – не смутился Холяков. – По обычаю.
– Сегодня рюмка с кулаком по обычаю, завтра еще повод найдется, а дальше покатишься сам, вплоть до измены партийному долгу, – сурово предупредил Чекан, отворачиваясь и уходя прочь. – Придется все же на очередном партсобрании потребовать с тебя объяснение!
– Ну, мне теперь что в лоб, что по лбу, – тихо сказал про себя Холяков, оставшись один на дороге. – Иного выхода нету…
Обернулся бы он в этот момент назад, наверно, приметил бы выглянувшего в окно горницы Согрина.
Не зря тот подглядывал, не ради пустого любопытства. Все-таки вначале поддался соблазну иметь «длинное ухо», всегда знать, чем занимаются партячейка и сельсовет, и не оттолкнул Холякова от себя, а доверился ему кое в чем, очень малом. Убедиться, на самом ли деле тот допустил растрату денег, не удалось. То могла доказать лишь ревизия, а ее жди-пожди, когда она соберется. Поэтому с деньгами для погашения растраты пока не спешил: пусть немного побудет Холяков на коротких вожжах! Между тем держать Барышева в бездействии, пока он совсем не скис, не было смысла, как держать зажженную спичку у костра и не поджечь бересту. Если уж на кострище все приготовлено, так разводи огонь и вари кашу, не то станешь жевать черствый хлеб всухомятку. Осторожно рискнул: подослал Холякова к Евтею Окуневу, дескать, тот скорей раскошелится и намерен-де, для каких-то своих целей, взамен попросить услуги. С Окуневым было точно условлено, как использовать Холякова, но когда Евтей Лукич попросил побывать в Калмацком и навести справку, что предпринимается насчет пожаров на полях и разгрома обоза, не намерена ли, мол, милиция всю ответственность взвалить на богатых хозяев села, обвинить кого-то несправедливо, вместо того, чтобы найти настоящих виновников, Холяков вдруг заспорил: не желаю, дескать, никаких неясных поручений! А Евтей при этом переусердствовал, сдуру обмолвился про Барышева, хотя не назвал, где тот находится. Сказанное слово назад не воротишь. Очевидно, догадался Холяков, что неспроста объявился Барышев, но виду не подал, а спросил лишь, почему же он к жене не зашел, не проведал ее? Потом в Калмацкое съездил и сообщил Окуневу: шумок-де в районе еще не заглох, а все там в недоумении, что следов ничьих не могут найти. Иных подробностей не добыл. Целый вечер его сообщение обдумывал Согрин вместе с Окуневым, а лучшего выхода не нашел, как обезопасить себя и уже без помощи Холякова довершить все задуманное. Не испугался. Огород ведь страхом не огородишь. Зато, как в поговорке сказано: «У хорошего мужа и плохая жена верно служит!» Предупредил Окунева: «Своими силами обойдемся. Больше Холякову никаких поручений не давай, ни о чем не проси. Но если еще спрашивать про Барышева вздумает, чем-нибудь отвлеки, вплоть до того, что бандит, мол, он и нам свои услуги предлагал, просил от нас денег и поддержки, а мы ему отказали, потому что свои головы нам дороже и никаких сделок с ним не желаем. Вот так!» Что Барышев? Какую еще ценность он мог представлять? Дохляк-то! И ничуть его не было жалко, только бы в последний момент не сдал и сослужил последнюю службу! Поэтому и пришлось с Евтеем Окуневым строго договориться: «Барышева надежно спрячь, следи за каждым его появлением. По одиночке ли, сразу ли всех партейцев он постреляет, но чтобы сделано было это в одну ночь, а потом и самому ему пулю в лоб. Не медли. Если Холяков вдруг окажется не тем, за кого себя выдает, и стукнет в милицию про Барышева, надо успеть все сделать.
Не легко такое далось. Торжествовать бы надо: вот подвел всех ненавистных к последней черте, можно руки умыть и считать, что расчет получен сполна. А от ожидания, что ли, навалилось тяжкое беспокойство. Не сорвалось бы. Самому не попасть бы. Несомненно, Окунев хоть и ярый дурак, а сообразит и, прикончив Барышева, тоже сумеет за собой следы замести, но ведь даже за одного Гурлева милиция перетрясет все село, и, как знать, до чего она уже доискалась. В такую пору надо быть как можно подальше. И решил: «Поеду пока в город, прошение свое увезу, а попутно наймусь в потребиловку товары доставить». И не стал дело откладывать. Зазвал утром Холякова к себе, уговорил нанять, затем скрепил договор стаканчиком самогона. Тот сначала отказывался: нельзя-де, Гурлев за спиртное не жалует, выговор влепит, но все же принял. А выпив самогонки, снова кинул крючок: «Что-то темните вы со мной, Прокопий Екимыч? С Барышевым-то непонятно! Или меня боитесь? Неладно так получается: вы меня, а я боюсь вас, как бы мою растрату не выдали?» Но теперь ему уже твердо ответил: «Ничего про Барышева не знаю и знать не хочу. Чего тебе сказывал про него Евтей Лукич, то пусть сам пояснит. У меня интересов нету». А проводив Холякова за ворота, все же подсмотрел из окна горницы, как он встретился на дороге с избачом, как разговаривал. Не одобрял тот, очевидно, Холякова, если запах самогонки учуял…
Беспокойство весь день томило, скреблось внутри, и ради успокоения собрался Согрин к вечерней службе. Немноголюдно было в церкви. Ни одного мужика, только старики и старухи. Выбрал себе место в стороне от алтаря, перед образом Христа-спасителя, идущего по облакам. С алтаря отец Николай под унылое пение псалма дымил кадилом, а тут было тихо и горела всего лишь одна свечка, кидая неверный свет на позолоту рамы и на голые ступни божьего сына. «Господи Исусе Христе, – слегка перекрестившись, мысленно обратился к нему с покаянием, – ты меня заранее прости! Не могу иначе! Не за простую обиду беру грех на себя, но возместить хочу за крушение старых порядков, за ущемления богатству! Не ты ли учил в Евангелии: «Кто-то сеял, а я жну!» Я выхожу жать, а меня с поля того прогоняют, дескать, это мы сеяли, и это все наше! Но ты не помог и ненависть к моим врагам оставил со мной. Она же меня печет, но и гибели своей я не хочу!»
Голые ступни спасителя с ногтями синими отвращали уродливостью, напоминая больные ноги Аграфены Митревны. Искреннего, чисто душевного общения с божьим сыном не получалось, и Согрин, брезгливо поморщившись, упрекнул: «Э-эх, ты-ы, намалеванный! Не зря про тебя сказано: «На бога надейся, а сам не плошай!» С того и приходится брать на себя грех, самому нести тяжесть, коли ты беспомощен и бессилен. Не обессудь за это, господи Исусе!»
Попятившись назад от иконы, чтобы неприметно выйти из церкви, нечаянно столкнулся с Ульяной. Она стояла на коленях и молилась, подняв кверху скорбное, улитое слезами лицо. Значит, донеслось-таки до нее с брехливого языка Горбунова, испугалась появления законного мужа. Но вместо злорадства вдруг посочувствовал: «За что ее так? Не виновата ведь! Мужики дерутся, в баб попадает. А сколько еще будет слез впереди!»
Мимолетным оказалось это сочувствие. Только вышел на паперть, снегопаду навстречу, как пропало оно, зато снова навалилась тревога и какая-то безнадежность. Все, что предстояло завтра, и послезавтра, и в последующее время, вдруг утратило ясность и смысл. Мелки и ничтожны замыслы, бесплодны усилия перед этаким широким, необъятным миром, а сам он, как любая из мечущихся в круговороте снежинок, в конце концов упадет на землю и станет ничем. Такую расслабленность вызвал, очевидно, свет в окнах школы, толпа мужиков у ее ворот, явившихся к учителю на уроки ликбеза.
«Ну, нечего, нечего по-бабьи в душе копаться, – подбодрил себя Согрин. – Мир пусть живет, здравствует, лишь бы Гурлев со своими партейцами сгинул из него на веки веков! Как жить дальше, потом станет видно!»…
У себя во дворе он еще раз осмотрел упряжь и сани, заглянул в конюшню – хорошо ли на ночь задано сено коням? – потом взял в кладовой новый тулуп и отнес его в дом, чтобы утром не тратить зря время.
Аграфена Митревна еще не накрывала стол, дожидаясь хозяина.
– Давай! – приказал Согрин, забрасывая тулуп на полати.
Поужинали молча. Соблюдая превосходство, мало разговаривал со своим семейством. Не грубил, не колотил, но и ласковым словом не баловал. Один на один остался с бабами: жена да дочь. Жена страдала отеками: тело, как тесто. А дочь Ксения заведомо бросовая. Ни рожи, ни кожи! Кто на нее позарится? Экая тощая, как щепа на двух палках! Волосешки на голове редкие и патлатые. Да ведь не бросишь ее, коли бог ей смерти не дал! Так и приходится нести этот крест, без всякой надежды на облегчение.
Спать с женой на перине не пошел. Раздеваясь, Аграфена Митревна оголила ноги, уродливые, с синими ногтями, как на иконе у Христа-спасителя. Перемогая отвращение, улегся в кухне на полатях.








