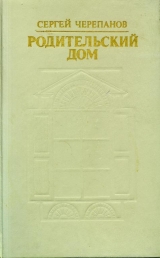
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
– Как же я Павла Иваныча в заозерье найду?
– С любой попутной машиной поезжай туда. Крытый ток совсем неподалеку от дороги.
– Пожалуй, съезжу, – согласился Чекан. – Лично договорюсь. С проектом можно пока обождать, тем более, что мне надо в нем еще кое-какие детали продумать…
8
Дорога в заозерье от околицы Малого Брода серпом загибалась по береговому угору, миновала заросшие камышами болотца, где на узких плесах кормились выводки черных гагар. Дальше начинались покосы и поставленные на них стога свежего сена. В косых лучах солнца, уже низко склонившегося к западу, островки березовых лесов хранили сторожкое молчание. Еле приметно качались налитые колосья пшеницы, обступившей дорогу с обеих сторон. А ветер внезапно стих, затаившись где-то.
– Гроза будет, – сказал шофер как о чем-то привычном.
Крытый ток Федор Тимофеевич увидел издали. Длинный навес, куда свободно могла въехать любая грузовая машина, был сделан добротно: на кровле шифер, по бокам проемы для свободной циркуляции воздуха. Под таким зонтом зерно в любой дождь не намокнет. И, глядя на него, нельзя было не согласиться с хозяйским расчетом Гурлева: за год-два окупится это сооружение сохраненным от порчи зерном! Да и сами колхозники перестанут горестно вздыхать и хмуриться при виде набегающей тучки. Не приснился Гурлеву однажды ток под крышей, не случайная мысль запала в голову, а многие годы, сначала с риском для жизни добывая хлеб государству, затем выращивая его на колхозных полях, знал он цену каждому зернышку и труду хлебороба.
Шофер остановил машину, и Федор Тимофеевич пешком прошел чахлый лужок. С другой стороны, прямо через сжатое поле, подъехал на своем старом «газике» Гурлев. На току, под крышей, были уже насыпаны большие бурты ячменя, неподалеку стоял передвижной стан на резиновых скатах, горел костер, у которого хлопотала повариха, а под навесом веселились школьники, помогавшие разгружать урожай.
Прихватив из бурта горсть зерна, почти янтарного, Павел Иванович пересыпал его с ладони на ладонь, с наслаждением понюхал.
– Ай, молодцы ребята! – похвалил он комбайнеров. – Увели все же ячмень от ненастья. Осталось гектаров пять. К ночи закончат, если непогода к той поре не ударит…
– Затишье к грозе? – спросил Чекан.
– Природа сама регулирует. Обрати внимание, как притаилось, примолкло вокруг. Лес ждет. Поля Ждут. Птицы спрятались, Комарье и то пропало в траве. Хорошо бы успеть управиться…
Вид у него не усталый, хотя лицо и пиджак в пыли, на брюках полно череды и репейника, колени в мазуте.
– А ты чего, Федор Тимофеич, приехал сюда? – вдруг встревоженно обернулся он. – Ничего не случилось?
– Все нормально, – успокоил Чекан. – Дай мне еще посидеть над проектом. Подумать. Поискать.
– Володька чего-нибудь наговорил?
– И Володька, и старики, и самому мысли пришли. К концу уборочной, когда вы полностью на полях управитесь, снова приеду, и тогда соберем людей.
– Я не против, – кивнул Гурлев. – Лишь бы закладку Дома культуры не задержать.
– На день не задержим.
– По новостройкам Володьке замечания оставил?
– Немного поспорили. Не нравится ему покупной кирпич.
– Чего дают, то и бери! – ворчливо сказал Гурлев. – Выбирать не приходится. Чуть не половину битого привозим. Давнешь – ломается. Но и свой кирпичный заводик, как предлагает Володька, тоже сядет на шею…
– Поиск не повредит. Может, как-то удастся решить проблему.
Гурлев помолчал, потолкал концом сапога валявшийся на земле сучок.
– А чем он занялся, когда ты сюда поехал?
– Отпросился личные дела довершать, – улыбнулся Чекан. – Ты ведь согласие дал?
– Меня бы не вынудили. Сын или не сын, – все равно не уступил бы я. У самого внутри не стало протеста. Вот этак сегодня целый день, как свободная минута выпадет, думаю: не грешу ли перед совестью, не топчу ли себя? Нет, не грешу! Танька-то не лучше сироты. А как же сироту совсем обездолить. Может, она пуще Володьки в привете нуждается. Да вот и Митька Холяков из ума не идет. Любит замужнюю, та чего-то колеблется, так и мучаются оба. Моя бы воля, женил бы парня на этой вон поварихе, у которой Митька тоже один свет в окошке. – И, подойдя ближе к костру, строго спросил девушку, в белом платке: – Катерина! Почему не едешь мужиков кормить? Давай попроворнее собирайся, не то дождь хлынет, оставишь голодными.
– Сейчас поеду, с первой же машиной…
– Ну, давай, двигай! Да звон уже и машина есть на подходе. Сейчас ребятишки быстренько ее разгрузят, а ты забирай свой термос и посуду, не теряй ни минуты!
С тока стрекот комбайнов слышится отчетливо, вламывается в уши, словно из-за ближнего, окруженного жнивьем березняка. Но до них далеко. Километра два. Черными, игрушечными кажутся они отсюда, медленно ползающими у горизонта. Заметив обращенный туда взгляд Чекана, Павел Иванович полюбопытствовал:
– Тебе, кроме комбайнов, еще что-нибудь видится?
– Привычный пейзаж: леса, жнивье, машины и горизонт, а над ним темнеющее небо…
– А я вот привыкнуть никак не могу. Иной раз прикрою глаза и оживает вдруг передо мной другая картина: хлебное поле, чахлое, согнув спины, жнут серпами и вяжут пшеницу в снопы Иван Добрынин и его Акулина, оба босые, оба хворые. Что ни сноп, то слезы и стон. И Гаврилка ихний, теперешний наш агроном, а в ту пору еще малолеток, тоже босой, в драной рубахе, вместе с родителями мается.
– Если бы мы не умели сопоставлять сегодняшнюю нашу жизнь с пережитым прежде, так не оценили бы по достоинству все, что имеем сейчас. Тебе как председателю колхоза, наверно, приходится очень трудно…
– Легкой жизни я не искал.
– А бываешь ли ты доволен? Не надоело ли?
– Надоесть может безделье да работа, которую без желания справляешь! А я представить не могу, чем бы стал жить, с какого краю на жизнь смотреть, если бы отстранился? Начальник районного управления Зубарь мне уже предлагал: «Слазь с коня!» Характеры у нас с ним не сошлись. Не понять нам друг друга. Но и это меня особенно не волнует. За три десятка лет довелось всяких начальников повидать. И этот посидит да снимется с места. Мне отсюда двигаться некуда. Как той старой березе. У нее корни пущены в землю широко и глубоко, переплелись с корнями других берез; попробуй-ка выкопай ее, пересади в другую среду – за одну вёшну зачахнет. Тут бури гнут, осенние ветры и дожди хлещут нещадно, но, опять же, для нее жизнь такая привычная, а покой где-то под крышей, в затишке станет немилым. Ну, а насчет другого вопроса – доволен ли я?
– Давай уж на полную откровенность, – сказал Чекан. – Как есть!
– Мне перед тобой, Федор Тимофеич, нет нужды рисоваться. Я сам лишь недавно понял, отчего это так получается: ругают, требуют, а ничуть не обидно? Не равнодушие ли? Не возомнил ли я о себе? Понял, когда телевизор купил. Сижу однажды вечером дома, пью за столом чай, смотрю передачи из Москвы. И вдруг вздумалось: ведь это же удивительная вещь, великое достижение человеческого ума, но почему же не испытываю я в себе удивления? Будто уж лет сто телевизором пользуюсь! И сколько еще такого появилось в нашей жизни: всякая техника, телефон, радио, личные автомобили – все это перестало людей удивлять. А вот в прошлом году, на отчетно-выборном колхозном собрании хотел для показа нынешнего уровня экономики хозяйства статистикой поблистать. Вместе с бухгалтером целую неделю архивную пыль глотал, пока составил таблицы. При частном владении, в двадцать восьмом году, когда ты был откомандирован на должность избача, приходилось на каждого жителя Малого Брода в среднем одна четвертушка коровы, восьмая часть лошади, одна треть десятины посевов! Скудные цифры. А вот что получилось за прошлый год в том же расчете: три коровы, свыше двадцати лошадиных сил и восемь гектаров посевов! Включил я все эти данные в отчетный доклад, а какое же они действие оказали?
– Неужели никого не тронуло?
– Пожилые люди, которые многое видели своими глазами, в ладошки слегка похлопали, да и то не все. Аким Блинов, бывший Окурыш, даже речь сказал, но как всегда не о том…
– Опять о претензиях к богу?
– На свою маломерность больше не жалуется. Заскучал, говорит. До полуночи от телевизора не отходит, а потом, надсадив голову, спать не может нормально. И вот изволь ответить: как эта хорошая, сытая жизнь и почему производит на него такое влияние? Я, конечно, ему пояснил: нельзя объедаться, иначе, мол, непременно отрыжка получится. Ну, Аким, однако, не в счет! Зато другие мужики, хоть и похлопали в ладошки, высказали мне немало справедливых упреков. Они хозяева, и, разумеется, их больше интересует не статистика, не то, как было и стало, а что есть сейчас и что дальше будет! Я позднее все это обдумал: почему же удивительное стало не удивительным?
– Вернее, обычным, Павел Иваныч!
– Пожалуй, именно обычным. Всего стало много. Помнится, летом двадцать восьмого года, когда первый колесный тракторишко появился у нас в Малом Броде, так все население высыпало на улицы его смотреть. А сейчас ни один малец в окошко не выглянет, если слышит, как по большаку проходит целая колонна гусеничных тракторов или отряд комбайнов. Впрочем, если вглядеться, то в сознании обычности есть и свое отрицание: этакая душевная беззаботность. Мы-де стали зажиточными, так не к чему крохоборствовать! Есть у нас такие молодцы, бережливость для них как обуза. Один по небрежности машину сломал, другой зерно на дорогу просыпал, третий без нужды дерево срубил. Ему палка понадобилась, так он целое дерево валит. И не смей за то строгача давать. Принимает в обиду. Дескать, невелика убыль. А ведь мы поднялись пока только на первые ступеньки к богатству. Имея много, вовсе не значит, что можно сорить направо-налево. И вот потому-то на твой вопрос приходится отвечать двояко: радуюсь, но и частенько досадую! Так бывало, когда мой Володька еще в подростках ходил. Купим ему новую рубаху и штаны, сначала все по росту, по мерке, а чуть погодя, он из них вырастает: рубаха в плечах трещит, штаны на ноги не лезут! Приятно видеть: взрослеет сын! Досадно: еще не сношенную одежду приходится заменять. Это я к тому пример привожу, что довольствоваться достигнутым никак невозможно. Удивляться надо, иначе заскучать можно, вроде Акима, но довольствоваться нельзя…
Не окончив мысли, Гурлев погрозил пальцем и крикнул расшалившимся на току школьникам:
– Эй, воробьи! Кончайте в зерне купаться! Идите ужинать!
Повариха оставила у костра почти половину казана пшенной каши с мелко изрубленным мясом. Ребятишки со свойственной им живостью быстро ее поделили.
– Не всю, не всю выскребайте, – предупредил Гурлев. – Оставьте немного нам. – И спросил: – Не откажешься от полевой еды, Федор Тимофеич?
– Давай!
Тонкий дымок костра, запах березовой листвы и разнотравья, смешанные с ароматом брошенных на приступок вагончика свежих груздей и ячменного зерна на току, а также шумливые ребятишки, аппетитно уплетающие кашу, – это был тот милый мир, в котором Чекану теперь приходилось редко бывать.
– Давай! – повторил он охотно. – И мне пора уезжать…
– Гроза уже близко, – пробежав по вечереющему небу глазами, сказал Павел Иванович. – Я тебя отсюда в село сам доставлю, а там решим, сможешь ли дальше ехать.
Взгляд его опустился ниже, на поля, и вдруг он встревожился, приложил широкую ладонь к бровям.
– Один комбайн остановился! Неужели поломка? Как назло все не в пору…
Чекан тоже посмотрел туда. В просвете между двумя островками леса комбайн показался подбитой птицей, упавшей на землю и приподнявшей крыло. За ней заволоченное тучей небо, а сама она осыпана багряным светом последних отражений зари.
– У Митьки Холякова что-то случилось? – проворчал недовольно Павел Иванович. – Ну да, у него! Он тут работает. Давай-ка, Федор Тимофеич, сгоняем туда…
По пути к комбайнам он еще раз оглядел небо, качнул головой, нахмурился.
– Не успеть все прибрать! На колени бы встал перед ненастьем, низко бы поклонился: обожди еще малость, зацепи пока тучи в горах! А не послушает ведь. Вечный у нас спор с погодой.
По давней кавалерийской привычке к быстрой езде, вел Гурлев свой «газик» круто, не сбавляя скорости. Очень скучно и пусто стало на сжатых полосах, как в квартире, где еще вчера толпилось полно жильцов, а теперь они все выехали из нее, оставив открытыми окна и двери. Свободно ярился на просторе снова начавшийся ветер, задирая копешки обмолоченной соломы, разбросанные по жнивью, и вершинки кустарников.
Не из-за поломки остановился комбайн. Сам Митька, не докончив работы, умчался на своем мотоцикле в село. Вместо него остался возле заглохшей машины агроном Добрынин. Встретил он Гурлева улыбаясь.
– Ничего я с ним сделать не мог, Павел Иваныч! Дмитрий задание перевыполнил и убрал бы остаток ячменя, не появись тут Николай Саломатов…
Лицо Гурлева сделалось злым.
– А Кольку с какой стати сюда занесло?
– Так они же друзья. Николай проезжал тут с полчаса назад на дальний выпас за вечерним удоем молока и попутно подкинул Митьке новость не очень приятную: за Веркой-то, оказывается, ее муж приезжал днем на такси. Увез. Я говорил Митьке: Верку теперь уже не догнать, да ведь и не яблоко же он станет делить с ее мужем! Не повлиял.
– Приказал бы! Ты же и по партийной линии мог на него воздействовать.
– А ты мог бы по любой линии своего Володьку остановить, когда пришла ему пора на Татьяне жениться? Николай же рассказывал тут: твои молодые днем зарегистрировали брак, и Танька уже перебралась к вам.
– Не без моего ведома сделано! – продолжая сердиться, отрезал Гурлев. – У Володьки стройка, а здесь хлеб!
– Трудно оценить, кому что дороже? А кроме того, я уже и остальным комбайнерам дал сигнал вместе с шоферами возвращаться на стан. Пора. Не то буря застанет…
– Да, пожалуй, пора! – согласился Павел Иванович.
Последние блики вечерней зари сорвало ветром с вершин берез. Мрак начал быстро сгущаться. Черная туча в седых космах стремительно набегала на небо, вдалеке ярко вспыхнула молния, и некоторое время спустя донесся отдаленный рокочущий гром. Посыпался редкий, но крупный и тяжелый, как град, дождь вместе с облаком пыли, поднятой тугим, порывистым ветром. Запорошило сорванными с берез листьями. Какая-то птица, опоздавшая скрыться в лесу, беспомощно упала на жнивье. Гурлев подбежал к ней, поймал и сунул к себе под пиджак. Это был малый сокол, еще не окрепший, с желтой полоской на клюве.
Добрынин сам взялся вести Митькин комбайн к стану. Чекан спрятался в «газике» от дождя и ветра, пока Гурлев, сгибаясь, пробился сквозь встречную бурю к лесу и отпустил там сокола.
Совсем стемнело. Гром грохотал прямо над головой. Молнии сверкали в потоках воды, сброшенной тучей. В «газике» под ногами стало мокро. Смотровое стекло заливало. Павел Иванович включил на полную мощность фары, но дождь лил настолько плотно, что пришлось ехать почти вслепую.
На половине пути к селу, посреди дороги, валялся брошенный мотоцикл.
– А где же сам Митька? – всполошился Павел Иванович. – Это же черт знает какие дела вытворяются!
И добавив скорости, погнал «газик» дальше. Митька шел по дороге пешком, насквозь промокший. Павел Иванович силой втолкал его на заднее сиденье машины и начал строго выговаривать:
– Ну, пойми же ты, дурной, ведь у Верки ребенок. Люб не люб муж-то, приходится ей терпеть. А если любишь, так дай же ей успокоиться, не добавляй терзаний.
Митька молчал, отвернув лицо в сторону.
– Чем тебе та же Катерина Шишова не пара? – И вдруг гневно заорал на него: – Не отмалчивайся, сопляк! Если воли нет, так по-бабьи реви, дери на башке волосы, не то, соблюдая мужское достоинство, матерись, чтобы печаль из тебя изошла! Ну!..
– Что же ты, Дмитрий Холяков, действительно, себя побороть не умеешь? – с упреком добавил Чекан. – Не похвалил бы тебя твой дед, Кузьма Саверьяныч!
Митька пошевелил рукой, сжал кулак и чуть слышно ответил:
– Все равно я своего добьюсь!
– Вот так они, нынешние-то, разговаривают со старшими, – уже без раздражения заметил Гурлев.
Парня он высадил у его дома, потребовав обещание сейчас не гнаться за Верой в город, а еще все хорошенько обдумать. Дождь продолжал хлестать по земле, тускло желтели электрические огоньки на столбах, бурно пенились в канавах потоки. На веранде в доме Гурлева свет горел ярко.
– Придется тебе, Федор Тимофеич, еще одну ночь провести у нас, – сказал Павел Иванович, подогнав «газик» вплотную к калитке. – Иди покуда с молодухой знакомься, а я на минутку еще в правление загляну, нет ли чего-нибудь срочного.
Пришел он домой не через «минутку», а через час, и снова чем-то сильно расстроенный. Увидев его хмурое лицо, Татьяна испуганно склонила голову, зато Володька весь напрягся, приготовился отстаивать свою независимость. Гурлев в кухне сбросил мокрую одежду, кинул под порог грязные сапоги и босиком отправился в спальню.
«Кажется, психологический барьер еще не разрушен, – неодобрительно поглядел ему в спину Чекан. – Неправильно, Павел Иваныч! Нехорошо!» А все-таки не верилось, будто этот всегда прямодушный человек мог оказаться неискренним. Молодожены держались настороженно. На ресницах у Татьяны блеснули слезинки. Вот так, не в уютной теплоте, не под свадебный шум и веселье начиналась их первая совместная ночь.
Чекан отложил на столик недочитанную газету и хотел пойти в спальню Гурлева, поговорить, а в эту минуту сквозь шорох дождя со двора послышались чьи-то тяжелые шаги. Потом за стеклом веранды внезапно возникло размытое лицо Согрина. Дождевые капли стекали вниз, и поэтому создалось впечатление, будто Согрин плачет. Однако он не плакал и не просил ничего, а властно потребовал, постучав пальцем:
– Прогоните девку домой! Нечестно поступаете, граждане! Она вам не ко двору. Танька! Ступай оттуда!
– Уйди, дед Согрин! – становясь впереди жены и открыв створку, решительно сказал Володька. – Мирно прошу…
– Мне на твой мир наплевать! – еще злее и властнее заявил Согрин. – Не по себе березу ломаешь. Ты слышишь, Танька?
Прежде присмиревшая, покорная молодуха вдруг отвела руку мужа и встала с дедом лицом к лицу.
– Зачем ты пришел сюда? Кто нуждается в твоем покровительстве? Маму ты счастья лишил, а теперь до меня добираешься!
– Прокляну! – крикнул Согрин.
– Хоть десять раз проклинай!
– Ни гроша от меня не получишь!
– Вот уж чем напугал! – даже засмеялась Татьяна. – Ты сначала спроси: хочу ли я от тебя тот грош?
– Зато колечки и часики носишь, не брезгуешь!
– Возьми их! С удовольствием от них откажусь…
Она быстро похватала с рук все украшения, зажала их в кулак и сунула Согрину. Он попятился, широко раскрыл от удивления глаза. Таня бросила подарки ему к ногам.
– Распутная безотцовщина! – наклоняясь за ними, рявкнул Согрин.
«Не подобрел Согрин! – подумал Чекан. – Не подобрел!»
И, подойдя ближе к окну, попытался усовестить:
– Зря скандалите, Прокопий Екимыч! Да еще так неприлично.
– А ты что за указчик? – не скрывая ярости, ответил тот. – С какого боку припека?
– Изменяет вам память, Прокопий Екимыч, – напомнил Чекан. – Избача и бывшего общественного обвинителя по вашему делу забыли!
– Извините! – сразу осекся Согрин. – Не мог предполагать свидеться с вами…
Его следы у веранды смыло водой. Ненадолго перемежившийся дождь снова хлынул; это подошла из-за озера новая грозовая туча. Светом молнии на мгновение озарило крыши соседних домов, темный крест на куполе церкви и согнутую одинокую фигуру Согрина на большаке.
– Кто это был тут? Зачем? – спросил Павел Иванович, переступая порог веранды. – Или послышалось мне?
Он еще продолжал хмуриться, зато в глазах зажглась теплота, как бывает при встрече близких людей. Это и обрадовало Федора Тимофеевича, а не белая рубашка, не новые брюки и ботинки, во что Гурлев успел переодеться. Володьку вид отца, очевидно, еще больше обрадовал, обнадежил мирным исходом.
– Дед Согрин звал Танюшку обратно, – сказал он отцу.
– А только одну ее?
– Да!
– Опоздал, эх опоздал, Прокопий Екимыч! – с веселой добродушностью сказал Павел Иванович. – У нас хватка крепкая! Мы ведь, если захватим в свои руки, – не выдерешь!
Он сгреб ручищами Володьку и Таню, обхватил их, прижал к себе.
Чекан следил за ним: не вынуждает ли он себя? Но вот и последние признаки хмурого настроения исчезли с лица, в голосе нет ни единой фальшивой нотки. Все по-домашнему. Просто. Естественно. Выпустив молодоженов из рук, сел к столу, свободно откинулся на спинку стула.
– Давай-ка, Таня, приступай к хозяйству. Разогрей ужин да добудь из шкафчика на кухне бутыль с настойкой, налей всем по рюмочке. Ты как, Федор Тимофеич, разрешаешь себе? – спросил он, обернувшись к Чекану.
– По праздникам.
– Значит, и сегодня можно! А меня, знаешь, Дарья всегда ограничивает. Этак вот расстроюсь от чего-нибудь на работе, приду домой, так в пору бы рюмочкой подправить себя, а она мне валерьянку сует.
Таня и Володька ушли на кухню, и он, склонившись, полушепотом спросил:
– Поди, напугал я ребятишек давеча? Чего глядели они на меня, как на лешего в темном лесу?
– Грома боялись!
– Грома хватает в природе. Во, слышь, как громыхает на всю округу. А мне опять Зубарь настроение попортил. Хотелось ребятишек-то сразу приветить, пусть живут, горя не знают. Хватит горя, какого мы полной мерой хватили.
– Чего, же Зубарю требовалось?
– Вежливо честил, почему мы раньше всех соседних хозяйств ячмени начали убирать? По телефону-то мне ведь не видно, как он злится, по словам понимаю – еще предстоит у нас с ним заваруха. Прежде всего, мне его тон не нравится: я его на вы называю, а он на ты. Вот я сразу ему и заметил: что ж, говорю, товарищ Зубарь, человек вы еще молодой, я вас лет на двадцать постарше и лет на тридцать мой партийный стаж подлиннее, чем ваш, и хоть элементарно полагалось бы вам проявить ко мне уважение. Называется, подбавил газу! А насчет уборки ячменей я ему определенно сказал: мы хозяева, нам виднее! И вот, говорю, сейчас над правлением молнии бьют, громы грохочут, дождь хлещет, а у нас и тревоги нет, что спелое зерно из колосьев повыбивает. Убрали под крышу. Осталось неубранного ячменя всего ничего. Так он за это мое выражение ухватился: выходит, дескать, работа была плохо организована, коли всего не успели убрать! Начал меня вызовом в райком пристращивать. Вижу, не договоримся мы до добра. Взял и положил трубку. Полграфина воды выпил, еле в себя пришел.
– Жаль, ты не слышал, как Татьяна деду ответила, – опуская этот разговор, сказал Федор Тимофеевич.
– Я намеренно не прислушивался, но кое-чего уловил. Пропустил Согрин все самое дорогое мимо себя. Что же ему теперь остается?..
Таня положила на стол чистую скатерть, подала ужин, а Володька налил всем по рюмке вишневой настойки. Держались они еще скованно, неуклюже и торопливо. У Тани не сходил со щек яркий румянец, отчего Федор Тимофеевич вдруг вспомнил свою Аганю в ее первые дни замужества.
– Значит, предстоит мне скоро начинать жизнь по счету шестую, – когда выпили настойки и поздравили молодых, сказал Гурлев по-семейному. – Получу на руки внука, и станем мы с ним выводить свой сорт пшеницы, более урожайной и стойкой к непогоде. Ехал я прошлой осенью в дубраве мимо жнивья. Земля уже заморозком была сильно прихвачена, осенние бури кончились, подле кустарников, в тени, где солнышком не пригревает, лежал тонкий снежок. И обратил я внимание на одно растение у самой обочины, похожее на пшеницу. Сошел с машины, осмотрел его и удивился такому чуду. Высота растения оказалась полтора метра, на целую треть выше «искры», которой мы засеваем поля. Колос в два раза крупнее. В «искре» при хорошем урожае набирается в колосе не более пятидесяти зерен, а в этом я насчитал сто одно, да при том и размером они намного больше. Взял я находку, до нынешней вёшны сохранил, а когда земля чуть оттаяла, раскопал лопатой небольшой участок самой тощей неплодородной земли и посеял зернышки. Пусть дальше плодятся.
Гроза еще продолжалась долго: то подступая из заозерья, то скатываясь дальше в леса. Но все это происходило по ту сторону ярко освещенной веранды, не мешало мирному течению привычной жизни. Володька и Таня ушли в комнату смотреть телевизор. Рассказывая, Гурлев спокойно поглаживал ладонью открытую грудь, как человек, хорошо поработавший и довольный, не растративший себя понапрасну…








