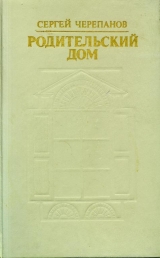
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Последнее он произнес так, чтобы услышал и Кирьян Савватеевич. Тот замедлил шаги, обернувшись, спросил:
– Все о Кузьме разговор?
– О нем, – подтвердил Гурлев. – Никакой он не уклонист, а попросту хочет облегчить себе работу, но того не учитывает, что скидок делать нельзя.
– Насчет уклона и я не согласен, – поддержал его Кирьян Савватеевич, – тем более, чтобы выложить на стол партийный билет. Мы Кузьму знаем давно и в его партийности не сомневаемся. А только ошибся малость мужик, свернул с колеи.
– Так что же за это его по головке гладить? – спросил Чекан.
– Понять и поправить как полагается.
– Э, перестаньте вы в нем сомневаться, – оборвал разговор Гурлев. – Был Кузьма, таким и остался…
Кирьян Савватеевич свернул на дорожку к своему двору. Его домик с островерхой крышей, на крутых склонах которой не задерживался снег, мирно выглядывал из-за гребнистых сугробов.
– Вот кто уважительно живет с женой, – напряженно вздохнув, сказал Гурлев. – На полном доверии, на свободе. Мне бы так!
Наверно, это вырвалось у него как-то само собой, он вдруг спохватился и, кивнув вслед Кирьяну Савватеевичу, добавил:
– Учителя крепко уважаю. Он не какой-нибудь «добренький», а по-настоящему добрый. Да ему и не положено быть иным. Каждое утро идет к детишкам сеять всхожие семена той же доброты, коей владеет сам. Вот он мне однажды пояснял, что главное богатство человека – не его деньги, не его сундуки и амбары, а человечность! Чуешь, слово-то какое важное: че-ло-веч-ность! Это значит, понимать чужую беду, чужое горе и нужду и не проходить мимо, не унижать презрением и равнодушием, а помогать! Но что же надо для того? Человечность-то без сознания целей добра не получится. И выходит, нужно повышать эту сознательность, воспитывать ее в себе и в любом мужике путем грамоты, а грамота-то покуда у нас мала, и добывать ее времени не хватает. Я вот иной раз раздумаюсь, страх берет: вдруг отстану от жизни. Кому тогда буду нужон?
– Время и жизнь для тебя не задержатся, – подтвердил Чекан.
– Значит, если отстану, то меня, как щепку с быстрины потока, откинет в сторону, в заводь, где осока да мох, и стану там трухлявиться до скончания века. Нет, не подходит такое! Пусть уж лучше упаду я людям под ноги, и пусть они идут по мне, как по мостику, все вперед да вперед!
Очень грустно прозвучали эти слова.
– Значит, поспевать придется за временем-то, Павел Иваныч, – стараясь его ободрить, весело произнес Чекан. – Нам, теперешним партийцам, досталось подымать целинные пласты в сознании людей, и хорошо бы дожить до тех пор, когда каждый человек станет душевно просветленным и чистым…
– Но мы здеся пока что больше рассуждаем о том, чем делаем, – перебил Гурлев. – Так давай-ка, слышь, Федор, займемся этим как следует. Заготовки теперь шибко беспокоить не станут. Надо помочь мужикам не верить всяким слухам и бредням, возбудить в них интерес к новой жизни, пояснить, что призваны они не небо коптить…
– И как же ты думаешь это начать? – спросил Чекан.
– Да хотя бы диспут с попом устроим. Молва об антихристе хоть и притихла, а ведь кулачество-то еще что-нибудь может придумать… Попутно мы и про текущие наши дела мужикам в сознание подбросим…
– А сумеем ли мы попа одолеть? – засомневался Чекан.
– Мы его правдой вдарим!
– Уж вернее из райкома кого-нибудь попросить…
– Ничего, не трусь, Федор! – засмеялся Гурлев. – Супротив правды жизни поп не сдюжит. А спорить с ним я сам возьмусь…
12
Посреди недели Чекан отправился к отцу Николаю. Тот жил теперь на Середней улице, в деревянном пятистеннике, снятом внаем. Двор, огороженный плетнем, за зиму позабивало снегом, только прокопанные в сугробах траншеи вели к крыльцу, к амбару и в крытый соломой пригон, где содержался скот.
Отец Николай вышел из горницы, держа в руке нагрудный крест, потряхивая цепочкой. За дверью горницы подвывали его взрослые дочери: очевидно, батюшка приводил их в разум.
Визит был неожиданный, отец Николай, узнав Чекана, наспех поправил домашний подрясник и короткую косичку, но не предложил присесть.
– Чем могу служить, молодой человек?
– Прошу прощения, – сказал Чекан, соблюдая приличие, – если оторвал от важных занятий. Но мне поручено позвать вас сегодня на диспут в клуб.
– Позвольте! Позвольте! – обеспокоился батюшка. – Уж не собираетесь ли вы меня опорочить?
– Порочить вас нужды нет, отец Николай! Мы предлагаем честный и открытый спор, без подвохов и оскорблений.
– Но сама идея спора греховна! – вскричал тот. – Могу ли я, пастырь и наставник верующих, подвергать их испытанию?
– Значит, не одобряете? – настойчиво спросил Чекан.
– Не одобряю ничуть и даже противлюсь! Не нахожу в сем надобности и потребности!
– А мы уже и объявление вывесили. Ваше имя в нем написано крупными буквами.
– Это весьма худо и выглядит как принуждение, – взъершился отец Николай.
– Да, я вас понимаю, – серьезно сказал Чекан. – Выступать в клубе, где еще так недавно была ваша спальня, кабинет и гостиная, – не очень приятно. Но надо постараться быть выше этого. Мы предлагаем вам участие в диспуте не только как священнику, но как гражданину, которого тоже должно заботить состояние умов наших граждан.
Отец Николай замялся.
– Вы проповедуете добро, – продолжал Чекан. – Действительно, что может быть лучше и приятнее доброго отношения к человеку! Так вот, мы хотим дать вам возможность подтвердить ваши проповеди. Сделайте доброе дело, укрепите в людях сознание человеческого достоинства.
– Это не в моих силах, – с явным нежеланием продолжать навязанный ему разговор вздохнул отец Николай и удалился обратно в горницу. Которая-то из его дочерей, вероятно, Зинка, чье любопытное лицо все время торчало в просвете между косяком и дверью, снова взвыла, но уже затаенно, сквозь зубы. Стоя у порога с папахой в руке и едва сдерживая распиравший его смех, Чекан терпеливо подождал, пока в горнице все угомонится. Отец Николай больше оттуда не вышел, а чтобы отделаться от столь настырного визитера, громко сказал:
– Воистину, грех бродит по стопам нашим! Ничего я вам не скажу более в данный момент…
А вечером в клуб не явился. Ждали его долго, затем Гурлев послал за ним Акима. Тот принес записку: отец Николай сообщал о разыгравшейся у него подагре.
– Поди-ко! – удивился Гурлев. – Даже и хворь не мужицкая!
– Суставы болят, – пояснил Чекан. – У стариков бывает, особенно к непогоде.
– Значит, непогоду чует! – со значением помахал запиской Гурлев.
Приспособленный под клуб поповский дом с трудом вмещал публику. Мужики набились в зал, надсажались и потели в тесноте. Между ними Чекан приметил Прокопия Согрина. В коридоре и на бывшей кухне, где еще стояла русская печь, толпились десятка два мужиков, желающих отсюда понаблюдать, чем кончится спор. «За кого они? – подумал Чекан. – За нас или против нас?» Решить было трудно, вся публика вела себя оживленно, и только кое-где проглядывали сумрачные, как окаменелые лица.
– Открывай занавес и начнем, – сказал Гурлев.
Чекан обеими руками потянул веревку. Занавес, сделанный из холщового полога, медленно сполз к стене. Мужики сразу примолкли, с минуту постояла напряженная тишина, затем кто-то из задних рядов спросил:
– А где же отец Николай?
Гурлев показал записку.
– Неувязка, граждане, вышла! Наш супротивник заскудался здоровьем. Поэтому поспорить и прояснить вопрос насчет Исуса Христа и будет ли скончание мира нам пока нет возможности. Но поскольку народ в сборе, я думаю, мы все же поговорим…
– Опять насчет хлеба? – послышалось снова из задних рядов.
– Не-е, про другое, – мотнул головой Гурлев. – Неужто у нас поговорить больше не о чем? Эх, граждане мужики! Ведь все человеку нужно, покуда он жив-здоров. Хлеб, конечно, всему голова! Кто же из нас хоть бы один день его не поел? Все едим, ни один не замер еще. И государству помогаем. Мы хлеборобы. Это уж каким надо быть злыднем, чтобы хлеб без пользы сничтожить…
– Все ж таки про хлеб баешь! – напомнил издали Согрин.
– Это я так к дальнейшей мысли делаю подход, – ничуть не смутился Гурлев. – А что же еще, окромя хлеба, находится в жизни мужика? Дозволено ли ему содержать себя на положении коня, который только и знает, что в хомуте ходить? Нет, не дозволено! Или ради денег отдавать себя в каторгу, как Софрон Голубев? Ты, слышь, Софрон, на меня в обиде не будь…
– Ништо! – отозвался Софрон.
– Живем каждый от каждого врозь, – сильно и увесисто сказал Гурлев. – Мой двор, моя скотина, мой огород и поле, моя баба…
– Зато бог один у всех, – добавил Согрин, оглядываясь по сторонам. – Это ты как пояснишь?
– Поясню, прежде всего, что ты, Прокопий Екимыч, не в свое корыто залазишь, – нахмурился Гурлев. – Речь я веду не для тебя. Человек ты голосу лишенный, мы тебя сюда не звали, а пришел, так сделай милость: сиди и слушай!
Мужики тоже зашикали на Согрина, тот втянул голову в плечи, поежился и стал пробираться к выходу. За ним потянулись еще несколько человек, приходивших на подкрепление к попу.
– Ишь, Прокопий-то, сбрындил как! – уже веселее продолжал Гурлев. – Нету ведь и бога единого! В любую избу зайди, огляди божницу – бога там нету, а только образа разных святых. Богородицы, одна на другую не похожие. Есть такие справные, в гладком теле, как сметаной откормленные, а иные тощие, высушенные, хоть в печку вместо дров клади. И у всех младенцы. Так сколько же было богородиц и сынов божьих? Согласно писанию, бог в образе голубя только к одной девице похаживал. А это богомазы всяк по-своему разных богородиц малевали. Так же и со святым Николаем-угодником. Молитесь вы ему, а того не замечаете, что по патрету он в каждой избе совсем иной. И вот, теперь подхожу к самому главному: пошто это человек на человека должон молиться? Допустим, тот святой, у него обруч вокруг головы сияет, а я простой мужик. Но пошто?
– Не туда тебя повело, Павел Иванович, – вполголоса предупредил Чекан из-за кулис. – Договорились ведь мы, про бога без попа разговор не начинать, а только про жизнь…
– А я о чем, коли не про жизнь?! – сказал Гурлев и обратился в зал: – Ну, скажите, граждане мужики, как ее понимать? Разве это жизнь – изо дня в день хребет ломать да детишков плодить? Или в том она, чтобы ухитриться да капитал награбастать? Никакая это не жизнь, лишь голимая прорва, нету от нее радости на мизинец!
– Со своей бабой не можешь отладиться, сопливого хотя бы парнишку исделать не можешь, так потому и радостев нету у тебя, – снова раздался выкрик.
– Эй, кто там шумит? – спросил Гурлев, наклоняясь вперед и вглядываясь. – Кажись, Горбунов Егорка? Ты чего это за чужие спины хоронишься? Ладно, я отвечу тебе, хотя моя жизнь у всех на виду. Свою Ульяну я ни разу пальцем не вдарил, не обижал, моя совесть перед ней чистая. Детей не нарожали не по своей вине. Если дальше хочешь вызнать, так сам к Ульяне сходи, поспрошай, отчего это все превосходит. А про радость скажу так: может, мне она совсем не положена? Не на каждый день! Я возрадуюсь сразу истомленным моим сердцем, когда своими глазами увижу то, к чему пробиваюсь…
– А нам-то она положена ли? – подняв руку, спросил несмело Иван Добрынин. – И где же ее сыскать?
– За тобой грехов много, – проворчал на него Софрон Голубев.
– Какие ж таки?
– На земле зря мозолишься! Какой от тебя толк?
– А от тебя какой? – взволновался Добрынин. – Мне хоть бог-то простит, я здоровьем слабый. Зато ты хотел умереть, а бог-то и не призвал к себе.
– Значит, время не подошло…
– Не взял, – упрямо повторил тот, – и брать совсем не за что! С меня эвон сколь ты денег содрал, чтобы одну пару пимешек скатать. Копил деньги, да сам же и сбросил их по ветру. Эх, ты-ы…
Софрон Голубев надвинул шапку до бровей.
– Обождите, граждане мужики, – прервал их Гурлев. – Не перепирайтесь на личности! Давайте судить по-хорошему.
– А меня вот очень даже большой антирес разбирает, – подскочил с передней скамейки Аким Окурыш. – Все ж таки, с чего Софрон в огонь-то кидался?
– Со скуки, – с явным намерением выручить Голубева сказал Гурлев. – Он свою главную линию потерял!
– То исть, как?
– В каждом из нас есть две линии, – убежденно ответил Гурлев. – Первая, самая наиглавнейшая, – это есть линия всей жизни, а вторая, поменьше, коя проходит толечко по твоему двору и по твоему полю. Ежели с главной-то линии сойти, а остаться лишь при своей малой линии, то выходит: не к чему было и на свет нарождаться…
Чекан почувствовал, что Гурлев начинает брать на себя задачу не очень посильную, но останавливать и поправлять не стал: мужики слушали с большим вниманием.
– На главной линии ты человек, а оставшись на одной своей, я, извиняюсь, вроде цепного пса, – не замечая, как Чекан вышел из-за кулис и сел на подоконник, продолжал Гурлев. – День и ночь спишь одним глазом. И вот тут надо теперь коснуться: с чего человек начался?..
– И-эх, мать моя! – радостно загомонил Аким Окурыш. – Это я ужасть как уважаю!
Гурлев взглянул на него, затем перевел взгляд на Чекана, переступил с ноги на ногу, как бы сдвигая себя, и вначале произнес глухо:
– Вот неучен я, сам скребусь, насколько могу, да иной раз и время нету книжку хоть полистать.
– Валяй по силе, загинай по-свойски, – подбодрил его дежуривший у дверей Парфен Томин. – Мы все под одно, слова-то, как дрова, одинаково рубим: где тоньше, где толще!
– Так с чего же он, человек-то, начался? – прищурившись и чуть подняв глаза к потолку, спросил Гурлев, еще продолжая настраиваться. – А вышел он, граждане мужики, из первобытности. Вот кои-то из вас в церкву ходют и верят, будто человек по прозвищу Адам был слеплен из глины, а Ева сготовлена из его ребра. Тут без отца Николая спорить не стану, а лишь замечу, что ежели бы бог не хотел греха, не желал, чтобы люди плодились, то к чему затевался с женщиной? Да разве ж можно стерпеть, когда мужик молодой, ничем не порченный, не изробленный, оставленный в лесу посреди благодати, а бабочка – тоже молодая да нагишом!..
Мужики вдоволь посмеялись: такая откровенность была каждому по душе. А Гурлев даже не улыбнулся, настолько все сказанное представлялось ему серьезным и важным.
– Людей на земле, как мурашей в березовом колке, – сказал он чуть погодя. – И все не из глины слеплены, а в муках рождены. Легко ли бабам рожать дитев? Эк они, бедные, сколько месяцев ходют в тяжести, с каким криком и ревом выводят младенцев на свет! И нет поначалу между младенцами никакого различия: все голые, все за сиську хватаются и одинаково пачкают. Уж потом, как они станут в разум входить, то и начинается дележ: этот богатый, а этот голодранец, этот умный, а этот дурак! Верно я говорю?
– Верно, все, как есть! – раздались одобрительные крики. – Шагай дальше!
– В первобытности своей человек был вроде бы как наш упокойный теперь Тереша. Толку в его голове еще не обозначалось, ходил он зиму и лето безо всякой одежи, а угревался шкурами, избы строить не умел, огонь добывал от трения палки о палку. Однако же соображение жить сообща, табором, чтобы пропитаться, выработалось у него вскорости. Пойдут артелью на крупного зверя, камнями его побьют, мясо поделят поровну. Сыты и никто не в обиде! Ну, дальше – больше, разум все прояснялся, нужда заставляла наготавливать еды впрок, от непогоды крышу над собой строить, от холодов тепла искать. И вот при этом их жизнь стала вроде раздваиваться. Кои похитрее да поухватистее оказались, тем уж с общего дележа показалося мало, стали они подгребать себе куски, где побольше да пожирнее, а народ смирный, непробойный, видя это, хоть и проявлял недовольство, но не собрался и не одолел их и с тем нажил себе нахребетников. Так образовалось кулачество. С другой стороны нашлись ловкачи, стали про всяких богов выдумывать. Молния сверкнет, гром с неба ударит, они первые на колени падают: это-де бог гневается! Так образовались попы!
Гурлев, по-видимому, миновал самое для него трудное и, не останавливаясь на эволюции человека, пропуская различные общественные формации, где для него все было туманно, вернулся опять к той мысли, которая сейчас его волновала:
– А все ж таки, даже в темноте и в невежестве живущий человек все сотворил своими руками. И вот он совершил революцию!
Дальше книжные знания ему уже не требовались, то, о чем предстояло сказать, было видано своими глазами, пережито, передумано много раз. С чисто крестьянской обстоятельностью он изложил свою точку зрения: ведь если в древности, впервые добыв огонь, человек осознал себя человеком и перестал быть диким, то теперь, когда он стал хозяином своей судьбы, его сознание должно подняться до большой высоты, до понимания той новой жизни, которую мы сейчас строим.
– И никуда от нее не денемся, – подчеркнул он напоследок. – Вот она стоит уже у нас на пороге и стучится в дверь. Кому люба, тот повстречает ее хлебом-солью, тому она станет не в тягость, а в радость. Я вот, к примеру, ни в бога не верю, ни в черта, ни в какие наговоры бабушек и сны отрицаю, а все ж таки недавно про ту новую жизнь приснился мне сон, да такой расчудесный, что все еще вижу его, чуть глаза прикрою.
– А об чем это вам, партейным, снится? – спросил угрюмый Антипа, отец секретаря комсомольской ячейки Сереги Куранова. – Да полагается ли?
– Коли мы не люди! – достойно ответил Гурлев. – Какая разница между мной и тобой, дядя Антипа? Только та и есть, что я уже в сознание взошел, а ты все еще в потемках блудишь.
– И-и-эх! – снова не вытерпел Аким Окурыш. – Завсегда ты, Антипа, не в пору голос свой подаешь! Тут вникать надобно, в рассуждения входить, а ты, как подкулачник, с ходу сбиваешь!
– Но-но! – озлился Антипа. – Ты там насчет подкулачника-то, того…
– Обожди-ко, Павел Иваныч, дай прежде мне высказаться, – закричал Аким Окурыш, расталкивая мужиков и пробираясь к сцене. – Я хоть и безо всякой партии, но тоже в сознательность вдарился уже давно, и мне слышать всякие подлые подковырки Антипы нету никакого терпения.
Мужики зашумели, предвидя чудачество. Малорослый и худой Аким, взобравшись на сцену, подвинул Гурлева локтем, скинул с головы обтрепанную ушанку.
– С меня бы икону писать надо. Вот, мол, великих мученьев был мужик, замордованный при старой жизни…
– Хо-хо-хо! – заглушая его, засмеялись в зале.
– Эк вы привыкли, уж чуть чего, надо мной потешаться! – строго произнес Аким. – Вот и посыльным в Совет от общества выбрали. За что? А ладно, дескать, мужичонко на ногу легкий, по домашности забот мало. Вроде всем недосуг бегать по селу и колотиться под окнами, только мне да Фоме Бубенцову. Ну, коли уж все подняли голоса, я должность сполняю безотказно. Может, и меня новая жизнь коснется. А все ж таки иной раз обидно. Это пошто я Окурыш? Поди-ко уж и не помнит никто, как меня звать-величать. Аким Лукояныч Блинов – вот кто я! Бли-нов! Превзошла моя фамилия от сытости. Однако мне-то не подфартило, оказался я кругом обделенный. Как с малых лет выпал мне недомер, так пошло-поехало до теперешней поры. Бывало, бегаю с парнишками-погодками по улице, играю. У парнишек вся тела прикрытая, толичко на мне одна рубаха до пупа. Этак, значит, бежишь, играешь, а девчонки от тебя врозь. Вся-то причина – нужда. Я в семействе был самый малый. Зачнет мать холст на штаны кроить, для меня завсегда не хватало, и потому выдавали мне со старших обноски. Подошло время, отдали меня к Гавриле Сырвачеву в работники. И опять недомер. Гаврило-то другим работникам платил то по три, то по пять рублев в год, а мне рупь! Но лупил больше всех. Чуть чего, по патрету вмажет! С того мой патрет не баской вышел, девок не завлекал. Чуть я холостым не остался…
– Зато жена все недомеры покрыла, – одобрительно заметил ему Григорий Томин. – Эвон она каковская! Что в вышину, что в ширину. Небось за ней, как за печью спишь.
– Ей по вдовьему положению деваться некуда было, так она меня и приветила. По первоначалу присватывался я к Домне Васильевне…
– Будя, будя, Аким! – сказал Гурлев. – Не перебегай на другой путь. Вызвался баять про жизнь, а заводишь про баб. Да и себя не прибедняй шибко-то. Какой же ты при нашей советской власти Окурыш, ежели тебе земля выделена, а также лес и угодья!
– Так я еще насчет веры выскажусь.
– Со мной спорить хочешь!
– Не-е, безо всякого спору! – развеселился Аким. – Вот, значит, как я подтянулся в годах и зачал к девкам приглядываться, в ту самую пору и взяло меня сумление. Парни, мои погодки, с девками на игрищах пляшут, до дому их провожают, а я завсегда в стороне. И порешил я тогда в церкву пойтить и начисто за то самому богу выговорить. Если, дескать, у тебя, создатель, глины на мою фигуру не хватило, так ты исделал бы девку или уж в крайний случай животную, чем человека портить. Собрался я в церкву в троицын день. Народищу к обедне собралось тьма, к алтарю невозможно пробиться. А мне мать пятак выделила, велела свечку купить и перед образом каким-то поставить. Ну, я хоть маломерный, а все же вперед протолкался. Гляжу, тут дружок Проньша Чистяков. Встали мы рядом. Тем временем дьякон Серафим возгласил: «Миром господу помолимся!» Верующие все на колени пали, зачали креститься-молиться, и мы с Проньшей тоже на колени спустилися. И вот я толичко, значит, персты сложил, хотел ко лбу приложить, а гляжу – перед самым моим лицом задняя часть торговки Ергашовой возвышается, и никаких образов, окромя нее, мне не видно. Осерчал я. Эх, думаю, даже в церкви удачи нету! Ну, и не стерпел, прицелился, да-а кэ-эк вдарил Ергашову по заду, она аж запрокинулась, с нечаянности ойкнула выше дьяконова гласа и хотела было меня лягнуть, однако я сразу нашелся, протянул ей пятак. «Передайте, говорю, денежку богу на свечку!» Да ползком назад.
– Бот сколь времени отнял, а к чему весь твой сказ? – проворчал на него Гурлев, когда в зале затих смех. – Экая невидаль!
– И-и-эх, Павел Иваныч! – замахал руками Аким. – Так я ж с той поры перестал в церкве бывать. Возмущение в душе испытываю, а через то возмущение одобряю сказанную тобой речь.
– Обожди-ко! – спроваживая его со сцены, сказал Гурлев и опять обратился к публике: – Так вот, граждане мужики, поскольку мы выслушали Акима Лукьяныча с этой трибуны, а также потому, что пора нам расставаться с нашей темнотой, начать просветлять самих себя, то я предлагаю с данного момента прозвище Окурыш с Акима Лукьяныча снять. Прошу всех проголосовать за это…
– Стой! – испуганно закричал Аким. – Не согласный я!
– Это пошто же?
– А по то! Оно ведь, вправду, иной раз бывает обидно. Все люди, как люди, а я Окурыш. Ну, с другой стороны, подумать…
– Думай, только скорее, – уступил Гурлев.
– Беспривычно вроде бы! Носил-носил прозвище, и вдруг его нету! Как шапку потерял.
– Этак ты в себе человека никогда не почуешь!
– Надо оставить за ним прозвище, Павел Иваныч, – вступился за Акима его напарник Фома Бубенцов. – Все граждане не отказали бы, решению за снятие хоть сейчас примем, но коль Аким просит, надо ублаготворить. Сам-то он не виновный ни в чем!
– Вот спасибо, Фома! – поклонился Аким Окурыш. – Так уж до старости доживать стану.
– Эх, граждане мужики, – горестно пожал плечами Гурлев. – Далеко ли мы так-то уедем, ежели от первобытности своей оторваться неохота. Свыклись. Но ведь вся старая жизнь, как изба, подгнила, ломать ее надо. Покуда мы все не просветимся, не перестанем дичиться, до тех пор и не осознаем, в кою сторону двигаться…
Он склонил голову к плечу, будто прислушиваясь к себе. Слова о том, как переустраиваться, нужны были хорошие, теплые и чистые, как всхожие семена, и он пытался найти их. Аким Окурыш явно испортил его настроение. Поэтому поиск затянулся, Гурлев уже начал испытывать неловкость и стеснение, потом, поправив на себе выцветшую солдатскую гимнастерку, взглянул на Чекана. Тот понял его молчаливую просьбу и немедля пошел на выручку.
Начал Чекан с того, что человек переделывает жизнь, а жизнь, в свою очередь, переделывает человека. Таким образом происходит непрерывное развитие, остановить которое никто не в силах. Революция сделала огромное дело не только тем, что дала крестьянину землю, гарантировала полную свободу от всякой эксплуатации, но сдвинула его с извечных устоев, и он уже не может теперь довольствоваться тем, что имеет. Мужик все еще тот, но уже далеко не тот. Он стремительно идет к новым отношениям в обществе и новым формам труда.
Долго еще светились окна в клубе за голыми стылыми тополями бывшего поповского сада.
Разошлись мужики по домам, каждый по-своему взволнованный и встревоженный. Не все, хотя, вероятно, многие унесли с собой какие-то свежие мысли и желания, пусть пока незначительные, но необходимые в их теперешнем образе жизни. Ведь это была необычная сходка, говорили не просто о хлебе, о земле, о текущих сельских делах, и не вообще о том, «с чего человек начался», а о самой сущности деревенского мужика, о достоинстве, о справедливости, о личной свободе каждого в устройстве своей судьбы. Как же о том не подумать!
А у самого Чекана осталась досада. Закрывая клуб на замок, он даже невольно поморщился: «Не очень ли радужно рисуем мы будущее села? Не предупреждаем заранее, что новая жизнь – это не открытые ворота в рай, на готовенькое, а понадобятся ведь самые неимоверные усилия воли и терпение, чтобы в нее войти и своими руками построить».
Но как же мог он взять на себя смелость предупреждать о том, чего сам еще не видел, не испытал, а только лишь слышал от товарищей да читал в газетах о планах первой пятилетки, о строительстве первых электростанций, тракторных и металлургических заводов, о первых колхозах?
– Зря расстройство наводишь на себя, – сказал Гурлев. – Наш брат, мужик, если заранее поймет самое главное, в испуг не ударится при любой трудности и нужде. А поговорили мы сегодня меж собой ото всей души!
После снегопадов ночи стали светлее, улегся ветер, накатанная санями дорога лоснилась, твердый снег похрустывал под сапогами, как свежий капустный лист.
Настроение у Гурлева было хорошее. Прощаясь у развилки, даже слегка пошутил:
– Держи нос выше! Грудь колесом! Не то женим тебя на какой-нибудь здешней девахе, чтобы не скучал.
А не удалась ему шутка. Дальше голос сорвался:
– Эх, как плохо, когда нет возле тебя человека, который все твое понимает и всему твоему делу сочувствует…








