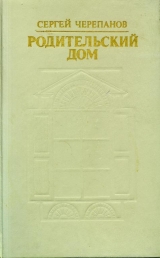
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
– Водка у тебя есть?
– Не держу, – сказала Ксения опять удивленно. – А ты разве себе разрешаешь?
– Устал, – опустив плечи, пояснил Согрин. – Жить устал, вот что!
Потом вышел на крыльцо, сел на сходны и понурился. Экая тяжесть невыносимая! И в ночи нет тишины: где-то все еще стрекочут машины; высвечивая фарами дорогу, в улице проходят грузовики; за переулком поют девки; в обнимку, не таясь, повернули к озеру парень с девкой; чей-то теленок бродит, беспокойно мычит, потеряв свой двор. Нет тишины, нет покоя. По-бабьи поплакать бы сейчас. Облегчить себя. Но за всю жизнь ни одна слеза еще не падала из глаз Согрина.
5
Под навесом у правления колхоза стояла «Волга». Гурлев, посмотрев на ее городской номер, смущенно подумал: «Приехал-таки Федор Тимофеич. Дернуло же меня ему позвонить. И давно ждет, наверно. Неловко. Нехорошо получилось!» А сразу в помещение не поспешил. Постоял в раздумье под впечатлением разговора с Прокопием Согриным. Еще не мог понять странную перемену в себе: куда-то девалась вдруг вся прежняя неприязнь к этому человеку. Не уступил ли? Не пожалел ли, увидев его старым и беспомощным? Прежде думал всегда: если встречу, то все выскажу, все свои сомнения и подозрения, и что не может быть между нами мира никогда, а сейчас только руку не подал, по имени не назвал, но и воспоминание о прошлом обрезал. «Нет, это не жалость и не уступка, – поглубже заглянув в свои чувства, решил Гурлев. – Безразличие! Вот так вернее!» И думать о нем перестал: не потому, что «волк уже без зубов, лиса без хвоста», не из принципа «лежачего не бить», но исключительно из-за той дальней дали, в которой Согрин остался прозябать и существовать. Ведь торчит же где-то на бывшей меже пень от давно срубленного дерева, догнивает, водятся под его мертвыми корнями жуки, черви, всякая пакость, но в вышине сверкает солнце, а вокруг, куда ни посмотри, цветут травы, тучнеют хлебные поля.
В правлении колхоза в такой еще далеко не поздний час бывает всегда оживленно. Днем решать дела недосуг, только вечером. То бригадиры приходят, то животноводы, то просто люди по своим домашним заботам. И сейчас народу полно. Собралось старшее поколение. Смотрят развешанные по стенам эскизы будущего Дома культуры, автостанции, универмага и жилых домов. Тихо переговариваются. И Гурлев тоже сейчас охотно прильнул бы глазами к этим «картинам», где уже наяву виделась его давняя мечта, а неловко перед Чеканом. Тот сидит за председательским столом и что-то объясняет Софрону Голубеву, Ивану Добрынину, Акиму Окурышу.
Кинув запыленную фуражку на вешалку, вытерев руки носовым платком, Гурлев поздоровался и виновато спросил:
– Честишь, наверно, меня, Федор Тимофеич, почем зря?
– Да нет! – улыбнулся тот. – Время не пропало. Вот спорим тут: не очень нравится мой проект.
– Почему?
– А пошто дома в два, в три этажа? – взволнованно запетушился Иван Добрынин. – Пошто не просто дом на одну семью. Огорода рядом нету, скотину надо держать на усторонье, курей тоже. И самим не шибко ловко придется: ну-ко, походи, поползай в моем возрасте на третий этаж?
– Пожалуй, разумно, – согласился Гурлев.
– Коли у нас земли не хватит? – добавил Окурыш. – Эвон ее сколько вокруг. Чего же тесниться?
– А мне название не глянется, – заметил Софрон Голубев. – Зовемся по старому: Малый Брод! Чего оно значить может? Вроде мы все еще в потемках бродим. Хоть бы река была рядом да поперек ее брод, где бы ходили без мостика, по мелкой воде. Но реки нет, и живем, как люди, а с того старое название надо похерить!
– Насчет названия не мешает подумать, – сказал Чекан.
– Надо ли? – не поддержал Гурлев. – Прежде пословица была: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь!» Не в названии причина, а в самой жизни…
Заметив вошедшего в комнату сына, Гурлев подозвал его к столу.
– Привез, чего требовалось?
– Привез! – коротко ответил Володька, молча здороваясь с Федором Тимофеевичем. – Еле выбил. Давали только темные краски…
– Они что, не понимают разве – не склад же красить нужно, а помещение, где дети станут играть! – сердито сказал Гурлев. – Черноту-то разводить!
– Я не взял, – пояснил Володька. – Пришлось в райком идти. Оттуда позвонили директору, тогда прорвало.
– Правильно поступил, – одобрил Гурлев. – Во все двери колотиться не станешь, полдела не сделаешь.
– Везде много строят, – вмешался Чекан. – Потребности в материалах большие. Поневоле приходится пробивать.
– Вот это одно и смущает меня, – обернулся к нему Гурлев. – Напланируем, нарисуем на бумаге, людям наобещаем, а потом и начнем себе лбы расшибать: тут не дают, там отказывают, еще где-то велят обождать!
– Просто своевременно надо оформить фонды, – по-деловому сказал Чекан. – Не опаздывать…
– Я не опоздаю, – уверенный в себе, усмехнулся Володька.
– Заране не хвастайся, – строговато взглянул на него Гурлев. – Это у тебя сейчас покуда объектов мало – садик да котельная и водонапорная башня, – а вот как развернем остальные стройки, на месте не посидишь, не загуляешься…
– Мне к тому времени гулять уже не понадобится, – поняв отца, опять усмехнулся Володька. – А вы, Федор Тимофеич, все листы привезли? – уходя от двусмысленных намеков, спросил он.
– Пока только часть, – ответил Чекан. – Но и эти придется, наверно, еще поправлять.
– Есть возражения?
– Да! Не нравятся многоквартирные дома.
– У нас была договоренность с Федором Тимофеичем проектировать дома двухквартирные, на две семьи, – чтобы не обидеть Чекана, осторожно произнес Гурлев.
– Не перспективно! – возразил Володька. – Что-то очень напоминающее единоличников. Я Федору Тимофеичу тоже высказывал свое мнение. Мы же не останемся на теперешнем уровне. Очевидно, сельское хозяйство, судя по решениям партии и правительства, будет двигаться дальше по пути индустриализации. Мелкие хозяйства станут в таком случае нерентабельными и мало жизнеспособными. Будут создаваться, стало быть, и большие коллективы людей. Наконец все эти наши индивидуальные огороды, садики, свои коровы и овцы, свои куры и сколоченные из досок уборные не смогут дальше заполнить всю жизнь людей…
Такое заявление сына Гурлеву тоже показалось резонным. Строить надо не на год, даже не на десять-двадцать лет. Пройдут, может, немногие годы, и то, что с таким трудом сейчас будет без дальнего расчета сделано, – станет обузой.
– Вообще, тоже надо подумать! – сказал он, а затем озабоченно справился: – Ты, Федор Тимофеич, наверно, еще не обедал? Заморим мы тебя!
– Днем я ходил в магазин – выпил томатного соку и пожевал хлеба с колбасой.
– Извини, пожалуйста!
– Не велика беда! – добродушно мотнул головой Чекан. – Поесть успеем!
– Володя! А у нас дома найдется что-нибудь горяченькое? – на всякий случай спросил Гурлев сына.
– Как обычно: борщ и жаркое!
– Ну и повар! – засмеялся Гурлев. – Каждый день одно меню! Пока матери дома нет, набьет борщами оскомину. Ну, однако, Федор Тимофеевич, чем богаты, тем и рады. Пойдем заправляться! А свои листы оставь тут. Володя их соберет, сложит в шкаф. Слышь ты, прораб! – сказал он сыну, а затем обратился к старикам: – Прощения прошу!
Когда спустились с крыльца и пошли вдоль палисадника, Чекан тронул Гурлева за руку:
– Так в чем же проблема, Павел Иваныч?
– Э, сущая ерунда! – с досадой на себя отозвался Гурлев. – Сначала сильно расстроился, а сегодня одумался. Тебя зря с места поднял.
– При чем же Согрин?
– Володька на его внучке решил жениться!
– И все?
– Ну ты меня пойми: как я мог среагировать?
– Вполне понимаю – пришлось одолевать психологический барьер!
– То ли психологический, то ли черт его знает, какой! Неприятно все-таки! Любого на мое место поставь, так он тоже задумается. Прошлое вроде бы уже далеконько осталось, а вспоминать о нем трудно. Какая-то связь между прежним Гурлевым и мной не обрывается. Жизнь того Гурлева и моя сегодняшняя жизнь, хоть и не схожие, зато корень у них один. Стало быть, не могу я быть равнодушным к тому, что было, если не хочу того Гурлева осрамить. Тот боролся с кулачеством, а я породнюсь.
– С бывшим, имеешь в виду!
– У сердца память прочнее, чем у головы. Оно и не желало признать. Ну, а Володьке на это смотреть не приходится. Чужая жизнь, даже отцовская, это вроде фильма о прошлом. Посидел в кино, поахал от удивления и сочувствия, а вышел на улицу – отправился свою зазнобушку провожать. Мне Володька однажды сказал: «А что особенного, батя, ты сделал, чем бы я, твой сын, мог гордиться?» И в самом деле, если здраво рассудить, то самый я обыкновенный работник, каких в районе и в области не перечтешь: одни на войне Родину защищали, другие на производстве стараются, а я простой хлебороб. Не герой, не академик. Смолоду бьюсь за хлеб для всех. Другие люди металл плавят, машины делают, заводы строят, а я обязан накормить их хлебом. Значит, Володька прав! Тут сказывается, однако, не то, что он не ценит моей жизни, а наоборот, смотрит шире и дальше моего. Но вот намерение его жениться на Татьяне Согриной сразу принять не мог.
– Почему?
– Неожиданно получилось. Вдруг ни с того ни с сего: собираюсь, говорит, жену в дом привести.
– Наши парни хотят быть самостоятельными, – засмеялся Чекан. – А невеста хоть недурна собой?
– Совсем не дурна. И умом толковая. Один изъян – это дед!
– Неужели он жив еще?
– Час тому назад я виделся с ним. К дочери зачем-то приехал.
– Ну и как же беседа прошла?
– А ничего! Я опасался – не закипело бы сердце…
– Удалось сдержаться?
– Как-то все само собой обошлось. Сегодняшнему Гурлеву не о чем разговаривать с прежним Согриным.
– Это, мне кажется, правильная мысль, Павел Иваныч, – поддержал Чекан. – Живые мертвых не судят! Живой думает о живом. Но и ребятам своим мы не судьи. Чего мы хотим для них?
– Всего, что есть хорошего в мире!
– Так очень ли важно при этом регулировать их любовь? Кого можно любить, а кого-то нельзя.
– Спешат!
– Им все же виднее. Лишь бы людьми остались.
– Вот я Володьке и говорил: не потянет ли его Татьяна в сторону от главной дороги? Согрин ее все же приманивает к себе мелкими подачками: золотыми колечками, часиками, разными побрякушками. И наследство не малое ей же оставит, нажитое за чужой счет. Приятно ли сознавать, что мой сын тем же наследством станет пользоваться?
Подходили уже к дому Гурлева, когда позади услышали топот. Кто-то бежал следом. У калитки Гурлев попридержал Федора Тимофеевича, остановился сам.
– Вот оказия! Еще кому-то понадобилось…
Запыхавшись, подбежала соседка Крюковых Маремьяна, женщина ко всяким бедам участливая.
– Варька умирает… Анфиса Павловна послала к тебе!
– С чего вдруг? – тревожно спросил Гурлев.
– Разродиться не может… машину надо, в Калмацкую больницу везти!
– Растрясет на моем «газике»!
– Может, я увезу на «Волге»? – предложил Чекан.
– Обожди, Федор Тимофеич, – сказал Гурлев. – Иди пока в дом, а я схожу к Крюковым, проясню!
Но Чекан не отстал и пошел вместе с ним.
Везде в домах светились огни. Вдалеке за озером вспыхивали зарницы. Неуверенно выглянул из-за тучки тонкий серпик луны и закрылся снова.
– Плохо, что самого Ивана сейчас нет дома, – озабоченно сказал Гурлев. – Я его с горючим в поле послал. Пусть бы сам побегал и узнал, как жену расстраивать в ее положении…
В оградке у Крюковых несколько соседок, собравшись в кучку, вполголоса судачили. В доме слышался стон. Анфиса Павловна, расстроенная, вся в слезах, встретила Гурлева в сенцах.
– Я ничем уже помочь не могу, Павел Иваныч, – доложила она, вытирая халатом глаза. – Плохо Варваре. Боюсь, не выживет!
– А в Калмацкое можно везти?
– Тоже боюсь! Не довезем.
Допытавшись у Анфисы Павловны, почему именно Варвара не может разродиться, Чекан вспомнил, что в таких случаях из города посылают санитарный вертолет со специалистом или же саму роженицу доставляют в городскую больницу, в отделение, которым заведует Аганя. А позвонить ей отсюда не составляло труда.
– Час или два Варвара еще продержится? – спросил он у Анфисы Павловны.
– Попробую продержать, – ответила та.
В правлении Гурлев долго стучал пальцем по рычажку телефона, пока районная телефонистка наконец отозвалась.
– Гурлев говорит из Малого Брода, – крикнул он в трубку. – Соедини меня с городом. Как это занято? Сначала спала на дежурстве, а теперь уже линия занята! Разъедини и дай мне по срочному заказу! И так не можешь? Тогда дай «молнию»! Слышишь, «молнию» дай! И этак не можешь? Почему? Секретарь райкома разговаривает. Ладно, присоедини меня к его телефону. Нельзя? Соедини, говорю! Ясно! – Он обождал немного, затем спросил ровнее: – Это вы, Петр Григорьевич? Я Гурлев. Извините, оборвал ваш разговор. Беда у нас. Женщина может умереть. Минуты нельзя терять. Ну, спасибо! – И, приложив ладонь к трубке еще раз, повторил: – Давай срочную, девушка!
Чекан взял у него трубку и назвал телефонистке сначала служебный телефон Агани. Ее в родильном отделении уже не нашли: ушла домой. По квартирному она ответила сама:
– Это ты, Федя?
– Я, но у меня к тебе срочное дело, – сказал Чекан. – Тут молодая женщина разродиться не может. Как быть?
– Но я же по телефону помочь не могу, – огорченно прозвучал ее голос. – Разве тебе непонятно?
– Ты посоветуй, как быть? Возле роженицы дежурит фельдшер, но считает ее безнадежной. Еще часа два-три – и конец! Вы же посылаете вертолет…
– Одна акушерка тоже вряд ли поможет. Возможно, понадобится хирургическое вмешательство. А лететь сейчас некому. Все заняты.
– Прилетай сама, – решительно попросил Чекан. – Можешь?
– Боюсь! Меня в воздухе всегда укачивает…
– Вызови такси!
– Ну хорошо! – согласилась Аганя. – Что-нибудь я придумаю. Только мне надо собраться, взять все необходимое!
Положив трубку на место, Федор Тимофеевич облегченно вздохнул.
– Примчится! Она у меня такая!
– Прежде в таких случаях баушки управлялись, – словно пожалел Гурлев. – Баню натопят, положат бабу на полок, живот ей направят…
– Так погибало много.
– Вот теперь и выбирай: то ли в первую очередь Дом культуры, универмаг и дома строить, то ли свою больницу. Население в Малом Броде растет, а фельдшер Анфиса Павловна может оказать лишь первую помощь. Прямо позарез нужны врачи. Но мы ведь еще не такие богатые, чтобы в один год все построить.
– Давай за больницу сначала возьмемся.
– А молодежь как в селе удержать? Люди семейные и пожилые вечером охотно у телевизоров посидят, им женихаться уже не нужно. Одним свежим деревенским воздухом и поучением следовать примеру родителей ни парней, ни девок не остановишь.
Гурлев опять ушел к Крюковым, а Чекан еще раз позвонил в город, к себе на квартиру. Сначала телефон не отвечал, наконец, послышался голос Виктора. Он сказал, что провожал мать. Аганя все же решилась лететь на вертолете и взяла с собой акушерку.
Чекан вывел «Волгу» из-под навеса и выехал на улицу встречать жену. Прошло, вероятно, минут сорок, а может, больше, когда в темном небе послышался грохот мотора и показались бортовые огни. Вертолет сделал над селом небольшой круг, выбирая место для посадки, затем стал медленно опускаться на бывшую церковную площадь.
– Вот увиделись снова, – пошутила Аганя, прислонясь и заглянув в лицо мужу. – А говоришь, редко видимся! Если бы не ты позвал, не насмелилась бы. Вверху темно, где-то играют всполохи, а земли не видно. Очень страшно. К больной отсюда далеко?
– Почти рядом. На соседней улице, – сказал Чекан, садясь за руль.
– Тогда мигом доставь…
У калитки Крюковых Аганя и акушерка, совсем еще молодая девушка, быстро вышли из машины и почти бегом направились в дом. На крыльце их встретил Гурлев. Аганя на ходу поздоровалась с ним и закрыла за собой дверь. Варвара исходила криком, а некоторое время спустя начала успокаиваться, и через открытую створку окна стал слышен ровный, добрый голос Агани: «Ну, вот и хорошо, милая! Чуть-чуть еще потерпи! Сейчас мы сделаем все, как надо! Вот так! Вот так! Какая ты молодец!».
Страх за жизнь молодой женщины отошел.
– А ведь твоя, Федор Тимофеевич, Аганя все та же, что и была, – стараясь говорить негромко, похвалил Гурлев. – Помнишь, как она Сашку Окунева отхаживала? С рождения, что ли, это заложено в ней?
– Женщины понимают чужую боль лучше нас, – вспомнив утренний разговор с женой, ответил Чекан. – Пока мы постигаем умом, они своим чувством и, наверно, каким-то особым зрением успевают опередить. Вот ты еще колеблешься: брать ли Татьяну в семью? А спросить бы об этом Дарью?
Гурлев не возразил и молча прошелся от крыльца до калитки. Чекан закурил. То ли тревогой и ожиданием чего-то неизвестного, то ли сгустившимся мраком и свежим ветром с озера эта ночь напомнила прежние предосенние ночи здесь. И от этого стало вдруг грустно. Затем в мир ворвался крик ребенка, негодующий, требующий, а голос Агани сказал ему ласково: «Ну, вот мы и родились!»
6
Каждый вечер приходила Танюшка в тополиную рощицу под угором. Пряный запах и непрерывный шум молодых деревьев, по вершинкам которых гуляли ветры, а за опушкой хлестался прибой о песчаный берег, будоражили ее степную кровь. И замирала она в трепетном ожидании почти до беспамятства, когда приходил Володя, до боли сжимал плечи и целовал. А потом они садились на лавочку, еще ранней весной поставленную здесь Володей, и молча смотрели, как за озером догорает вечерняя заря, как вспыхивают и гаснут в темном небе звезды и как неяркий, мглистый свет куда-то далеко-далеко опустившегося солнца, по ту сторону земли, медленно сочится по горизонту к восходу. Иногда они забывались, опьянев от молодости, от неуемной силы, и весь мир будто заслонялся от них. От жажды обсыхали губы, глохли уши, бесконечно сладким казалось страдание. Так она любила своего любимого, и если бы он однажды не пришел к ней, отказался, то бросилась бы с плотка в воду. Но Володя ее любил не меньше. Таня это видела, понимала и чувствовала, только вел он себя чуть сдержаннее, чуть разумнее, как должно мужчине.
– Ну, почему ты так поздно сегодня? – спросила она недовольно, когда Володя подошел и обнял. – Я уже застыла тут…
Он снял пиджак, укутал и сел рядом так близко, что тепло его тела сразу передалось ей.
– В Калмацкое ездил, а сейчас еще в правлении задержался.
Чем-то он был озабочен.
– А что случилось? – тревожно спросила Таня.
– Ничего!
– Ты не лги мне! Всякую беду лучше пополам разделить, чем нести ее одному. Так что же?
– Опять сегодня утром вел с отцом разговор.
– Не соглашается?
– Отговаривать продолжает. Советует обождать до осени, чтобы свадьбу справить после уборочной.
– Только ли поэтому?
– Иных причин нет!
Он сказал это резко. Тане не следовало знать всех подробностей, но она по этой резкости уловила неправду и спросила настойчивее:
– Может, Павел Иваныч не желает принимать в свою семью меня? Именно меня!
– А ему-то какая забота? – попытался скрыть правду Володя. – Я женюсь, мой и ответ!
– Так ли? За моей спиной дед…
– Да хоть десяток таких дедов, как твой. Вот если бы ты происходила из рода Рокфеллеров или была бы родней королеве английской, так я бы сам еще подумал.
Оба засмеялись.
– Тебе не нужно думать о том, – серьезно добавил Володя. – Ведь мы станем жить у нас, а не у твоего деда…
– Мы с ним чужие, – без сожаления сказала Таня. – Если бы даже крайняя нужда заставила жить в его доме, то я постоянно чувствовала бы себя квартиранткой. Он мою маму жестоко обидел. Но ведь прекратить с ним родство невозможно. Может, у него в жизни уже просвету нет никакого? Вот и сегодня приехал. Разве прогонишь?
– Я не требую, – безоговорочно сказал Володя.
– Уж лучше не приезжал бы. Мне и так трудно. Скорей бы ты закончил стройку детсадика, перевели бы туда детей, а старый двор деда сломали. Я всегда молчала, не говорила тебе, Володя, а сам представь: каково каждый день перешагивать пороги тех горниц?.. И что люди думают обо мне? Ведь этот двор, как грязная печать у меня на лбу!
– Ну и глупо, – обняв и поцеловав ее в лоб, возразил Володя. – Сломаем двор, а ты станешь Гурлевой, и все эти мысли кончатся.
– И когда же?
– Может, примем совет отца и обождем немного? – не очень уверенно спросил Володя. – Хорошо бы отпраздновать свадьбу в Октябрьскую…
– Это еще почти три месяца ждать?
– Недолго ведь!
– А у невесты тем временем животик заметно припухнет, – насмешливо и недобро сказала Таня. – Ах, как красиво! – Затем нежно добавила: – Ведь ребеночек уже растет тут! Потрогай-ка рукой. И как раз к Октябрьской ему будет пять месяцев. Нет, Володюшка! Нет! Уж как я люблю тебя, а свадьбы справлять не хочу! Ради формы – это не свадьба. Кого обманывать? Лучше по-честному: запишемся и станем жить! У всех на виду.
– Ну, что ж, запишемся и станем жить, – согласился Володя.
– Тебя не беспокоит, как отнесется Павел Иваныч, когда узнает, что сноха явилась в его дом уже с «заказом»?
Она не печалилась от своего положения, беременность давала ей не то гордость, не то смелость для защиты того, кто еще должен появиться на свет и которого она уже заранее страстно любила.
– Имей в виду. Володя, я не вытерплю, если меня начнут унижать!
– Ты говоришь так, будто тебя уже оскорбили, – засмеялся Володя. – Отец если ругнет, то меня. А за мать ручаюсь – она слова не скажет! Мне очень хочется, чтобы ты вошла в наш дом, как входишь в свой, и отнеслась бы к моим родителям с тем же доверием, как к своей матери. Остальное наладится…
– Все-таки трусиха я, – тихо призналась Таня. – Вот так храбрюсь и думаю: за свою любовь хоть на тигра кинусь, а как придется переселяться к тебе, со стыда сгорю.
– Сгореть я не дам, – опять засмеялся Володя. – И до холодов мы у нас на веранде поселимся. Я уже о том бате сказал.
– А он как ответил?
– Нормально, – продолжал утверждать неправду Володя; с отцом еще ничего не решено, но уже нужно было хотя бы неправдой создать Тане доброе настроение. – Может, сразу пойдет еще не все ровно и гладко, пока не свыкнемся, и тут многое будет зависеть от тебя самой. Мне однажды мама сказала: «Ласковый теленок двух маток сосет!» Не держись букой, не прислушивайся к интонациям голосов. Проще говоря: живи! Завтра вечером я тебя заберу к себе…
– Дождаться бы, пока дед обратно уедет.
– Всех не переждешь! У тебя дед, у нас Чекан. А решили, так и быть по сему…
Ночной свежий ветер обдавал холодком. Они ушли с лавочки в глубину рощицы, в затишье, на мягкую траву, устланную опавшими листьями. А не глядя на темноту, мир продолжал жить: бунчали невидимые комары, за озером стрекотали комбайны, где-то в высоте прогромыхал вертолет, шумели деревья, хлестался невдалеке прибой, какая-то птичка цвинькнула меж ветвей. Но только любовь была глуха и самозабвенна…
Уже перед утром проводил Володя свою возлюбленную до ее домика. Дверь в сенцах открыл Тане Согрин и грубо бросил ей из темноты:
– Наблудилась, дура! К чему стремишься, распутница?
Услышав эти грязные слова, Володя сжал кулаки, рванул калитку и хотел кинуться к сенцам, чтобы объясниться со стариком, но Таня сама твердо и достойно ему ответила:
– Твоя ли это забота, дед? Не пекись об моей чести! Не надо!
«Ах ты развалина! – озлобленно подумал Володя о Согрине. – Я бы тебе показал «распутницу», будь ты помоложе! Нашел кого обзывать! Да такого деда впору в шею из дому прогнать, чтобы ничего не поганил. Можно представить, каков он был прежде. Зря мой батя не стал бы его отрицать!»
В своем отце он с детства привык видеть суровость и твердость, но то были суровость и твердость доброжелательные, а в том, что сказал Согрин, слышалась ненависть.
У себя на веранде, не зажигая света, не ужиная, Володя сразу уснул, кинувшись на диван.
В свое обычное время, в шесть утра, Павел Иванович, в одних носках, но уже одетый по-будничному, на цыпочках прошел мимо спящего в общей комнате Чекана, на веранде набросил на сына скинутое на пол одеяло, а затем, присев на сходцах крыльца, обул сапоги. Краешек солнца уже выглядывал из-за крыш. Все небо было опять запорошено тучками, снова бегут они быстро одна за другой в обгон, а с озера без перемен дует не напористый, но очень сырой ветер. Повернувшись лицом к нему и приложив к уху согнутую ладонь, Гурлев напряженно прислушивался. «Работают парни, – уловив далекий, достигающий сюда стрекот комбайнов, удовлетворенно заметил он сам себе. – Все же успеют!» Беспокойство ночью не отходило от изголовья постели. Так сразу сбежалось: и уборка ячменей, и ожидание ненастья, и Володька с его намерениями, и Согрин, и наметки генерального плана, привезенные Федором Тимофеевичем. А потом еще кинулось в голову неизбежное объяснение с Зубарем о поломанном графике. Только чуть прогляди, ошибись хоть самую малость, дай в руки повод – выговорит так, что свету не взвидишь! «Я ведь бывший кавалерист, меня из седла скоро не сбросишь, – заранее приготовил ответ Павел Иванович. – Голову срубишь, вот тогда упаду!» Зато о Прокопии Согрине ночью мысли только мелькнули и тотчас пропали. Еще вчера не поверил бы себе, как можно не простить, не забыть, а попросту, как пустое место, исключить такого человека из сегодняшней жизни. Изменил и отношение к Татьяне. Упрекнул себя: много лишнего, пока ничем неоправданного наговорил о ней сыну. «Плохи же мы, Гурлевы, будем, если ее в свою семью примем, а не пригреем, отпугнем холодностью и отрешим от нашего образа жизни, – подумал он сейчас утром, умываясь холодной водой из бочки, приготовленной для полива огурцов. – Ищи всегда причину в себе, если в доме порядку нет!»
Вынув из кармана записную книжку, написал Володьке поручение:
«С Федором Тимофеевичем сходи на объекты, все покажи, пусть он сам подскажет, где и чего не хватает. На обед приготовь щи, на второе строганину, как делает мать. Да, если станешь оборудовать себе жилье на веранде, так повесь занавески».
Почему непременно требовалось занавесить веранду, он сам вряд ли мог бы ответить, но это, наверно, был первый шаг, чтобы устроить быт молодых.
По всей улице еще лежали на земле длинные тени, а Софрон Голубев уже сидел на своем обычном месте у остановки автобусов. Солнце золотило его круглую лысину. Дымок от цигарки тонкой струйкой уносил ветерок. Проходя мимо, Гурлев шутливо спросил:
– Ну, чем сегодня богат?
Софрон мечтательно прищурился; низкий луч солнца ударил ему прямо в глаза.
– Сон привиделся интересный. Будто бы летал я как птица. Этак руками взмахну, вверх подброшусь и лечу. Через дома, через леса лечу-то, осматриваюсь вокруг, замираю от радости. И ничего мне боле не надо: кружить бы и кружить в синем небе, на землю смотреть.
– Начинаешь в детство впадать? Не рано ли?
– И сноха говорит – век мой кончается, полечу-де скоро на тот свет ногами вперед. Не верю ей. Тоже смеется над стариком.
– Ладно, продолжай кружить в синем небе, – пожелал ему Гурлев. – А что еще новенького?
– Варьку Крюкову в город отправили…
– Знаю!
– Веруха Пашнина, кажись, тоже засобиралась в отъезд. Приходила давеч сюда расписание смотреть.
– Испортит мне Митьку! – тихо сказал Гурлев. – Со своей любовью, как и Володька, время не знают.
– Ты чего баяшь, Павел Иваныч? – недослышал Софрон.
– Да все, говорю, не ко времени! Веруха-то помогла бы родителям в огороде прибраться. Куда спешит?
– Мужик, кажись, ей письмо прислал. Требует! А сама-то она невеселая. Всю ночь ревела, поди-ко! Аж глаза опухли. С того ревет Верка, что мужик в тягость. Не в масть мужик ей попался!
– Сама виновата, – сочувственно заметил Гурлев. – Судьбу себе поломала, выхода не найдет, тычется по углам, как слепой котенок. И ведь тоже жалко ее! Мучается, небось, как при трудных родах. Варвара Крюкова нынче ночью чуть не скончалась. Кабы не помогли…
– В одиночестве оставаться нельзя ни в каких положениях, – сказал Софрон. – Помнишь, Павел Иваныч, как с той одинокой жизни я чуть себя не решил? А теперь вот, на старости лет, пошто торчу здесь на виду у людей? Пото и торчу, что дома, в четырех стенах сидя, стал бы беспрестанно о смерти думать. Она ведь, тяжесть-то, на одних плечах завсегда вдвое тяжелее. Зато на виду-то у людей – жизнь…
– Только не всякий ее понимает, как надо!
– Кого?
– А жизнь-то! Верка Митьку Холякова любит давно. Сговориться не могут. И любовь ихняя сейчас не ко времени. Митьке-то предстоит в поле работать день и ночь, а каков из него станет работник, если Верка уедет?
– Да ведь как сказать: ко времени или не ко времени, – не согласился Софрон. – Сроков-то для этого занятия нету. Вот хлеб созрел, так надо прибрать его вовремя, а любовь время не знает. И погода ей нипочем! Люди бают – рожать и любить нельзя погодить! Притом, что она означает? По моему понятию, так хлеб и любовь – это всему начало начал. Коли от того и другого нет удовольствия, то все остальное от рук отвалится и его можно заране похерить. Сытому да во взаимной жизни будет в простой избе хорошо и светло, а голодному, брошенному и в царском дворце будет худо. Вот Прокопий Согрин явился сюда на побывку…
– Мы с ним уже виделись!
– А заметил ты, Павел Иваныч, какая у него тоска в глазах? Вид вроде бодрый, устроенный, но в голосе и во взгляде голимая тоска! Пригреться-то негде. Умрет, так добрым словом помянуть его некому.
– Сходил бы ты к Верке, Софрон! – чтобы не говорить о Согрине, попросил Павел Иванович. – Уломал бы ее покуда задержаться здесь. Мы ей работу найдем.
– Схожу, коли такая нужда. Не знаю, послушает ли?
Уже многие годы по утрам, в эту пору Гурлев начинал свой рабочий день с обхода хозяйства. Сначала в поскотину, на молочно-товарную ферму, на птичник, затем в телятник, в ягодный сад, в мастерские к механикам и только оттуда в правление. По пути записывал свои замечания, просьбы и требования колхозников, чтобы ничего не забыть и немедля решить. Так экономил время свое и чужое. Создавал порядок, твердую дисциплину для себя и для других. Сначала слышались недовольные шепотки: «Все сам ходит досматривает!», но постепенно это вошло в обычай, стало привычным, даже необходимым. Никому не приходилось часами высиживать у председательского кабинета в правлении. И все были уверены: если Гурлев сказал, то сделает! Однажды Зубарь с насмешкой заметил: «Ты, Гурлев, слишком уж положительный! Авторитет зарабатываешь, чтобы из председательского кресла не вылететь!» Тогда Павел Иванович нашелся ответить: «А я таких выражений понимать не хочу! Откуда вы взяли, что положительных совсем не бывает? Если коммунист выполняет свой партийный долг, а руководитель стремится быть ближе к людям, то разве непременно ради авторитета? Без души заработанный авторитет можете оставить себе, а я уж как-нибудь по-своему, по-деревенски обойдусь обыкновенным доверием. Мы живем просто!» Так славно ответил, даже сейчас вспомнить приятно! И правильно! Смолоду не различал: где дело большое, где малое? Всегда больше полагался не на право, не на власть, а на свое сердце. Уж оно-то никогда не обманет, не выдаст. Сначала помоги, вникни, потом требуй – вот оно как велит! И потому такое оно, что как колос вызрело на земле.








