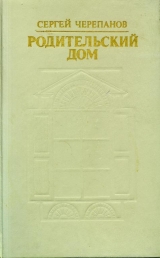
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
17
Сразу из церкви Ульяна навестила старуху Лукерью. В эту пору старухин постоялец работал в читальне, и побыть с ней наедине никто не мешал. Лукерья, хорошо знающая ее несладкую жизнь с Гурлевым, нимало не удивилась просьбе дать приворотное снадобье.
– Только, милая ты моя бабонька, никакое снадобье и наговор на твово мужика не поможет, – предупредила она, опасаясь, как бы Ульяна не натворила беды. – Это ведь не то, чтобы он полюбовницу завел да начал тебе изменять, либо картежничать и из дому добро тащить! А такого особого наговору, тем более трав и настоев супротив партейных дел я сроду не слыхивала. Разве ж его повернешь, разум-то, заворожишь?
– Неужто всему попуститься, баушка?
Отчаяние и страдание бабы, избороздившие ее лицо, все же тронули отзывчивую Лукерью.
– Впрочем, можно попробовать. Но прежде возьми-ко вот иконку божьей матери, поклянись исполнять в точности, как будет приказано и от себя малости не добавлять.
– Святой иконой клянусь, баушка, – загорелась надеждой Ульяна. – Будь я проклята, ежели твое наущенье нарушу.
– Веничком мы твово муженька попарим, веничком! – охотливо заговорила Лукерья.
Нашлась старуха: веник не зелье, с него еще ни один мужик не отправился на тот свет.
Веник березовый принесла она из сенцев, обычный банный, заготовленный на зиму. Добыла из печи каленый уголек, побрызгала через него на сухие листья. Укрывшись под занавеску, долго, неясно шептала какое-то заклинание. Ульяна, вытягивая шею, вслушивалась, пыталась понять. Глубока и велика была ее боль. Горше, чем от загубленного счастья с Гурлевым, от его небрежения к домашности, оказалось теперь сознание вины перед ним из-за первого мужа. Каждая жилка в ее теле трепетала от страха. Как бы плох ни был Гурлев, а ведь только с ним испытала она радости и просветы в своей темноте. Все простила бы ему, половиком бы пала под его сапоги, только не бросил бы он ее, не вернул, как подержанную вещь, нелюбимому и ненавистному человеку. С тех пор, как принес Егор Горбунов весть, ни одной ночи не провела Ульяна в спокойном сне; до прихода Гурлева, всегда усталого и неласкового, металась по избе, прислушиваясь. Страх же погнал ее и в церковь замолить грех двоемужества, упросить бога не допускать Барышева к ее избе, образумить Гурлева и наставить его к продолжению семейной жизни. Но пока соберется бог, надумает чем-то помочь, на ожидание не оставалось терпения. Каждый час могло разразиться несчастье. Поэтому-то, прибегнув к знахарству, Ульяна и старалась все доглядеть, услышать, запомнить.
Лукерья перестала жужжать под занавеской, откинула ее и, подавая наговоренный веник, предупредила:
– Баньку истопи, бабонька, завтра же.
– Так завтра не суббота.
– Ты все же истопи баньку, найди причину. Двадцать три поленца березовых надо в каменке сжечь и сверх них еще одно поленце осиновое. А мужика-то одного в баню не посылай, сама с ним пойди, уложи на полок и веничком попарь. Пуще парь-то по пяткам, по пяткам, матушка моя, и про себя приговаривай: «Не ходите, ноженьки, куда не след, не носите в дом чужой грязи, чужих порогов не обивайте! Уж я ли вас не обихаживаю, я ли в чисту постельку вас не укладываю, я ли добру мужу не верна жена!» Напаришь, натешишь вдосталь, так и рубаху помоги надеть да пуговки на рубахе сама застегни.
– Не забыть бы наговор-то…
– Затверди, милая! Опосля бани веник выбрось за угол, затопчи в снег поглубже. Потом, в избе, дорогому-ненаглядному рюмку водки подай. Пусть с устатку поправится.
– Не пьет он совсем!
– Какой же мужик не пьет?
– Партейный ведь! Близко не допускает.
– Так кваску ему ядрененького поднеси. Непременно после бани испить надо…
Обнадеженная Ульяна бережно завернула веник в подол юбки, а в награду за услугу подала Лукерье серебряный рубль. Та деньги не взяла.
– Потом заплатишь, бабонька, потом, коли проба удастся. Не люблю брать наперед.
Проводив ее, Лукерья утешила себя: «Всех жалко! Но дуру-то эту еще жальчее. Заморилась-то как! Извелась-то! И того понятия нету, что мужа, ежели он врозь живет, ничем не удержишь. Самой надо бы пришатнуться к нему, не лаяться, коли чего не по нраву. У мужика свое рассужденье, ты же тянешь на свою сторону. Вот тебе и развал, неудовольствие, ссоры-перекоры, потому как супротив мужнина рассуждения тебе выставить нечего: ни лица румяного, ни тела гладкого, ни ума! Да вдобавок и меня в грех впутала, экую срамоту ради жалости пришлось сочинить!»
Боязливо оглядываясь, замирая – не хоронится ли Барышев где-то в темноте, не ждет ли ее, – Ульяна пробралась в свою избу, закрылась на все затворы.
Лампу не зажигала, наспех поела холодной пшенной каши, потом до полуночи сидела на печи, отгоняя угрозу: «Может, соврал Егор! Откуда мог прознать он про Павла-то Афанасьича? И пошто же, если Павел Афанасьич живой, здоровый, в село не является?» Называла она Барышева не мужем, а только по имени-отчеству, как чужого, иначе пришлось бы признать его право на возвращение к ней. Наконец твердо и уверенно она сказала себе: «Не пущу! Сколько лет вестей не подавал, где-то скитался, поди-ко, так и другую семью успел завести, а я одна тут бьюсь, мыкаю горе, недопиваю-недоедаю. Ничего ему здеся не причитается! Пусть отваливает! Не пущу!»
Тем тягостнее показалось ее одиночество, пустота в избе. С трудом дождалась, когда Гурлев, справив дела в сельсовете, вернулся наконец ночевать. Ходики, тикающие на простенке, показывали время далеко за полночь.
Гурлев разулся, бросил портянки на печь, устало зевнул:
– Слышь, Уля! Я часа два-три сосну, а ты достань из сундука и приготовь мне на утро праздничные шаровары и чистую рубаху.
– С какой это радости? – угрюмо спросила Ульяна. – Опять уж куда-то собрался, а дома полный двор снегу, некому подгрести и убрать.
– В райком вызывают! С почтой бумага получена. Велят лично явиться, вместе с избачом.
– Поезжай послезавтра. Поутру-то я баню истоплю, попаришься, отмоешься и тогда все чистое на себя наденешь.
– Суббота скоро…
– В субботу истоплю баню своим чередом. Занашиваешь ты белье, отстирать невозможно.
– Нельзя не ехать, – отрезал Гурлев.
Чувствуя себя виноватой перед ним и понимая, что сейчас он единственная ее опора, Ульяна предпочла не спорить, не выговаривать.
– Плохо мы с тобой живем, Паша!
– Хуже некуда! – согласился Гурлев. – Не душа в душу. Я вот уж который день замечаю, как ты вроде бы сама не в себе. Даже ругать меня перестала. То ли захворала? То ли решилась на что-то?
– Поживи-ко с таким, как ты! – горестно и в то же время уклончиво сказала Ульяна. – Какое терпение-то надо!
Он тоже мог бы ответить ей: «Поживи-ко с такой женой!» Но разве залог только в терпении? Недавно в читальне мужики завели разговор: ладно ли живут они с бабами. В чем оно состоит «семейное счастье»? Одни говорили: бабы призваны ублажать мужей и рожать! Другие настаивали, будто баба в жизни – вообще человек лишний, навязанный мужику: сначала по молодости лет он ее любит, а потом живет по привычке, терпит, не видя иного исхода. И вот тогда Федор Чекан разбил их отсталые мнения. «То не семейная жизнь, если в ней нет мира, согласия, дружбы, взаимного понимания! Нарожать детей может каждая зверюга, самая неразумная. Попробуйте-ка детей вырастить, выучить, воспитать настоящими людьми, которые бы не презирали и не считали труд в тягость, а находили его первейшей надобностью и радостью и которые бы вас, отцов и матерей, приветили в старости! Одним терпением не одолеете, а наглядевшись, как вы помыкаете женами, как с ними не ладите, пойдут ваши детишки вразброд, всяк по своему разумению. И как же сделать, чтобы в семье был порядок? Ты поднялся, так помоги же и дорогой тебе женщине подняться, поставь ее и возвысь с собой в уровень, дели все заботы и радости пополам».
Это он высказал тогда хорошее, правильное представление о женщине, и Гурлев запомнил все почти слово в слово, только применить к Ульяне еще никак не собрался.
– Опять, кажись, ты в церкву стала похаживать? – спросил ее. – К чему так?
– Муж не любит, так, может, бог пожалеет!
– А меня конфузишь перед народом.
Надо было бы ее пригреть и сказать ей много хорошего, доброго, как советовал избач. Ведь много ли надо двоим-то? Детей нет и не будет, вовремя не могли нарожать, теперь совсем надеяться не на что. А на двоих, что есть, хватит с избытком! И все же не смог протянуть к ней сейчас руки, хотя бы обнять ее, не находя силы переступить через нахлынувшую к ней отчужденность.
Встал он с постели еще затемно, надел праздничную одежду и торопливо ушел. У крыльца сельсовета дожидалась подвода. Дежурным подводчиком, по подворной очереди, оказался Софрон Голубев.
Пегая проворная лошадь, впряженная в сани-розвальни, сразу пошла ходкой рысью.
Гурлев уступил место Чекану, чтобы тот мог в тулупе поудобнее лечь вдоль саней, а сам устроился рядом с подводчиком, у облучка.
Погода не прояснилась. Порошило по-прежнему. За выгоном, когда открылись поля и березняки, Софрон оживленно и радостно заговорил о предстоящей весне. Глубокие снега обещали хороший урожай хлебов и трав. Гурлев тоже увлекся. За их обоюдной любовью к земле, в их заботах о плугах и боронах, в восторженном ожидании прилета грачей и скворцов угадывалось проявление древнего инстинкта, которое заставляет птиц возвращаться на родину из дальних стран, вить гнезда, выводить потомство. Чекан заметил при этом, что Павел Иванович ни разу, ни единым словом не обмолвился лично о себе, о своем хозяйстве, о своем поле, а говорил то об Иване Добрынине, то о безлошадной Дарье, то о Михайле Суркове, то о Савеле Половнине. Почему, к примеру, Михайло не смог бы помочь слабому здоровьем Ивану? У него две лошади, зато у Ивана есть исправный плуг, не самодельный, как у Михайлы, а с челябинского завода. Можно же сложиться и совместно вспахать, заборонить, засеять пашни! Казалось, то облегчение на тяжелых весенних работах, которое он придумывал для каждого из них и находил исполнимым, и самому Гурлеву доставляло радость.
Рассвет в эту зимнюю пору начинался поздно, к восьми часам утра чуть-чуть брезжило. Вблизи Калмацкого пурга поредела, в безветрии над крышами дворов подымались дымовые столбы, в окнах пламенели причудливые отсветы огня из топившихся русских печей.
Софрон на рысях подкатил розвальни к воротам двора райкома, лихо осадил лошадь.
В приемной, притулившись в угол, дремал давно не бритый, не стриженый, квелого вида мужик. Антропов где-то задержался, а мужик хотел попасть только к нему. Оказался он давним знакомым Гурлева, секретарем партячейки из соседней деревни. Они справились друг у друга о здоровье и начали рассказывать о своих сельских делах. Гурлев похвалился успешной заготовкой хлеба и хорошим началом ликвидации неграмотности взрослого населения, зато его знакомый, понурив голову, безнадежно махнул рукой.
– А я смучился. Вот приехал к Савелию Алексеичу отказываться. Не в силах больше! Пусть отстраняет меня от ячейки, покуда ничего не случилось. Подметные письма привез. Вота, Павел Иваныч, гляди-ко! – И, вывернув из кармана пачку бумажек, рассыпал по коленям. – Что ни письмо, то угроза! И ведь чем угрожают-то: спалим, сничтожим, все твое семейство загубим! Как дальше жить?
– Значит, ты струсил? – помрачнел Гурлев.
– Жизня у меня одна, другую никто не даст!
– Да на кой она пустая-то нужна?
– Куда же семейство девать?
– А мне разве легче приходится? Айда попробуй, влезь в мою шкуру! У тебя хоть семья…
– С бабой не ладишь?
– Кабы только с ней! Такая история, дальше уж некуда…
Он сжал губы и недосказал, что у него было самое горькое, несравнимое с опасным положением друга. Чекан знал о нем все, Гурлев обычно жил жизнью открытой, но вот эта неожиданно выпавшая фраза, на половине оборванная, снова выдала какую-то тягость, в себе затаенную. Какую же? И почему он ее скрывал? А может, и нет ничего, просто понадобилось утешить товарища. Тогда зачем же вид такой хмурый? Весь путь от Малого Брода вместе с Голубевым строил планы на вёшну, тут же, заговорив с другом, сразу спину ссутулил, напряг шею, сузил глаза.
Два часа прошло в томительном ожидании. Лицо Гурлева постепенно разгладилось, приняло прежнее спокойное выражение, и вошел он в кабинет Антропова, снова уверенным в себе. Тот молча поздоровался, пригласил сесть.
– Тебя и Чекана я просил приехать по важному делу. Не знаю даже, как приступить… Лично тебя касается!
– Говори, – еще глуше выдавил Гурлев.
– Милиция сообщила мне кое-чего из расследования: «чужой» человек, о котором ты мне догадку высказывал, – уже не догадка. Он реально существует и действует. Только неизвестно пока, где скрывается. Но мы знаем, кто он такой…
– Барышев, – угрюмо добавил Гурлев. – Первый муж моей Ульяны.
Антропов удивленно оглядел его.
– Это хорошо, если тебе тоже известно. Так разговаривать легче. А я-то решил – оглушу новостью.
Зато Чекан почувствовал себя действительно оглушенным. И с горечью подумал: «Как же это такое случилось?»
Антропов обождал, пока напряжение ослабнет, затем осторожно и участливо предупредил:
– Надеюсь, Павел Иваныч, ты знаешь разницу между личными делами и партийным долгом. Напоминать не придется. С женой-то как поступил?
– А никак! – с трудом выдавил Гурлев. – Зачем ей прежде времени знать. Не она же бандита пригрела… И вообще, не знает никто.
– Конечно, зря трезвонить не надо, – согласился Антропов. – Следует обойтись без суеты, без шумихи. Не тревожить население. Милиция уже вышла на след Барышева и, надо полагать, быстренько его приберет. Однако и мы отстраниться не можем. Помочь надо милиции по возможности. Сколько у вас найдется вооруженных людей?
– Партейцы все с оружием, – ответил Гурлев.
– Значит, всем придется принять участие.
– А комсомольцев и беспартийный актив можно привлечь?
– Это уж сами решите. Наверно, придется расставлять посты, понаблюдать, не появится ли у кого-нибудь Барышев. Ведь с кем-то он связан, кто-то ему помогает. Коллективно обдумайте, при том имейте в виду, что бандит может укрываться не только у ярых кулаков, но и у мужиков, которые находятся под их влиянием. Только уж, пожалуйста, Павел Иваныч, будьте осторожны и осмотрительны. Не зайца придется ловить. Барышев, судя по разгрому обоза, вооружен обрезом. Без милиции излишнюю инициативу не проявляйте!
– Как скажет наш участковый Уфимцев, так и будет, – подтвердил Гурлев. – Постараемся взять бандита живым.
– Но сам не рискуй, – приметив его самоуверенность, предупредил Антропов. – Ваше дело помочь…
– В опасные места своих товарищей посылать не стану, – вскинул голову Гурлев. – Беда эта ко мне ближе и прятаться от нее за чужие спины я не намерен.
– Экий ты, Павел Иваныч! – откинувшись на спинку стула, недовольно сказал Антропов. – Зачем так храбришься? Уж тебе-то, секретарю партячейки, надо уметь проявлять выдержку, иначе наломаешь дров. Я потому и позвал сюда вместе с тобой Чекана, что беда свалилась на вас не частная, а общая, и потому ответственность не на тебе одном, а на всех ваших партийцах. Вот вместе с Федором Тимофеичем и действуйте. Один ум хорошо, а два лучше! Повторяю: ответственность у вас коллективная, и непременно каждый шаг ваш должен быть согласован с милицией.
Гурлев вдруг рывком встал со стула, сделал шаг к дверям.
– Если во мне лично сомневаешься, так позволь уйти.
– Сядь и не дури! – строго приказал Антропов. – Не то, действительно, отстраню!
Гурлев вернулся на место и замкнулся, нахмурив лоб. Вместо него разговор с Антроповым продолжил Чекан. Вскоре зашел в райком начальник районной милиции Буньков и, по просьбе Антропова, дал подробные указания. К концу беседы Гурлев несколько успокоился, перестал хмуриться и напряженно сдвигать брови, но Чекан все же требовательно спросил у него, когда они вышли из кабинета в коридор и стали собираться в обратный путь:
– Это как же понимать тебя, Павел Иваныч? Ты один, что ли, хотел справиться с Барышевым? Или только мне ничего не сказал. Но тогда хоть объясни: почему? Или я не достоин доверия?
– Я сам узнал только вечор, – нехотя бросил Гурлев. – И не приставай покуда. Тут дело-то посложнее, чем кажется…
– Так расскажи! Ты же слышал – ответственность коллективная!
– Мало ли что! Всему свое время, – уклонился Гурлев.
Всю обратную дорогу до Малого Брода он, закутавшись в тулуп, не проронил ни слова. Софрон сел поближе к облучку розвален и, погоняя лошадь кнутом, изредка сочувственно косился на седоков, понимая, что настроение у них чем-то испорчено.
18
В ту же ночь, как и советовал в райкоме Антропов, по всему Малому Броду были расставлены вооруженные посты. Вглядывались в каждого, кто появлялся на улицах и в переулках. Таились у кулацких дворов, прислушиваясь. Федор Чекан вместе с комсомольцем Сорокиным почти до утра мерз за стожком сена в огороде Саломатовых. Даже согреться не удалось. Иванко предлагал засесть в баню, она стояла как раз на середине переулка, из ее оконца хорошо просматривались подходы к задним воротам двора, но сюда наведывались после вечерок парни с девками, и пришлось отказаться. Переминаясь на снегу, горбясь от холода и снегопада, Чекан вспоминал Аганю и вечерку в избе у Дарьи. Катька опять зазывала туда, говорила, будто Аганя спрашивала о нем, а на его слова о «неровне» заметила: «Это ведь иным парням для начала так приходится отвечать. Допусти-ка вас, дай-ко волю, от девичьей-то чести черепки лишь останутся!» Сходил бы снова туда, поплясал с ними, сдружился ближе, а вот приходится торчать тут, проводить время, которое уж никогда не воротишь. А как же поступать иначе, не скажешь ведь – вот это могу делать, а это не хочу! Надо, значит, и разговора не может быть. Надо, в той же мере, как и заготовлять хлеб, как читать мужикам газеты, как писать неграмотным бабам письма к их родственникам, как организовывать в клубе танцы и работу драмкружка. Ведь все это ведет к одной цели – к судьбе деревенского мужика, который, получив свободу и землю, еще стоит в раздумье на пороге новой жизни. А чтобы он не сомневался ни в чем, чтобы занимали его не только заботы о достатке и хлебе, но и о месте в обществе, надо еще его избавить от страха, от нависшей над ним угрозы. Но только непонятно было, что еще, очевидно связанное с Барышевым, не высказал Гурлев, почему отмахнулся: «Дальше сказать не могу!» Вот это непонятное и тревожило Чекана. Даже вернувшись с поста и отогревшись на теплых полатях, где Лукерья постелила ему постель, он еще долго не мог уснуть. Да и на следующий день, зная твердый характер Гурлева, не потребовал у него объяснений, хотя позднее стало ясно, что нужно было на своем настоять…
Вел следствие участковый милиционер Уфимцев. Высокий, присогнутый, как надломленная камышина, был он скуп на слова, нетороплив и каменно невозмутим. У него уже скопилось много материалов допроса, а никто из партийцев не знал, насколько он далеко продвинулся. По-видимому, ставил он в известность одного Гурлева, с ним что-то наедине обсуждал, и Чекан решил, что именно от него узнал Гурлев о Барышеве, а распространять подробности не позволяет милицейская практика. Поэтому не стал ни о чем допытываться и у представителя закона, хотя тоже стоило бы проявить настойчивость.
Взяли под особый надзор двор Окунева. Уфимцев приехал в Малый Брод уже в сумерках и коротко известил:
– Утек Барышев-то. Прямо из наших рук ускользнул. Скрывался в Калмацком. Ждите его здесь. Может явиться к Евтею Окуневу.
– Ты так полагаешь? – спросил Чекан.
– Я не могу полагать, – уверенно ответил Уфимцев. – Есть сведения. Больше ему некуда деться.
На пост у двора Окунева хотел идти Гурлев. Сгоряча он мог попасть под пулю бандита. Чекану пришлось напомнить ему, что Антропов велел работать в полном согласии, один на один ничего не предпринимать. Гурлев все же не отпустил Федора одного, дал в напарники деда Савела, надежного при его могучей силе. Уфимцев при этом строго предупредил: если появится Барышев, не пытаться его брать, а тотчас же известить сельсовет, где должны были дежурить Гурлев, Холяков, Бабкин и братья Томины.
Жил дед Савел из окон в окна с домом Окунева, во дворе, принадлежащем до революции Гермогену Казанцеву. Вселил его сюда сельский Совет в девятнадцатом году, когда бывший хозяин, повинный в гибели сына деда Савела при колчаковцах, куда-то скрылся вместе с семьей. И хотя любой справедливый человеческий закон, писаный и неписаный, утверждал право Половнина на это владение, он часто порывался обратно в свою брошенную древнюю избу.
– С превеликой охотой помогу тебе, чем возможно, – согласился дед, когда Чекан пришел к нему вечером и передал поручение Гурлева. – Эту язву, Евтея Лукича, надо бы давно прибрать к рукам. Ростичком с вершок, одним плевком можно умыть, а шибко зловредный.
Дед садился за стол ужинать. На простенок падала, подпирая полати, его огромная тень. Лампа, потрескивая, высвечивала то широкую дремучую бороду, то обросший волосинками и словно опухший нос, то сугорбую спину и мосластые плечи.
В окно хлестала пурга.
Старуха подала на стол хлебное крошево с квасом, знаком пригласила Чекана, дескать, присаживайся рядом с дедом, бери ложку. Чекан отказался, есть не хотелось.
Договорились присматривать за двором Окунева с двух сторон. Савел мог не выходить из избы, прямо из своего окна наблюдать, а Чекан вышел на улицу и, заслоняя глаза от снежных хлопьев, направился в переулок…
В этот день Окунев был в нетерпении. Он обыскал конюшню, амбары, завозни и погреба, а залезть на сеновал не догадался.
Аганя пряталась там, не выпуская из рук вилы, и слышала его ругань. Евтей обзывал ее скверными словами, потом накинулся на Сашку, почему тот без спроса посмел выйти на крыльцо, и загнал его обратно в дом.
В сумерках, когда сильно запорошило снегом, приехал в гости мельник Чернов с сыном.
Сквозь дырявую застреху Аганя видела, как мельник легко выпрыгнул из кошевы, раскорячиваясь, размял ноги и поздоровался с хозяином рука в руку.
Мельников сын Гераська, парень лет девятнадцати, в новой дубленой шубе, отороченной черной мерлушкой, прыщеватый и толстогубый, позевывая, слез с облучка, распряг буланого жеребца и поставил его под навес кормиться.
Аганя дождалась, когда стемнело, пробралась в малую избу и, не зажигая лампы, собрала в узелок свои пожитки.
Больше двух лет прожила она тут. Привез ее Евтей Лукич из дальней деревни Грачевки, вроде бы приютил сироту.
– Уж вы, граждане, не извольте сумлеваться, – заверил он тогда грачевских мужиков. – Я хотя и не ближний сродственник, но девку на ноги поставлю, к жизни определю не хуже своей. Будет вместо дочери. Как заневестится, то и приданое ей приготовлю.
И никому невдомек было – не то говорил, о чем думал, этот плюгавенький, костистый мужичок, с вылизанной во всю голову лысиной. Позднее поняла это Аганя. Рассчитывал Евтей на даровую работницу, которая будет работать на него без договора с батрачкомом, а пуще всего обзарился на лакомую ягодку, какой оказалась семнадцатилетняя сирота.
– Ух ты-ы, окаянная! – с изумлением вымолвил он, увидев ее.
Ютилась она у Окунева в малой избе, вместе со стариком башкиром Ахметом, который однажды задолжал хозяину и уже несколько лет подряд не мог свой долг отработать. Хоть и был у них договор, заверенный в сельсовете печатью, но обманывал Евтей Лукич при расчетах.
– Ай, худой мой дела, – жаловался прошлой весной Ахмет. – Робим, как грузовой конь, и спим мало, ашаем мало, только чай пьем – вся без толку. Вот уж рукам болит, ногам болит, а деньга на один глаз посмотреть нету. Неправдашний счет Евтейка ведет, туман пускает. Как-то мой старуха бывал здесь, запас дома кончал. Я тогда у хозяина мешок муки выпросил, ягненка да три рубли, чай купить. Латна, взял, а для памятка тогда же зарубка на палка делал. Верный зарубка. А Евтей баят – нада его тетрадкам верить. Бумагам врать-та никак не может, а твой зарубка, баят Евтей, неправильный, смешной, хоть в сильсавитам айда ступай, там кажи, голимый стыд! К Новый год нада расчет давать, Ахметка домой пускать, своя деревня, старуха шибко зовет. А опять нельзя. Евтей бумагам читает: то Ахметка брал, другое брал – ват расчета нету опять, новый долг нарос-та. Худой дела совсем!
Но жаловаться на хозяина в сельсовет не шел.
– Не можна жалоба тащить. Я долг брал, то слово давал. Крепкий слово! Мой деревня всякий потом пальцем казать станет: «Э-э, Ахмет, твой слово никуда!»
Глафира, жена Окунева, заживо высохшая, замученная хворобами, часто кричала по ночам.
В такие ночи их единственный сын Сашка, тоже хворый, ненадежный для жизни парень, выбегал на крыльцо дома, садился на ступеньки и, обхватив голову руками, плакал навзрыд.
Евтей бил его жестоко ременным кнутом.
Вся жизнь Агани в этом дворе была в непрестанном ожидании какой-то большой беды. А уйти отсюда, как и Ахмет, не решалась. Если тот боялся запятнать совесть, то и Аганя не могла переступить ее, чтобы никто не осудил. Нашлись бы люди в Грачевке и Малом Броде, укорили бы: вот, мол, состоятельный мужик ее приветил, хотел стать отцом и наставником, а она его оконфузила. Так и работала тут за стряпуху, за работницу, по всему хозяйству управлялась, ни зимой, ни летом дальше двора почти нигде не бывала.
Пока она окончательно не выправилась и не вошла в фигуру, Евтей Лукич лишь жмурился на нее да изредка будто невзначай гладил ладонью по спине и не ругал, если заставал ее вдвоем с Сашкой.
Аганя сочувствовала тихому, всегда печальному горемыке. Тот привязался к ней, приник, потом полюбил так же тихо, печально и покорно, как жил.
Аганя ужаснулась, когда это заметила, но жалеть Сашку не перестала, попросила его ни о чем таком ей не говорить и ни на что не надеяться.
Перед пасхой, когда Агане исполнилось восемнадцать лет, Евтей Лукич затащил ее в баню.
В отчаянии она вонзила зубы ему в ухо, он заорал, а в это время Ахмет, услышав шум, открыл дверь:
– Ай, Евтей, шибка не латна! Зачем этакой баской девкам портить? Сильсаветам узнаит – каталашка посадит, строгий закон-та осудит.
– Зашибу! – заорал Окунев. – Прочь отсель!
– Шайтан мало-мало играет, – загородив собою Аганю, сказал Ахмет. – Нельзя шайтан волям давать!
Прокушенное ухо вскоре зажило, но Евтей Лукич больше не приставал, даже старался задобрить Аганю подарками.
Однажды летней ночью, когда Евтей Лукич остался с Ахметом на дальнем поле, Сашка до рассвета сидел у Агани в малой избе на лавке, рассказывал о своем житье.
– Сами они, мать с отцом, таким меня выродили, да с пеленок на колотушках вырастили. Мать у меня падучая, ее во сне черти душат, и пена у нее изо рта пузырится, а отец оборотень. Я много про него знаю, много…
Такого страху нагнал, Аганя глаз сомкнуть не могла две ночи подряд. Потом, оставаясь одна в «малухе», начала закрывать дверь на крюк. А ложась спать на полати, брала с собой ножик, прислушивалась к каждому шороху во дворе.
Но, может быть, сам по себе, то ли Ахмет надоумил, по ночам стал ее охранять Сашка.
– Бросай двор, Аганька, – посоветовал недавно Ахмет. – Шайтан шибко над Евтейкой воля взят. Совесть моя торговал Евтейка-то: ты, баят, Ахмет, молчи! Не нада девка жалеть! Молчать будешь, бумагам порвем, долгам крест кладем, деньгам дарим, в свой деревня гуляй любой вримя! Баят, беспременна девка иметь нада. Свой баба. Глафира, балной, тощий, а девка приручать нада: баба не станет, молодой хозяйка нада! И сильсаветам, однако, булна боязно! Нынешний-та закон строгий булна. В старый вримя девка баням тащил, своя охотка тешил, это нисява, царский закон такой дела не смотрел. А сильсаветам к богатый хозяин злой: каждый десятина посевов ущитываит, казенный книгам пишет, шибка балшой налог гребет, зерно велит сдавать потребительный лавкам. Э-э, а за обидам девка может и тюрьма тащить! Кому охота сидеть-та? Лучше полюбовна сойтись! Молчи, Ахмет! Порченый девкам поревет, а с жалобой не пойдет никуда, стыдна будит. А я сказал: нету, Евтейка, вся равна не можна так! Отпускай Аганька добром! Я тоже, кажись, двор бросать стану.
И признался полушепотом:
– Другой деревням Евтейка часто гулять начал. Глухой ночной пора, самый сон, а Евтей коня уздаит и верхом куда-то – айда пошел! Как варнак – вор! Зачем? Ахмет стар человек. Не дай аллах, из-за такой блудливый хозяин каталашка сидеть…
На вот уже несколько дней пуржило, метелило, гнало позёмку по сугробам, и сам Евтей Лукич безвылазно сидел дома.
Уж не тем ли она себя выдала, что, приняв решение вернуться в Грачевку и как-нибудь там обосноваться, стала спокойнее, доила коров, поминутно уже не озираясь, ходила за отсевками для кур и гусей, не вглядываясь в сумеречные амбарные закоулки. Или же сам Евтей почуял в ней перемену? Как бы то ни было, а отправил он Ахмета на мельницу, снял с дверей в малой избе железный крюк, Глафиру с Сашкой закрыл в доме и, если бы не успела Аганя спрятаться на сеновале и не приехал в гости мельник, произошло бы, наверно, что-то непоправимое…
Темнота наваливалась все гуще и плотнее. Шуршала по железной крыше снежная пороша.
Сквозь пургу тусклым желтым пятном расползался по двору свет семилинейной лампы, которая была зажжена в доме для гостя. Из окна свет сыпался на ступеньки крыльца, где виднелся открытый вход в сенцы. Этот вход насторожил Аганю. Она уже вышла из малой избы, но с опаской прижалась за угол.
В сенцах на мгновение пыхнул огонек, потом на крыльцо вразвалку выплыл Гераська, отряхнул ладонью шаровары и громко выругался:
– Вот погодку дождались!..
За ним, как тень, через порог перешагнул Сашка, притулился плечом к дверному косяку.
– Никто вас не гнал сегодня, – сказал Сашка. – Эка неминя! Могли погодить.
– Значит, неминя! Гребтится бате.
– Я бы все равно не поехал. Провались оно…
– Так это ты, а не мы, Черновы!
Сашка не ответил. Гераська носком сапога смахнул со ступенек голик, сплюнул цигарку в снег и, растягивая слова, лениво спросил:
– Отчего смутной, Саньша?
– Я сегодня с утра богу молюсь, – еле слышно отозвался тот. – Наказал он меня, бог-то, с рождения, ну я ему молюсь все равно, чтобы больше с меня не взыскал…
– Вот чудной! – засмеялся Гераська. – Чем богу поклоны класть, жрал бы в три брюха, наводил бы тело да с девками баловался. Эвон, какая краля у вас в батрачках!
– И вовсе не батрачка она!
– А кто?
– Сродственница из Грачевки. Отец, баят, в дочери взял.
– А пошто она в малухе вместе с Ахметкой живет? Кабы удочерили, так поселили бы в доме. Значит, враки. Коснись ближе, твой отец блудит с ней, пока ты слюни пускаешь.
– Не смей про Аганю плохое болтать, – неожиданно громко и резко прикрикнул Сашка, протянув тонкие руки, чтобы схватить Гераську за грудь. – Не доводи до греха!








