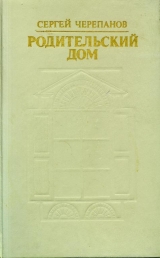
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
3
За Межевой дубравой, у проселочной дороги сидел старик, босой и без шапки. За спиной у него на свежем ветре колыхалась созревающая пшеница, а рядом была поставлена большая корзина, доверху наполненная груздями. Старик держал на распяленной ладони колосок, выковыривал из него по зернышку и, как ягодки, укладывал в рот. Поравнявшись с ним, Федор Тимофеевич остановил машину.
– Давай подвезу попутно. Устал, наверно?
– Благодарствую. Но поспешать мне некуда. Хорошо тут, – сказал старик. – А на машинах ездить не люблю. От них запах плохой да быстрота: не успеешь глазом моргнуть, как до места доехал. Мне теперич охота вольным воздухом надышаться и всякий мой день удлинить.
– Ноги застудишь. Земля холодить начинает, – предупредил Федор Тимофеевич. – Еще ведь далеконько идти.
– Ништо! Привычные ноги. Хожу босой сразу, когда вешние воды снег унесут. Иначе не могу. Не от нужды ведь. Сын в колхозе агроном, недавно опять мне новые сапоги справил, да я их надел, примерил и повесил в чулан. Босая нога землю-то лучше чует. Роднее ей на земле-то…
Федор Тимофеевич наконец узнал его: это был Иван Добрынин, бывший распоследний бедняк – неудачник в Малом Броде, когда-то мечтавший разыскать в лесу клад.
На улицах села уже безлюдно и пусто, только вдали по тракту ползет бульдозер, да на остановке автобусов неизменно торчит фигура Софрона Голубева. Свалянную из овечьей шерсти шляпу он всегда держит в руке, на случай дождя, а если небо чистое и ясное, купает голову в солнечном свете. Лысина у него на макушке круглая, подпаленная зноем в окружении редких седых волосков. У себя в доме он только ночует, предпочитая все время находиться на людях. Здесь, на остановке автобусов, как на жизненном перекрестке, собирает новости от приезжих и от своих земляков, но исключительно приятные, хорошие новости, которые могут порадовать его и людей. «Плохого я прежде навиделся, – объяснил он однажды Чекану. – С него пользы нет!» Жители Малого Брода уже давно привыкли к его доброму безделью и подходили к нему, как к колодцу у палисадника, где всегда можно зачерпнуть ведром воды и напиться.
Дом правления колхоза стоит неподалеку за остановкой автобусов, на пологом угоре; за ним по берегу озера рощица тополей. Это Гурлев вырастил ее. Березы были бы милее, есть в них что-то певучее, задумчивое и многовекое, но растут они медленно, а тополя поспешливее – за три года вымахали вверх, надушили округу свежими, сладкими запахами. Когда делали еще первые черновые наброски новой застройки села, Гурлев потребовал: «Здесь всей улицей пора насажать тополей, у каждого дома. Природа – это своим чередом, но надо еще и современную технику как-то загородить, чтобы глаза не мозолила. Обзавелись жители радиоприемниками и телевизорами, понаставили антенн, и торчат они над крышами, как сухостойный лес. А мы к веселой жизни стремимся! Не должна техника угнетать своим видом. И не забудь, Федор Тимофеич, о тротуарах. Непременно запланируй их. Взрослые, по привычке, еще потерпели бы, а вот ребятишкам негде на велосипедах кататься. Когда в школу бегут, то на большак лезут, где машины проходят». Все его пожелания Чекан, конечно, в проекте учел, но к тополям вдоль тротуаров добавил березок и цветущих кустарников…
Всякий раз, когда Федор Тимофеич останавливал здесь машину, встречал стариков, видел доживающие свой век дворы бывших богатых хозяев, охватывало его странное чувство близости прошлого. Вот тут был переулок, по которому приходилось ходить на квартиру к старухе Лукерье; там стояли казенные амбары, а дальше, где сейчас на пустыре поднялся репейник, замкнуто жил кержак Казанцев; на берегу, под угором, еще стоит береза, памятная тем, что подле нее избач Чекан впервые поцеловал свою невесту Аганю.
Все помнилось, было близким, но в то же время далеким. И даже как-то не верилось, что теперешний Чекан и его Аганя и теперешний Гурлев – это те самые, которые жили тогда. Ничего невозможно было сказать только о Согрине. С тех пор Федор Тимофеевич его не встречал, а сейчас не мог представить иначе, как прежним. И весь длинный путь от города до Малого Брода, вспоминая прошедшие в прошлом события, так и не доискался, что встревожило Гурлева?
Павла Ивановича в правлении не оказалось.
– К вечеру, может, появится, – сказал о нем сидевший на крыльце Михайло Сурков. – То ли на ферму ушел, то ли с комбайнерами на поля уехал – не знаю! Забот ведь завсегда полно. Эвон уже хлебные поля доспели, да скоту пастбищ не стало хватать. А мне он еще утром наказывал: ты-де, Михайло, коли Федор Тимофеич прибудет, передай – пусть обождет! – И как бы по секрету добавил: – Чего-то он уж дня три не в настроении…
Свое недовольство намерением сына Гурлев старался на людях не выказывать, но легло оно камнем на душу. Каков же позор будет, если Володька переселится к Татьяне! Поймет ли кто-нибудь в селе то, чего не хочет признавать и понимать родной сын? И все это именно сейчас, после злого предложения Зубаря «слезать с коня», вдобавок накануне уборочных работ, самых трудных в колхозном производстве. Еще ночью, перед сном, думал: «Не ко времени Володька затеял женитьбу. Не нужны сейчас никакие иные заботы и хлопоты, лишь бы скорее и надежнее провести уборку хлебов. Вдруг непогода свалится»…
А непогода и в самом деле уже с раннего утра начала оказывать признаки. Чуть-чуть поднялось солнышко и согрело землю, воздух сразу загустел, под рубаху заползала испарина, в огородах подсолнечники поникли, во дворе раскудахтались куры и начали купаться в сухом перегное.
– Давай-ка, Владимир, обождем покуда решать твой вопрос, – сказал Павел Иванович, когда тот во время завтрака снова заговорил о женитьбе. – Что тебе так пристало? Если пройдет еще месяц или два, Татьяна, наверно, в теле не усохнет, за другого парня замуж не убежит. Надо ведь еще с матерью посоветоваться да к свадьбе приготовиться.
– Поживем, а потом, если нужно, свадьбу сыграем, – легко ответил Володька. – Я не очень большой сторонник традиций.
– Это не традиция, а порядок. Люди осудят…
– На всех не угодить. Митьку Холякова тоже осуждают: зачем это он замужнюю полюбил? У Веры есть ребенок, сама она на два года старше Митьки и с мужем еще не развелась, а тут в Малом Броде любая девчонка не отказалась бы замуж пойти, но как в песне поется – сердцу не прикажешь, кого выбирать!
– Разумнее поступать надо!
– Тебе, батя, так рассуждать легко, свое уже отлюбил…
– Может, и не любил никогда, – мрачновато заметил Павел Иванович. – В твои годы другими делами был занят.
– А как же сумел жениться?
– Из уважения да по привычке к хорошему человеку.
– Мать говорит: всегда любил!
– Это ей больше знать, чем мне! Не обижал никогда…
– Почему же Танюшку Согрину нужно обижать? Она мне доверилась, полюбила, построила свои планы на семейную жизнь, а я вдруг возьму и откажусь от нее, надругаюсь над ее чувствами! Это Верка Пашнина так в свое время поступила. Еще тогда Митька хотел жениться на ней, а она послушалась сплетен: дескать, раньше мужа состарится, не то поживет с ней Митька да другую, помоложе, найдет. Уехала в город, вышла там замуж за ровню, а любовь-то оставила здесь. Теперь вот не вдвоем мучаются, а вчетвером: мужа бросила, ребенка оставила без отца, на новое предложение Митьки ответа не дает. Стыдно, наверно!
– Я думал, она у родителей гостит, – озабоченно сказал Павел Иванович. – А так – это плохо! Что же Митька от меня скрывает?
– Чем ты мог бы ему помочь? Считаешь его почти родным тебе сыном и тоже начнешь отговаривать.
– Неохота вас видеть несчастными.
– Если так, то позволь поступать, как нам кажется лучше, – резко произнес Володька.
– Ты Веру Пашнину с Татьяной не уравнивай, – не менее резко ответил Павел Иванович. – Хоть и дальняя веточка, но все же от дерева согринского тебе приглянулась. Привьется ли она к нашему дереву? Откинем в сторону социальное происхождение, теперь люди все равные, но быт и взгляды на то, как жить, чем и для чего жить, покуда еще одинаковые далеко не у всех. Это разделяло нас с Прокопием Согриным в прошлом, отсюда начиналась наша вражда, по этой же причине я не доверял ему и не могу доверять до сих пор. В этом мире мы с ним друг другу чужие. Я хочу богатства для всех, он только для себя. И не поверю, если он скажет, будто за прошедшее время целиком изменился. Мне однажды Ксения говорила: «Отец теперь живет еще богаче, чем прежде! Огромный дом, в комнатах ковры, дорогая посуда и денег много, да еще во флигеле квартирантов держит». Между тем ее, родную дочь, выгнал. Только к Татьяне благоволит. Она ведь будет его наследницей.
– Но если не будет?
– Вряд ли! И вот сейчас давай дальше рассудим. Мы тебя воспитывали в своих правилах. А с каким настроением станет Татьяна жить, когда получит наследство? Не увлечет ли оно, не пробудит ли в ней того собственника, который жил в ее дедушке? И не потянет ли она тебя в болото, где только и знают: давай копить деньги и барахло, все давай, давай, наживайся, попускайся совестью и всем чистым, что украшает человека! Мерзко получится! Наряду с тем, что я во многом в прошлом подозреваю Согрина, не хочу, чтобы ты, мой сын, попользовался из его богатства хотя бы одной копейкой! Понял ты меня наконец?
– Нет не понял! – упрямо возразил Володька. – Возможно, ты прав, рассуждая так, но мы ведь движемся в жизни не назад, а вперед!
– Ну, ладно! – положив руку на стол и видя, что разговор идет бесполезный, оборвал Павел Иванович. – Давай-ка лучше о деле. Стройку детсадика пора завершать. На последние отделочные работы в здании даю тебе сроку еще дней десять. Чего не хватает?
– Пиломатериала, электроарматуры и масляных красок.
– Сегодня же составь требование, возьми машину и сам поезжай в Калмацкое. Завтра машин не дам ни одной, все будут двинуты на уборочную. Не управишься в срок, на заседании правления всыплю, не глядя, что сын! Не рассчитывай на поблажки!
Надев пиджак и выцветший от солнца картуз, Гурлев вышел из дома на улицу. Падали с тополя зажелтевшие листья, сорванные посвежевшим ветром. Стайка воробьев копошилась в пожухлом конотопе, изнывая от духоты. Низко, очень низко, да с тревожным гвалтом летали галки возле ободранного купола молчаливой церкви. Небо, еще ранним утром такое чистое и тонкое, подернулось дымчатой пленкой. И бегут, бегут по нему стадами белые рваные облака с темными подпятниками, быстро бегут – значит, быть грозе с ветром. А ячмени в заозерье уже поспели, оставлять их в непогоду нельзя – пригнет ветром к земле, перепутает, повыбивает из колосьев немало зерна. «Все не в пору, – с досадой подумал Павел Иванович. – Ни раньше ни позже еще и сын заботы добавил. Мне надо теперь неотложное дело решать, хлеба ведь не станут нас дожидаться, пока меж собой разберемся. Да кабы не Прокопий Согрин, и разговору-то не было бы: женись, если охота пристала! Приводи в дом хоть Татьяну, хоть иную жену и рожай на здоровье дюжину Гурлевых! Но как же все-таки поступить? Не отступит Володька! Измучаем Таньку ни за что ни про что! Даже если отделить их от себя, все равно покоя не найти. Впрочем, Дарья на отдел сына согласья не даст, хотя самой тоже не сладко придется. Потерпеть уж, что ли? Не показывать виду? Может, как-нибудь приживемся? И, однако же, Федора Тимофеича напрасно я всполошил! Зря. Чем он может помочь мне? Это ведь жизнь, а не книжка, которую прочел, но сразу не понял!»
Завидев издали ковыляющего с палочкой по тропинке возле домов Михайлу Суркова, Гурлев помахал ему рукой:
– Иди-ка, собери членов правления и механизаторов. Все дела в сторону…
– Что так срочно, Павел Иваныч? – не понял Михайло.
– Непогоду-то чуешь?
– Как, поди, не почуять? Эт, свежак из-за озера-то шибает! Мы еще вечор с Гаврил Иванычем перемолвились: ячмени уж сами просятся на уборку!
– Ты, давай, однако, не мешкай! – предупредил Павел Иванович. – Часам к десяти пусть все будут в сборе. Да, пожалуй, кое-кого из комбайнеров позови: Митьку Холякова, Степана Блинова и еще по своему усмотрению. Я скоро буду…
Смолоду привыкнув быть на людях, в их заботах и трудностях, отдаваясь им весь сполна, он обычно сбрасывал у себя дома, за порогом, все семейные неприятности, какие случались. На этот раз расстроенное чувство улеглось не сразу, и чтобы не давать людям повода для всяких домыслов, Павел Иванович переулком пошел к ремонтному цеху. На соседней улице, по пыльной дороге прокатил на мотоцикле Митька Холяков. Гурлев проследил за ним глазами: Митька подрулил к дому Пашниных и легонько гукнул сигналом. Пашнины еще не убрали от двора строительный мусор, их новый беленький домик посреди зелени, в солнечном свете, выглядел очень уютно, отчего Павел Иванович невольно пожалел Веру, которая привезла сюда из города свою поломанную судьбу. Митька еще раз посигналил, Вера вышла ему навстречу, как-то вроде растерянно озираясь по сторонам. «Да не бойся ты парня, не бойся! – мысленно подсказал ей Павел Иванович. – Зачем же страдать! И Митька не очень удалой. Рос рядом с Володькой, в работе всегда впереди, а насчет любви простоват, не умеет девке на ногу наступить. Взял бы ее сейчас на руки да и унес бы!» Это он так представил себе из желания устроить Митькину любовь, а в действительности сам на такое никогда не решался.
На обширной поляне у ремонтного цеха ровным строем стояли комбайны, изготовленные на выезд. Неподалеку от них техник-механик Алексей Стручков, небритый, видом помятый, о чем-то рьяно говорил с шофером бензовоза Леонтием Гущиным. Тот, детина могучий, подпирающий головой крышу кабины, каменно слушал, глядя куда-то в сторону. Он, очевидно, только что привез горючее с Калмацкой нефтебазы; мотор еще не был приглушен, и машина судорожно вздрагивала.
– О чем шумок? – подходя к ним, спросил Павел Иванович.
– Распоряжению не подчиняется, – с досадой ответил Стручков. – Я велю разгружаться…
– Давай заправщика, – перебил его Гущин. – Сам не буду!
– Во, видали его! – горестно сказал Стручков. – А у меня заправщика сегодня нет. Так и до завтра простоишь тут!
– Простою! – подтвердил Гущин.
– А где Крюков Иван? – осмотревшись вокруг, спросил Гурлев. – В отгуле, что ли?
– Самовольно прогуливает, – еще горестнее сказал Стручков. – Всю ночь газовал с приезжим гостем. Нагазовался так, аж разбудить невозможно, – колода колодой в сенцах валяется! Я уж два раза ходил…
– Слаб ты, парень! – строго заметил ему Павел Иванович. – Насчет техники тебя похаять нельзя; спасибо, все машины содержишь в порядке! Но к людям настоящего подхода не выработал. Почему небритый, неприбранный на производство явился?
– Не успел, – виновато признался Стручков.
– А чем был занят?
– Допоздна в цехе пробыл, да встал снова чуть свет.
– И думаешь, это хорошо? – осуждающе заметил Гурлев. – Молодец, что о производстве заботишься, а надолго ли хватит тебя, такого небритого и замученного? Мне как-то на областном совещании по сельскому хозяйству один директор совхоза похвастался: «Я уже два года в отпуске не бывал и каждый день чуть не по двадцать часов работаю. Иной раз, – говорит, – вовремя пообедать некогда, не то что побриться!» Значит, незаменимый человек он! Не дай бог, заболеет, ляжет в больницу, так все хозяйство развалится. Я ему и сказал в ответ: «Выходит, тебе надо должность менять, коли организовать труд не умеешь. Один за всех не сработаешь!»
– Солдат спит – служба идет! – басисто добавил из кабины Гущин.
– Не совсем так, но где-то около того, – добродушно поправил Гурлев. – Иной раз, коли нужда подопрет, можно неделю не спать: день пропустишь, год потеряешь! Но бриться следует каждое утро и рубаху дотла не занашивать. Неряшливый вид люди не уважают. Так что сходи-ка сначала, Леша, умойся, побрейся…
– А мне разгружаться когда? – нетерпеливо спросил Гущин. – Ведь еще один рейс делать надо!
– Обожди с полчаса, я Крюкова приведу, – пообещал Павел Иванович. – Он же ведь и расписаться за горючее должен.
Прежде чем идти домой к Ивану Крюкову, Гурлев зашел в медицинский участок и позвал с собой фельдшера – Анфису Павловну.
Крюков беспробудно спал в сенях, на свертке старых половиков, уткнув усатое лицо в сапоги валявшегося под столом гостя. Павел Иванович вытащил его к дверям, потрепал за уши и легонько смазал ладонью по щекам, затем приподнял и встряхнул за плечи, но тот кулем повалился обратно на пол.
– Дай-ка ему, Анфиса Павловна, несколько капель нашатырного спирта в ноздри, – не видя иного исхода, попросил Павел Иванович. – Видать, вместе с гостем перебрал сверх меры. Не отравился ли?
– Как же, отравишь таких! – осуждающе заметила Анфиса Павловна, но сунула под нос Крюкову флакон со спиртом. – Экие бугаи!
В полуоткрытую дверь из кухни выглянула жена Ивана – женщина молодая, в жизни веселая; а сейчас лицо у нее было бледное, впалое, искаженное болью.
– Ты чего сама-то, Варвара? – беспокойно спросил Павел Иванович. – Вместе с мужиком бражничала или из-за него расстроилась? Ни то ни другое тебе нельзя!
– Может, расстроилась, – прислонясь всем телом к косяку, сухими губами еле слышно сказала Варвара. – Черти принесли к нам гостя не в пору! Всю ночь пили тут, спорили, хвастались друг перед другом. Думала, подерутся. Ножики и вилки убрала от них, а потом ребенок вроде повернулся во мне…
– Рожать тебе рано, – продолжая отхаживать Крюкова, успокаивающе предупредила Анфиса Павловна. – Надо еще месяц доходить. Иди-ка, полежи в постели, а я восстановлю твоего и к тебе загляну!
Получив лошадиную дозу лекарств, Крюков скоро пришел в себя, а после ведра холодной воды, которой Анфиса Павловна заставила его умыться, окончательно протрезвел. Гурлев не стал ему выговаривать и ругать; время началось теперь плотное, дорогое, и его следовало беречь для других неотложных забот. Собираясь уходить в правление, все же строго погрозил пальцем:
– Гостя сегодня выпроводи! А сейчас иди к комбайнам, прими от Леонтия горючее, разлей по бочкам и приготовь их к отправке на поле. Через два часа будем выезжать на уборку!
Так казалось вернее. Ругань всегда унижает не только того, кто ее заслужил, но и того, кто ругает. «Слабо, значит, что-то в самом, если сдержаться нельзя, – говорил Павел Иванович, когда его кто-нибудь попрекал в потворстве. – Нам работник нужен не поневоле, а вполне сознательный к своему труду и не униженный, но со мной на одном уровне. Такой сделает больше и лучше!» И этого добивался. Задача была трудной, зато у него было прошлое и большой опыт прошлых лет, который подсказывал такой путь. Именно та вынужденная жестокость, которая заставляла прежде начинать с нажима, с категорических требований подчинения, привела к необходимости внимания к каждому, пусть даже самому отсталому члену колхоза, к его жене и детям. Теперь это стало правилом – прежде понять: почему один работает и живет хорошо? Почему другой работает и живет как неприкаянный? Что-то же двигает ими! Одному способствует, а другому мешает! При этом всегда помнил сказанное когда-то Чеканом: «Ты поднялся, так дай же и дорогому для тебя человеку подняться!» А выговорами, нажимами его не подымешь! В трудностях надо помочь, в слабостях поддержать, не злостный проступок суметь простить! Вот так и с Иваном Крюковым: пусть-ка сейчас его совесть помучит!
Но случай этот был пустяковым в сравнении с тем, что задумал Володька. «Просто беда! – огорченно подумал Павел Иванович, прикрыв за собой калитку во дворе Крюковых. – Ведь все равно не поймет он меня, и придется ему уступить!» Из-за этой навязчивой мысли, от расстройства, которое еще никак не мог успокоить, кинул враждебный взгляд на бывший дом Прокопия Согрина, где давно уже был устроен колхозный детсадик. Там, у ворот, галдели детишки, выстраиваясь на прогулку. Перед ними стояла Татьяна Согрина, их воспитательница, показывая руками, как становиться. В ярком утреннем свете, тонкая и гибкая, по моде одетая – платье выше колен, белые босоножки с бантиками, шелковая косынка, наброшенная на оголенные плечи, – и лицом свежая, с диковатыми глазами степной красавицы, производила она очень славное впечатление. По рассказам Ксении, отец у Татьяны был казахский джигит, и потому эта диковатость пересилила все, что могло достаться от Согрина. «Ладно, хоть деда не будет напоминать, – с некоторым облегчением подумал Павел Иванович. – И на том спасибо!» А как-то не поднялась рука, чтобы помахать, поприветствовать ребятишек и Татьяну, хотя прежде ни разу равнодушно не проходил мимо, да и сама Татьяна почему-то сразу повернулась к дороге спиной, наклонясь к щебечущим ребятишкам.
Было уже без двадцати минут десять. В правлении колхоза в эту пору никаких заседаний не полагалось, но откладывать уборочную, даже на один день, было рискованно. Земля продолжала парить, с озера веяло свежестью, а за навесом у остановки автобусов мохнатый щенок катался на пыльной полянке и счастливо повизгивал.
Взглянув на часы, Гурлев спустился по угору на берег озера. На песчаных отмелях повсюду лежали хлопья пены, набитой плескучими волнами. У плотков колхозные рыбаки сгружали с лодок мотки мокрых сетей. Озерные караси – надежное подспорье. Поварихи на станах ворчат, надоедает им чистить рыбу, а мужики довольны. И питание обходится совсем дешево. Караси эти почти даровые; только за уловы начисляется плата. Не будь уловов, пришлось бы выбраковывать из стада и забивать самое малое десяток коров.
Привезли рыбаки четыре ведра карасей. Но маловато. Беспокоится озеро. Спустилась, наверно, рыба в придонный ил, не то ушла в камыши, в затишье. «Тоже признак на непогоду, – отметил Павел Иванович. – Худо придется хлебам, если ее не опередим!»
А по небу трудно определить – сколько же часов или дней может еще так накапливаться ненастье? Да и наберет ли оно силу? Погрозит вот этак, поморщится, нагонит тревогу и отвалится посуху дальше. Надежда на такой исход слабая. Многолетний опыт научил рассчитывать всегда не на лучший, а на худший исход. Природа ведь! Как захочет, так и поступит. Если бы иметь в руках волшебную палочку, то накрыл бы небо над созревшими хлебами в полях брезентом, загородил бы стеной от порывистых ветров, но хлеборобу не дано в руки волшебства, и надо полагаться всегда исключительно на свою смекалку, находчивость и сознание. Это сознание и требовало сейчас – не упускать ни одного часа и опять решиться на новые конфликты с Зубарем.
Павел Иванович не сдержал усмешки, вспомнив, присланный районным управлением график уборочной. Поглядишь на эту бумагу – все от начала до конца правильно, составлено грамотно и разумно, с хозяйским подходом, но, как говорится в народе, «человек полагает, а бог располагает!» График-то составляли специалисты по среднегодовым температурным режимам, по средним срокам созревания культур. Отсюда и раздельный способ уборки, чтобы зерно успело дойти в валках до кондиции, и расчеты нагрузок на каждый комбайн. Председателю и агроному колхоза вроде бы беспокоиться не о чем: делай, как в бумаге указано, и будь здоров! Между тем солнышко успело в конце лета поднагнать на землю тепла больше нормы, да ветер изменил направление, и хлеба перестали нежиться, вот-вот начнут осыпаться. Так что же делать при этом: соблюдать график или поломать его, да в предвидении ненастья и жатву провести до начала срока и напрямую, без валков, по сокращенному циклу: поле – комбайн – крытый ток. А вдруг ненастья не будет? Тогда уж наверняка у Зубаря будет право сказать: «Подавай заявление и слезай с коня!»
На обратном пути от озера опять вспомнился вчерашний разговор по телефону с Чеканом. «Напрасно поторопился я, – упрекнул себя Павел Иванович. – Приедет человек, от своих дел оторвется, а мне с ним обстоятельно обменяться мыслями сейчас недосуг. Да и не горит ведь дело! Володька, может, еще поершится да перестанет или уж на крайний срок обождет, когда мать у дочери отгостит. Неловко, даже совестно получилось. Хотя Федор Тимофеич поймет меня, не обидится!» Поморщился и, хмурясь, пнул ногой валявшийся на тропинке камень: «Вот же какая чертовщина случилась! Как будто в этой жизни мне именно Согрина не хватало!»
И все-таки в правлении никто по его внешнему виду не мог бы догадаться, какие еще неурядицы волнуют председателя, кроме уборочной. Один Михайло Сурков, за многие годы изучивший на лице Гурлева каждую черточку, поглядывал искоса.
Собрались только те, кому следовало решать и кто должен был начинать жатву: у стола председателя – члены правления, за ними на стульях вдоль стен – полеводы, комбайнеры, шофера. Агроном Добрынин разложил на столе снопик созревшего ячменя, за которым намеренно ездил за озеро. И уже одежду сменил. В поле предстоит работа пыльная, так надел потертые брюки и выцветший пиджак со следами проколотых для орденов дырок. Захватил с собой из дому брезентовый плащ и резиновые сапоги. Тоже ведь верит в приметы на непогоду, а ответственность за хлеба у него двойная – весной его выбрали секретарем колхозной парторганизации. Впрочем, не у него одного: стоит кинуть взгляд на собравшихся – половина партийцы. Вот и механик Стручков, все же успевший побриться, молодой еще, не обмятый жизнью. Из шестерых комбайнеров – Степан Блинов, Петро Кузнецов и Григорий Бабкин по десятку лет в партии. За всех за них Павел Иванович поручался, всех их знавал мальчишками, потом юнцами, а теперь вот они уже отцы семейств и мастера первой руки, которым только скажи, так они гору своротят с места и на другое место поставят. «Не перехваливай, не обливай товарищей медом сверх меры, – вроде бы в шутку сказал однажды Павлу Ивановичу секретарь райкома. – Это люди как люди!» Но не учел он, что именно с этими людьми Гурлев был в близком родстве, любил их как старший брат, уважал за сноровку и смелость, за верность земле и потому не мог говорить иначе. Случалось, ребята кое-чем грешили по мелочам, но в главном, в их труде, он мог полагаться на них, как на самого себя.
– Я думаю, каждому из вас ясно, почему именно сегодня, не задерживаясь больше ни часу, надо начинать жатву ячменей, – приступил сразу к делу Павел Иванович. – График уборки ломается и придется нарушать указания. Но что дороже?
– Я в райком уже позвонил, – дал справку Добрынин. – Пробовал доложить и в районное управление. Зубаря по телефонам не доискался, а заместителя, Власова, ты сам знаешь, совсем с буквы не сдвинуть, так я ему просто сообщил, и пока он размышлял, собираясь ответить, повесил трубку. Станет звонить сюда сам – нас дома нет!
– А что в райкоме?
– Первый секретарь в отъезде. Второй ничего определенного не сказал: «Начинайте, если рисковать не боитесь!»
– Боязно или не боязно, у нас выбору нет! – решительно подтвердил Павел Иванович. – Прошу остальных членов правления выразить свое мнение!
– Начинать! – поднял руку Михайло Сурков. – Ишь, свежак-то из-за озера, какой постоянный.
Молча проголосовали полевод Прохор Юдин и заведующий молочно-товарной фермой Панов, человек всегда осторожный.
Гурлев не сомневался ни в ком, но все нужно было еще раз проверить, настроить на боевой лад, да и общее решение надо было записать в протокол.
– Теперь коротко проверим готовность, – сказал он, убедившись в полном согласии. – Начнем с зерноуборочной техники.
Это тоже необходимо было исключительно ради настроя. Все комбайны после ремонта опробованы на холостом ходу. Трактовый путь исправлен. Горючее и смазочные масла есть в достатке. Как всегда, не хватает запасных частей, но тут уж ничего не поправить, придется работать поаккуратнее, поломок не допускать. Поэтому Павел Иванович так и сказал, обращаясь к комбайнерам:
– Не мне вас, ребята, учить, как машинами управлять. Однако лишку от них не выжимайте. У нас главная задача: не допускать простоев и не потерять зерно! Ни в соломе, ни в оставленном на жнивье колоске чтобы ни зерна не осталось, и в пути от комбайна до крытого тока, чтобы ничего не просыпалось.
На себя, как и в прошлые годы, он взял материальное обеспечение уборщиков. Неприметно для сторонних глаз, не принижая свое достоинство, помалу перекладывал председательские заботы на Гаврила Ивановича, расширял его полномочия, готовил из него для себя замену. Вот и сейчас, узнав, что Добрынин уже успел позвонить в райком, опередил с донесением, ничего зазорного для себя в его поступке не нашел, даже остался доволен. Правильно действует! И в том, что агроном уже собрался в поле, виделся в нем настоящий работник. Да и странно было бы сомневаться: вся жизнь Гаврила Ивановича, от первого выхода на пашню с отцовой шапкой вместо лукошка до звания агронома колхоза, прошла не без помощи и внимания Павла Ивановича, исключая время, которое Добрынин провел на войне.
– По моей прикидке, поскольку в поле отправляются пять комбайнов, весь ячмень надо убрать к завтрашней ночи, – предупредил Добрынина, закрывая заседание правления. – Попытайтесь успеть!
– Попробуем! – согласно кивнул тот. – Хотя урожай нынче увесистый!
В одиннадцать часов, как было назначено, комбайны снялись со стоянки у ремонтного цеха и один за другим двинулись в заозерье. Передний вел Митька Холяков, но хмуроватость на его лице Павлу Ивановичу не понравилась. «Не уладился, наверно, с Верухой, не уговорил ее! – шевельнулось беспокойство. – Не ко времени любовь! Не в пору! Мне самому, что ли, с Веркой побеседовать…» И, проводив комбайнеров, пошел к Пашниным, но вдруг стало неловко вмешиваться: любовь – это штука настолько тонкая, чувствительная и личная, что касаться ее надо умеючи! Лучше не трогать! Пожалуй, и Володькину любовь тоже не надо ломать: может быть, никакая иная, а только Татьяна составит его счастье на всю жизнь!
В это утро пришлось еще разыскать директора школы, отправить на ток старшеклассников, потом с подводой наладить туда же повариху Катерину Шишову, снабдить ее печеным хлебом и необходимым припасом, чтобы уборщики ели досыта. Катерина всегда сама просится в эту бригаду. Всем известно почему: там Митька! Заметно по глазам девку – любит его, дурного! Вот и женился бы на ней, а не бегал за Верой, не досаждал замужней и детной женщине. Так нет же, не получается так. Любовь!
В ту минуту, когда Федор Тимофеевич Чекан по Калмацкой проселочной дороге въезжал в Малый Брод, Гурлев поехал в поле.
Так они разминулись в улицах, а Михайло Сурков, очевидно, и в самом деле не знал, куда и зачем отправился председатель.
– Только он не в настроении. Отчего так, опять же не знаю. Вроде бы в хозяйстве для расстройства нет ничего. Вот лишь погода обещает не шибко порадовать.
– Слыхать, Согрин опять появился? – наводя на мысль, спросил Федор Тимофеевич.
– Тому здесь место чужое, – серьезно сказал Михайло. – Раза два, кажись, бывал тут у Ксении накоротке, не больше.








