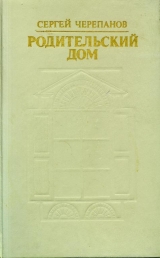
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
– Ну, ты-ы, мощи святого угодника! – отпихнул его тот от себя и добавил насмешливо: – А я вот пойду сейчас к ней в малуху, посватаюсь от простой поры.
Он спустился на одну ступеньку с крыльца, сдвинул шапку на затылок.
– Только спробуй! – тихо, но жестко предупредил Сашка. – Ежели жить надоело!
– Отца свово позовешь?
– Сам сничтожу!
– Ну и псих, однако…
Все же дальше не двинулся, а потоптался на месте, затем направился обратно в дом.
– Сиди тута, зануда, молись богу, все равно он из тебя человека не сделает. Да карауль девкин подол пуще.
Когда он скрылся в сенях, Сашка присел на порог, закашлялся, забормотал:
– Нету уж силов у меня…
Показался он в этот миг Агане еще более хилым и слабым.
– Саша! – позвала она, чуть выступая из-за угла.
Он вздрогнул, но тотчас узнал ее, обрадовался и, заплетаясь ногами, подошел.
– Ты еще здесь?
– Сейчас уйду. Боюсь только через передние ворота бежать.
– А ты айда в переулок. Я провожу.
Он принес из дома ключи, отомкнул висячий замок на задних воротах, отодвинул железный засов и пропустил ее в загон, оттуда в огород, а на прощание несмело попросил:
– Хоть обними меня. Не увидимся больше. Подыхать стану, было бы вспомнить о чем. В губы еще поцеловать бы, да совестно, небось, нутро у меня нечистое. А так я не поганый, не моргуй!
Аганя поцеловала его в лоб.
– Совсем ты один тут остаешься.
– Ништо, – бодро, но загадочно произнес Сашка. – Меня три аршина земли уж давно на кладбище дожидаются. Только еще и поживу, пока расчет получу…
– Не сходи с ума, Саша, негоже так думать и говорить.
Она хотела еще задержаться, уговорить его не терять надежды на жизнь, не делать никаких глупостей, но Сашка подтолкнул ее в сугроб и заставил лезть через прясло, в переулок.
Снегом обметало амбары и пристройки дворов, пурга подвывала и стремительно мчалась над ними.
Агане не хотелось думать, где придется ночевать и где она останется жить – здесь, в Малом Броде, или в родной Грачевке. Она старалась только поскорее выбраться в улицу, к людям.
Во многих домах по всему порядку Первой улицы еще светились огни. От колодца прошла, увязая по колени в сугробах, сноха Саломатовых, неся на коромысле полные ведра воды. За большим возом соломы тащился по проезжей дороге мужик в башлыке и тулупе. Воз кренило набок, забрасывало; облепленная снегом лошадь падала, подгибая передние ноги.
И еще один человек попался навстречу. Аганя сразу его узнала. Это был избач Федор Чекан, в коротком полушубке, в сапогах, в надвинутой на лоб папахе. Он только что вышел из двора напротив, с другой стороны улицы, от деда Половнина, и стоял на обочине дороги, пережидая, когда проедет мужик с возом. Аганя тоже посторонилась, но возом толкнуло ее в плечо, сбило с ног, и, падая плашмя в сугроб, она невольно схватилась обеими руками за Федора. Тот упал вместе с ней и, барахтаясь в снегу, засмеялся.
– Вот я сейчас отведу тебя в сельсовет и заставлю пуговки пришивать. Экая ты – сразу с шубы все оборвала.
– Ну, и отведи, коли виновата! – недружелюбно сказала Аганя. – А не то и сам пришьешь, не велик барин!
– Где я их возьму, – потерялись ведь!
– Так из талинки выстругаешь палочки и пришьешь к лопотине.
Чекан помог ей подняться, отряхнулся от снега.
– Ты сердитая! На вечерке казалась добрее…
– Не с чего быть мне ласковой! – отрезала Аганя. – Ну-ко, посторонись! Дай пройти!
– Ишь, какая! – удивился Чекан. – Поглядеть бы на тебя при дневном свете.
– Отойди, что ли!
– А куда так спешишь? Не замуж ли убегом собралась? Если за хорошего, нашенского жениха, то давай помогу.
Он протянул руку к узелку, посмеиваясь, надеясь развеселить девушку. Та не позволила.
– Я думала, ты, городской, лучше наших парней. А такой же…
Чекан немного смутился и отступил на шаг.
– Мне не хотелось тебя обижать. Пошутил ведь. Вот когда состарюсь – шутить перестану. А теперь серьезно спрошу: ты чем-то расстроена и куда-то уходишь? Надолго ли?
– Не знаю!
Ее голос прозвучал глухо.
– Свет велик, а где мое место в нем, я не знаю!
Она потупилась, начала перебирать пальцами узелок, надо было идти дальше, в то неведомое, что ее ожидало. И не могла идти. Федор Чекан стоял перед ней, как судьба. После вечерки он приснился такой добрый и участливый, веселый и озорной. Во сне она прикрывала его своим телом от чьих-то ударов. Утром ей не хотелось просыпаться, а потом, когда в полутемном пригоне доила коров, Чекан снова припомнился, но почему-то насмешливый. И подумала с горечью: «Не надсмеялся бы!» Затем тут же поправилась. Ведь ничего между ними на вечерке не произошло, поплясали и разошлись, и снова, пожалуй, их пути уже не сойдутся: у нее своя жизнь, у него своя, а снам верить нельзя, не всякий сон падает в руку. Мать сказала бы: «Ах, Аганька! Молодцов-то полным-полно, сегодня в душу к тебе один западет, завтра другой, а тот, кому отдашь ты любовь навек, может, еще и не встретился!» Так еще утром порешила Аганя: коли встретится Чекан, пройти мимо. Мимо пройти не удалось.
– Я тебя провожу, – не спрашивая ее, хочет она или не хочет, сказал Чекан. – Ты не бойся меня, я не страшный…
Ответить ему Аганя не успела: в доме Окунева раздались один за другим два выстрела, от удара изнутри распахнулась ставня крайнего окна, со звоном посыпались осколки стекол, обломки рамы, и в палисадник вывалился хозяйский гость мельник Чернов.
– О, господи! – взмолилась Аганя.
А Федор мигом выхватил из кармана револьвер и кинулся к палисаднику. В пустом проеме окна промелькнул Сашка.
19
– Тихо, Петр Евдокеич, тихо! – предупредил Чекан, подставляя револьвер к спине выползающего из палисадника мельника. – Руки подыми вверх и не вздумай чего-нибудь…
Чернов послушно исполнил приказ, но, вглядевшись, в изумлении отшатнулся:
– Избач! А ты-то отколь здесь взялся? Что надобно?
– В кого стрелял? – спросил тот, не опуская оружие.
– Это не я! – хрипло ответил Чернов. – Сам, слава богу, случаем живой остался. Это Сашка, злодей, своего отца напрочь кончил!
Сашка застрелил отца из винтовочного обреза. Евтей Лукич, подогнув ноги, валялся в горнице возле порога.
На столе, сдвинутом из переднего угла, стояла недопитая бутыль самогона и два блюда с закусками.
Глафира, округлив зачумленные глаза, сидела и выла в чулане, а Сашка забился на печь, за трубу.
На простенке мерно постукивал маятник висячих часов. Теплилась синяя лампада под иконами, украшенными позолотой и елочной серебряной мишурой. Сурово взирал оттуда темный лик Николая-угодника, к иссушенной плоской груди прижимала захудалого младенца пресвятая дева Мария.
Младенец напоминал лицом Сашку, богородица – его мать, Глафиру.
Гераську нашли под навесом, он непрерывно икал.
– Да перестань ты, идол! – зашипел на него Чернов. – Эк тебя проняло!
А сам не выпускал с ладони берестяную тавлинку, нюхал табак, осыпая им щетинистые усы.
Чекан закрыл дверь в горницу, чтобы туда никто не входил, ничего не трогал, пока не явится Уфимцев.
Сашку и Чернова с сыном поместил на одной лавке, под полатями. Мельник брезгливо отворачивался от Сашки, но вскоре, когда дед Савел собрал в дом охотливых соседей, разъярился. Ему было зазорно сидеть рядом с преступником под любопытными и ничуть не сочувствующими взглядами. Наспех одетые мужики тесно сгрудились у порога, напустили в полураскрытую дверь холода, вокруг распространился терпкий запах мокрых полушубков и валенок. И Аганя оказалась здесь. Она присела рядом с Сашкой, хотя Чернов и на нее заругался, а тот уронил ей на плечо изморенную голову, худые плечи у него затряслись.
– Аганюшка, – сказал Сашка, – я иначе не мог. Задумал давно поквитаться, а силов нету. И не казни меня, лучше прости…
Он надрывно закашлялся, горлом забулькал, выплюнул слюну вместе с кровью и стал сползать с лавки на затоптанный пол. Аганя запрокинула ему лицо, вытерла концом полушалка закровавленные губы, а кто-то из мужиков пожалел:
– Сам-то он не жилец!
Чекан снял с гвоздя хозяйский тулуп, набросил на Сашку и кивнул Агане:
– Укрой потеплее. А тебе находиться возле него нельзя…
– Одного не оставлю, – решительно сверкнула черными глазами Аганя. – Пропадет он совсем.
– Ты родня ему?
– Никто! Но не брошу!
На девичьих лицах такой решимости и горделивой уверенности Чекан еще не встречал. Они как-то мелькали прежде, разные девичьи лица, – иногда серые, ничем не памятные, иногда тонкие и нежные, либо в меру добрые, но не поражали так.
Чекан сделал еще не совсем уверенную попытку отговорить Аганю, ведь парня придется сажать в тюрьму, не поедет же она вслед за ним, да и не пустят ее туда, как бы она ни просилась, а ничего не добился. Аганя отвернулась, не стала слушать и занялась Сашкой.
Вместе с милиционером Уфимцевым из сельсовета пришел Павел Иванович Гурлев. Уфимцев сразу попросил всех любопытствующих мужиков выйти из дома и, косо взглянув на мельника, принялся тщательно обследовать горницу, выбитую раму окна, затем выковырял из простенка пули, которые насквозь прошили Евтея Окунева.
Между тем Гурлев упорно рассматривал мрачное, багровое лицо Чернова.
– Чего уставился? – не выдержал тот. – Не признал, поди-ко?
– Стараюсь понять, Петро Евдокеич: какая надобность тебя пригнала сюда, не глядя на па́деру?
Чернов озабоченно кашлянул.
– Дел-то по хозяйству мало ли! Мы с Евтеем конями хотели меняться: мово жеребца на его кобылу. Ну, и магарыч справили. Нельзя иначе, не уживется конь во дворе.
Сашку еще знобило, он безразлично глядел на все, словно уже не жил на этом свете. Аганя принесла из малой избы молока, хотела его напоить, поддержать в нем силы, но Сашка отвернулся, бессильно опустив голову. «Какая обреченность!» – подумал Чекан.
Между тем под внешним безразличием и обреченностью Сашки еще продолжало существовать, может быть, не вполне им осознанное, отвращение к лжи и обману, которые обрушили на него столько несчастий.
– Врет он, все врет, – прохрипел Сашка, перебивая Чернова. – Не за тем приехал. Про обмен-то счас придумал. А с отцом сговаривался…
– Не болтай зазря, – зыкнул мельник, – не слышал ведь ничего, с Гераськой в сенцах торчал.
– А я наскрозь вижу…
– Такой дохляк, давно подохнуть пора, вот потому и старашься людей оговаривать.
– Наскрозь вижу и сыздаля слышу, – упрямо повторил Сашка, – если даже мыши где-то скребутся. Мешал Гераська, к дверям близко не подпускал, но все равно ухом-то я уловил, как вы какого-то Барышева меж собой поминали.
Чернов вскочил с лавки, замахнулся на него кулаком. Чекан успел перехватить и отвести удар.
– Спокойно, Петро Евдокеич! Ведь парень и тебя мог прикончить заодно с Евтеем.
– Не за что было, – выдохнул Сашка. – Кабы он меня хоть раз вдарил или пнул бы или на Аганюшку посыкнулся…
– Саша! – предупреждающе строго прервала Аганя. – Не навивай лишнего! Сил-то у тебя и так уже нету…
– И то! – покорно согласился Сашка. – Сил нету! Но что могу, то скажу. Пусть он при мне не врет. А за дохляка я бы ему в шары плюнул…
Он отхаркнул, но не плюнул и стал неподвижными глазами осматривать Чекана, который за него перед этим вступился.
– Ты кто?
– Я? – переспросил Чекан.
– Да!
– Меня зовут Федором. Здешний избач.
– А, я слыхал про тебя, – дружелюбно мотнул головой Сашка. – Ты партейный и хлеб у мужиков отбираешь. Зоришь их. И разводишь в селе разврат…
– Вот придумал! – засмеялся Чекан, и все, кто тут был, кроме Чернова, засмеялись, а Уфимцев опустил перо на бумагу и, пережидая, свернул козью ножку.
– Мне-то придумывать неоткуда, – с трудом улыбнулся и Сашка. – Это отец так баял: что газеты, что танцы – разврат голимый. Только я ему не поверил. Кого отец ругал, те все люди хорошие. Вот и за хлеб не верил. Ты ведь у нас в анбарах не шарился. Да и не нашел бы ничего. Отец еще осенью, прямо с поля, весь умолот в город сплавил и продал там.
– Это верно, – подтвердил Гурлев. – Он успел опередить нас.
– А ты кто? – обернулся к нему Сашка. – Тоже партейный?
– Это Павел Иванович, – объяснил Чекан, убеждаясь, что парень ничего и никого не знал, а жил в закрытом дворе только слухами и чужими разговорами. – Он такой, что мы все ему подчиняемся.
– Только хмурый пошто-то…
– Какой еще ты ребенок совсем, – сочувственно отозвался Гурлев. – В зыбке бы тебе качаться. А тут лютость и зло…
– Ну, хватит, не отвлекайте подследственного, – раскурив цигарку и снова напуская на себя деловой вид, предупредил Уфимцев. – Продолжим допрос. Так за что ты, парень, отца сказнил?
– Бес он! Никакая бы смерть его не взяла, окромя пули каленой.
Это Сашка сказал твердо и убежденно, как человек, совершивший правое дело. Говорить ему было трудно и непривычно, он часто делал остановки, напрягал память, дышал порывисто, как рыба, вынутая из воды, а между тем вся его страдальческая исповедь – не оправдание за совершенное преступление, а именно исповедь, единственная и последняя, словно оживляла и вдохновляла его и доставляла ему почти детскую радость. В обстановке насилия, корысти, бесчеловечности и суеверного страха Сашка давно раздвоился. Он страдал от зависти к здоровым, мучительно стремился к жизни и ненавидел ее, неотступно выслеживал каждый шаг отца, подслушивал и подсматривал, а принимая побои и истязания, готовился к мщению. И в это же время в нем тлели искры человеческого добра, нежности, правдолюбия, он изнывал от тоски в ожидании какого-то чуда. Но ждать устал, чудо не совершилось, зато явилось сознание конца, жить оставалось уже немного.
– Не хотел я, чтобы отец меня пережил. Он, небось, себе-то ни в чем не отказывал. И жрал по выбору, и водку пил, и бабничал. Все ему, а мне домовина березовая. Не-ет, пусть-ко он в ней сначала сам полежит…
– Значит, ты ему самосуд устроил? – спросил Уфимцев.
– А как хочешь считай! Кончил, и все! Может, мне не довелось бы увидеть, покуда до него люди доберутся.
– Обрез-то откуда?
– Да отец же его и сделал. Боевую винтовку пилкой обрезал. И хранил завсегда от себя поблизости.
– В горнице?
– Ему и до чулана было рукой подать. Там, в чулане, в бревенчатой стене гнездо выдолблено, как раз, чтобы обрез и обойму с патронами вложить. И не знатко вовсе. Деревянной планкой прикрыто. Да поверху-то еще царский патрет в рамке привешан. Царя в горнице держать стало сумлительно, а расставаться нету охоты, отец часто ему выговаривал…
– Патрету или царю?
– Царю, конешно, только через патрет. Выпьет самогонки, встанет перед патретом и матерится: «Хреновый ты был царь, Николашка! И дурак! Как холощеный кобель!»
– Вроде за сторожа у него был царь-то?
– Э, кабы за сторожа, так он его в кладовой бы привесил. Да ты пиши, пиши! – сказал Сашка, заметив, что Уфимцев, обмакнув перо в пузырек с чернилами, в чем-то засомневался. – Я ведь не все рассказал. Может, еще с моих слов хоть какое-то добро выйдет. Вот ступайте-ко, кладовую оследуйте…
– Что там?
– В точности и не знаю даже. Видел мельком и сыздали.
– Ох, гаденыш, прости меня, господи, – проворчал Чернов, вынужденный слушать признания Сашки.
– Однако помолчал бы ты, Петро Евдокеич, – толкнул его в плечо Гурлев. – Все же следствие уважать надо. Ты не у себя на мельнице.
По просьбе Уфимцева, не пожелавшего останавливать допрос, пока его подследственный снова не впал в апатию, Чекан и Гурлев, засветив керосиновый фонарь, отперли железную дверь кладовой, встроенной между амбарами и завозней. Тулупы, овчинные шубы и боркованы, свертки отбеленных холстов, половики, разная праздничная и будничная одежда – все это было уторкано, как в сундук. А под каменным сводом, на деревянных распялках висели отдубленные кожи, пропитанные паровым дегтем сапоги и женские обутки, отороченные гарусом и телячьей шкурой. Разбирая и перекладывая домашнюю утварь и одежду, наготовленную на многие годы вперед, Чекан брезгливо отворачивался, ему все время казалось, что тут должны быть полчища блох и всякой иной плотской живности. Но иначе невозможно было добраться до того дальнего угла кладовой, где, как сказал Сашка, Евтей закопал ящик с «чем-то». Добытый из-под настила продолговатый и уже почерневший от времени ящик оказался с трехлинейными боевыми винтовками и с оцинкованными коробками патронов, которых хватило бы на вооружение десятка людей.
– Вот так Сашка, молодец! – удовлетворенно воскликнул Гурлев, высвобождая винтовки из промасленной мешковины. – Сукин сын, убивец, но молодчага! Да тут, в этом склепе, без него мы бы ничего не нашли!
Вдвоем они перенесли ящик в дом, поставили в горнице, рядом со скрюченным телом Окунева.
– Вота! – торжествующе отмечая еще одно доказательство своей правоты, встрепенулся Сашка. – Я же не зря баю, у меня уши и глаза навострены. И слышал я, как отец с Петром Евдокеичем про Барышева сговаривались. Кабы не Гераська, все бы запомнил.
Неожиданно, как кем-то встревоженный, он круто повернул лицо к Чекану, пошарил рукой по лавке.
– Ты пошто, избач, на Аганю так смотришь?
– А что такое? – спросил Чекан. – Нельзя разве?
– Будто бы она тебе приглянулась!
– Я не смотрел вовсе. Но и посмотрю – не съем! Мне теперь недосуг, – добавил полушутя, – совсем нету времени на девушек любоваться.
– Ты, наверно, счастливый, – позавидовал Сашка. – Зато мне на долю ничего не пришлось. Злой бог живет на небеси.
Аганя, вся как озаренная красным пламенем, смущенная и суровая от того, что Сашка заговорил о ней при людях и выставил наружу то, о чем она просила его никогда не напоминать, наклонилась к нему ниже, настойчиво зашептала на ухо.
– Нет, не стыдно! – мотнул головой Сашка. – Я ведь не со зла. Это на небеси живет бог злой. Иначе пошто не напустил на наш двор молнию? Мы ведь навечно прокляты!
– Кем? – косился Уфимцев, записывая.
– Еще баушкой Степанидой. Отцовской матерью. Когда зачала баушка кончаться, то попросила причастие сделать. «Из милости прошу, – сказала она, – позови-ко ты, Евтей, поскорее попа, исповедаться мне надо, на тот свет благословение принять». А отец-то возьми и откажи. «Нету, – сказал он, – денег нету, чтобы попу платить. И без причастия обойдешься, не шибко праведно жисть провела!» Баушка на то осердилась, ему перстом в лоб ткнула: «Будь проклят ты, окаянный, со всем отродьем!» Добрый бог не принял бы это проклятие. Отца наказал бы, а насчет его отродья скостил бы. Ведь я ни при чем! Отец обманул бога и баушку. Денег у него много. И гумажные, и золотые…
– Золото, согласно закону, придется изъять, – сказал Уфимцев.
– Берите, – охотно согласился Сашка. – Никому оно не понадобится. Гумажные деньги в горнице, в сундуке, а золотые монетки эвон в исподе, под кирпичами хранятся…
Уфимцев кончил его допрос лишь часа через два. Время перевалило за полночь. Ходики на простенке перестали тикать, их маятник остановился, словно боялся нарушить тишину и запустение дома.
Еще не менее часа Уфимцев пересчитывал добытые из-под кирпичей золотые монеты царской чеканки, составлял в присутствии свидетелей акт об изъятии. Ящик с винтовками и опечатанный холщовый мешочек с золотом увезли в сельсовет. Двор опустел, любопытствующие мужики разошлись.
– Ну, а тебя куда теперич девать? – глядя на Сашку, почесал в затылке Уфимцев. – В камеру отвезти бы! По закону. Однако дотянешь ли?
– Дай ему оклематься, – тихо, но настойчиво попросила Аганя, не отходя от Сашки. – Пусть дома ночует. И приготовить его надо. А уж завтра решай…
Уфимцев заколебался, но Гурлеву не понравилась такая уступчивость.
– Слышь-ко, деваха! – сказал он строго. – Хватит уж опекать кулацкого сына. Кабы хоть сестрой или невестой приходилась ему. Или еще не надоело батрачить? Чего ради стараешься?
– Да ведь он никому не нужен совсем!
Она произнесла это так просто, спокойно и с такой покоряющей верой в необходимость доброты, что Гурлев даже отступил на шаг и не нашел возражений.
На всякий случай, для гарантии Уфимцев все же оставил при Сашке Акима Окурыша и предупредил Аганю, как бы не вздумал парень принять отраву или поджечь двор. Разумеется, ничего подобного произойти не могло, Уфимцев соблюдал порядок, чтобы высшее начальство не упрекнуло в недостатке знания закона. А Чекан порадовался мужеству и великодушию Агани, искренности, в которой так ясно проявлялись ее чувства, а также и тому, что влечение к ней, к этой милой девушке, совершенно для него неожиданное, чем-то похоже было на открытие нового мира. Аганя продолжала внимательно слушать наставления Уфимцева и, казалось, ни к чему иному не выказывала интереса. Между тем она видела отражение Чекана в крохотном зеркальце на простенке и все время смотрела туда. Собрав остатки сил, которые в нем еще тлели, Сашка вдруг приподнялся, сорвал зеркальце и кинул пол лавку.
– Айдате все в малую избу, – распорядился Уфимцев, – пусть парень пока отдыхает. Экую страсть здоровый не каждый выдержит.
– Не стану больше молиться, – отчетливо произнес Сашка и заплакал. – Не стану! Погасите лампаду!..








