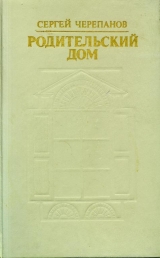
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 31 страниц)
На весь бабий век
Вечернее чаепитие для деревенского жителя – это милая пора отдыха от дневных трудов, время душевного умиротворения.
Половина дома Сапожниковых, занятая Маремьяной Васильевной, обращена окнами к реке, за ней, на высоком взгорье, леса и в полнеба закатное зарево. Мглистый полусвет уже смыл в улице вечерние тени, улеглась на дороге пыль, стихло мычание коров, подоенных и запертых на ночь в загоны.
Медный самовар на столе под стать дородной хозяйке. Лет ей за пятьдесят, а лицо без морщинки, светлое и приветливое. Пьет она чай со сливками, сахар вприкуску, по стародавнему правилу.
Наш разговор ведется неторопливо, слово за слово, доверительно, и только иногда Маремьяна Васильевна, вспоминая, то улыбнется, то слегка нахмурится, вздохнет и голос понизит.
– Что же, себе судьбу ведь не выберешь! Уж какая достанется. Вот и любовь тоже. Иные играют в нее, балуются, не то еще чего-нибудь вытворяют, а на мое понятие – самое это дело святое, поскольку кладет она начало всей жизни. При хорошей-то любви никто еще не жаловался, что-де судьба не удалась. Во всех бедах и горестях, она, любовь-то, теплый уголок и прибежище. Да и сносу ей нет на весь бабий век!
Бывают и посреди нас вертушки, чего и говорить, бывают, но не по ним надо судить о верности, а вот по таким, как Настасья Степановна, с которой мы под одной крышей живем.
Трудно, очень даже тяжко детей народить, поставить их на ноги, приучить к честности и совести, а все ж таки решиться взять на себя чужое страдание, как довелось ей, уж куда как труднее.
Ну-ко, каждый день и час, тем более в ночную пору, когда и тебе хочется быть кем-то обласканной, попробуй смирись, виду не покажи, каково печально и тягостно!
У меня у самой сердце прострелено, коротаю век в одиночку, а и то диво: экая она, Настасьюшка-то, стойкая однолюбка!
Мы с ней в один год вышли замуж. Я выбрала кудрявенького, на словах обходительного, а Настя взяла парня озорного, неучтивого, у коего больше хиханьки да хаханьки на уме.
Сыграли мы наши свадьбы в один день, в субботу, а в воскресенье война началась.
Никифора Настасьиного проводили на фронт прямо из-за свадебного стола. Одна ночь досталась молодым, но и то по-летнему короткая, когда заря с зарей сходятся. А моего Андрея лишь через месяц призвали. Так-то восемнадцати лет от роду оказались мы с Настей солдатками.
Вскоре начали поступать на солдат похоронки. Сперва овдовела Василиса Согрина, остались у нее на руках пятеро ребятишек, мал мала меньше. А уж потом и счет потеряли.
Наверно, одна я почту получать не боялась. Моего Андрея взяли в какой-то штаб писарем. До фронтов далеко, в бои ходить не приходилось, окопы не рыл, в голом поле в слякоть, в стужу не замерзал. Настя, бывало, спросит: как, мол, Андрей-то, жив ли, не ранен ли, а я признаться не смею. Ее Никифор с переднего края войны не выходил, писал часто: «Нахожусь в окопе, немцы стрелять перестали, тихо пока, вот тороплюсь, родимушка, тебе письмецо заготовить. Любонька ты моя!»
За два года войны с Никифором ничего не случалось. Боевые ордена заслужил. Обнадеживал Настю: «Скоро фашиста добьем, готовь, родимушка, брагу, солдата встречать!»
И вдруг как обрезало: нет писем! Со страхом стала Настя похоронку ждать. Тоже не дождалась. Обратилась в военкомат… Еще немало времени миновало. И пришло извещение, как обухом по голове: «Рядовой Никифор Сапожников без вести пропал».
Иные овдовевшие бабы ставили на кладбище «пустые кресты» в память о своих мужьях и поминки справляли. Настасья креста не поставила. Не могла. Не было ясно: где и когда что-то случилось с Никифором, не сквозь землю же он провалился? Хоть, мол, и война, а не тот он человек, чтобы пропасть без следов!
И принялась искать мужа. До конца войны целую стопу бумаги на запросы истратила. Но все без толку.
Испятнала война солдат ранами, покалечила, навязала хворобы. А мой Андрей, как с курорта приехал: свежий, бодрый, в новом обмундировании. Каждый день с выпивки начинал, три месяца ни за какую работу не брался, а во хмелю из себя строил героя.
Невзначай нашла я у него в кармане две фотокарточки. На одной городская мамзель, не сказать, что старая, но и не молодая. Волосья по плечам раскинула, правую руку в перстнях выставила на стол, в локотке согнула. Шея тонкая, тело тощее. Справный хахаль не позарился бы, а мой Андрей, видать, не поморговал. На обороте фотокарточки надпись: «Дорогому Котику. Надя». На другой фотокарточке тоже бабешка, но эта сама себя шире. Глазки узкие. Хотела я эти фотокарточки в печку бросить, но Андрей у меня их отобрал. Да еще и кулаком замахнулся.
– Не жалеючи, врежу! Небось, сама тоже не постовала.
И понес поливать понапраслнной.
Пыталась я его образумить:
– Нам тут было не до распутства. Походи по дворам, спроси, легко ли бабам жилось? Да и у своей матери узнай про меня: видала ли она, слыхала ли, чтобы я честью поступилась?
Разумный муж задумался бы, нашелся как-то поправить свое положение и сберег бы семейную жизнь, а он того пуще взбрыкнул:
– Значит, никто на тебя не позарился? Никому не нужна оказалась! Выходит, я хуже всех! Какой же интерес с тобой жить?
Будь бы он выпивши, нашлась бы я простить его. А был Андрей трезвый. Упала я на лавку и слезами вся улилась.
После развода на первых порах поселилась я у Настасьи. Она в своем доме проживала одна, уж без стариков. Да и работали мы с ней вместе: Настя на молочной ферме коров доила, а я растила телят. Друг от дружки мы ничего не таили. Хлеб пополам. Даже спали на одной кровати. Иной раз на великий праздник, чтобы от людей не отставать, купим бутылку красного вина, пирогов настряпаем, постелем в доме чистые половики и справим гулянку. Попоем песни, попляшем, Никифора помянем, а уж насчет слез – дали зарок: не реветь. Слабостям не поддаваться! Мы – бабы деревенские, хребты у нас дюжие!
Одна беда, от охочих мужиков не стало отбою. Про себя не скажу, так ли уж я была хороша собой, зато Настасья в ту пору находилась в самом соку. Обеим нам не стукнуло еще и тридцати годов…
Первым проторил к нам дорогу бригадир-полевод Павел Сысоич, видный и басовитый. Поздним вечером незвано-непрошено ввалился в дом, вынул из кармана поллитру.
– Составьте компанию, бабоньки! Одному пить невесело.
Прогнать мы его не решились: как знать, может, он с добром пришел?
Подала я закуску, обе с Настей пригубили по рюмке.
Часу не прошло, Павел Сысоич захмелел и принялся меня из дому вытуривать.
– Пойди прогуляйся, Маремьяна, на улице. Мне надо с Настасьей поговорить.
Вижу, куда гнет, и Настя вдруг побледнела. Поднялась я с лавки, подхватила его под руку:
– Вместе пойдем, Павел Сысоич! Ты сейчас не в том состоянии, чтобы с молодой женщиной посекретничать. И, не дай бог, до твоей жены донесется!
Вытолкала его, а на улице прямо сказала:
– В следующий раз, Павел Сысоич, если опять на Настю взыграешь, позову соседей в свидетели да при них твою бесстыжую рожу помелом разрисую!
Этого отвадили, Кирюха Блинов к нам повадился. Чуть свечереет, он уже тут: сидит, курит, лясы точит. Доусмерти надоел! Да и в деревне ведь запросто понимают: ходит, значит, ночует! Пристанет на бабью честь пятнышко – не отмыть!
Мне, разведенке, носить позор было не по плечу, а Настя не переставала ждать своего Никифора.
– Тебе, Киря, уж сколько годов? – спросила как-то Настасья.
Тот хотел возраст надбавить, сказаться постарше.
– Не ври! Тебе не свыше двадцати, – обругала Настасья. – Мне и Маремьяне лишь в младшие братья годишься. Неужто посреди девок пару себе не найдешь?
– Девки сразу ставят условие: женись! – признался Кирюха. – А зачем рано жениться? Охота еще на подножном корму погулять!
– Подножного корму полно в огороде. Туда и ступай!
Мой бывший муж Кокин вскоре женился, взял Симку Балабину, продавщицу из продуктового магазина. Раздобрел на ее хлебах. Для забавы и для прогулок купила ему Симка мотоциклет, потом на легкую работу воткнула. Прежний завклубом уволился, Кокин и занял свободное место. Хоть бы чего-нибудь понимал в деле, а взялся.
Не стала бы я ни хаять его, ни хвалить, пустоцвет все равно останется пустоцветом, кабы не распускал про меня дурную славу. Вымолвить стыдно, чего напридумывал. А мне и заслониться-то нечем.
Настя меня утешала:
– Клевету надо мимо ушей пропускать. Один с зависти и со зла, другие сдуру, не разобравшись, в колокола звонят. Не век же слушать. Потешатся и перестанут.
Все годы, сколь мы с ней прожили вместе, не переставала я дивоваться ее твердости и доброте.
Вот у кого надо бы иным мужикам характера призанять!
Купил наш совхоз племенного быка, по кличке Баян. Привезли его на ферму опутанного веревками. Бросили на автомашину мосток и волоком Баяна спустили на землю, а как дальше его препроводить в отведенное помещение, мужики не нашлись. Боязно подступиться! Боднет Баян, возьмет на рога – в живых не оставит.
Из боязни надумали они силой с ним справиться. Взяли на распялки, вшестером тянули, а Баян уперся в землю – и ни шагу вперед.
После дойки Настасья собралась домой, а как увидела, что Баяна так мучают, заругалась на мужиков.
– Самих бы взять на распялки да хорошенько кнутом постегать! Тоже принялись бы артачиться.
– Ступай, баба, своей дорогой! Не храбрись! Это тебе не с коровами нянчиться! – оскорбились те.
– Поглядим, кого он скорее послушается…
Сбегала Настасья в коровник, надела белый халат, принесла чистую тряпку, ведро теплой воды, пучок свежей травы и пошла к Баяну. Тот на нее уставился глазищами, замычал, а она ему:
– Да не трону я тебя, не трону! Вот сейчас умоемся, травки пожуем и на отдых.
Хоть бы дрогнула перед этим страшилищем.
Прежде погладила Баяна ладонью по спине, потом его морду водой помыла, тряпкой досуха вытерла. Он поначалу еще дичился и косился на нее, потом присмирел и даже принял траву. Веревки уже не понадобились. Настасья сняла их и на коротком поводке отвела Баяна в стойло.
А уж как мой Кокин ее изводил…
– Ты простодырая, беспонятная, Настя! – говорил он. – Работница хорошая, передовая, а нет в тебе настоящего смыслу. Вот Баяна пожалела, но себя ни чуточки не щадишь! До конца жизни, что ли, станешь Никифора дожидаться? Сколь мне известно, из числа «без вести пропавших» кое-кто в плен сдавался и после войны поопасался возвратиться на Родину…
– До чего же, Кокин, ты подлый! – сказала Настасья. – Ты ли можешь понять настоящую любовь и страдание…
На пятнадцатом году после войны дозналась она от кого-то про особые госпитали, где прибраны государством немощные калеки-фронтовики. Взяла в военкомате адреса. Разослала запросы: «Не числится ли у вас рядовой солдат Никифор Сапожников?» А для себя решила: если снова неудача постигнет, придется ставить на кладбище «пустой крест».
Ни один ответ не порадовал. Последний пакет Настасья, даже не открывая, сунула в комод, где переписку хранила. А меня будто кто невидимый толкнул, все ж таки, думаю, надо проверить. Распечатала, прочитала, и руки-ноги у меня обомлели. Сообщалось, хоть и не очень подробно: «Сапожников Никифор Демидович находился на излечении с 1944 по 1947 год ввиду тяжелой контузии. Выписан и направлен по месту жительства».
Настасья тогда чуть ума не лишилась. С одной стороны, счастье – отыскался муж! С другой, беда хуже прежней: куда же он по пути домой потерялся? Почему за все годы весточки не подал?
– Отстань ты, Настя, от него, – вздумала я ее образумить. – Все они, мужики, одинаковые!
– А ты по своему Кокину не измеряй, – возразила она. – Покуда сама не увижу, ни во что не поверю!
– Опять поиск начнешь?
– Сделаю все, что могу! Не знаючи, любая понапраслина кажется правдой. А может, помочь ему надо?
Тогда же обратилась она в милицию: так и так, прошу розыски объявить.
Не знаю, кто и как занимался ее делом, многих ли трудов это стоило, но долго ли, коротко ли, а милиция нашла мужика. Оказался он далеко, на Северном Урале, в тайге.
Собралась Настасья туда. Лето кончалось, частые дожди набегали, по утрам иней падал. По экой погоде даже до ближнего поля ходить не манило.
Отговаривала я ее: простудишься-де, намаешься в чужом месте, а то ли примет тебя Никифор, то ли на порог не пустит – заране не угадать.
– Нет, поеду! – заладила. – Поговорить надо с ним.
Напросилась я в попутчицы. Вдвоем все же способнее.
Леспромхоз оказался в дикой глухомани. Край земли.
Уж на третий день, поздней ночью добрались до места. Снегопад начался. Сквозь него огоньки в избах еле приметны. Деревенька старая, кондовая, с незапамятных времен.
Переночевали в доме шофера, с которым от станции ехали. Он еще по дороге рассказал про Никифора. Да, есть-де такой, давненько тут проживает. Работает пилоправом, одинокий мужик, не пьющий, не баламут, только не охочий на разговоры. Каким случаем прибыл сюда? Дружка своего доставил, Семена Пантелеева, сына Марфы Григорьевны, местной учительницы. В каком-то госпитале Никифор и Семен повстречались, а после выписки расставаться не захотели. Семен без правой руки, без левой ноги. Никифор взялся его до дому сопровождать, потом сам тут обосновался. С виду он вроде бы не нарушен, все части тела при нем, но после контузии его падучая бьет. Марфа Григорьевна, как Семен ее скончался, уговорила Никифора быть ей вместо сына.
Я пока слушала – наревелась досыта. Господи, думаю, за что же это, неужто мало на земле горя, чтобы еще и ни в чем не повинных людей разлучать?
Жена шофера накормила нас ужином, напоила чаем с брусникой, уложила спать в горнице. Намыкались мы по дороге да намерзлись с непривычки в тайге, наволновались донельзя и до утра глаз не сомкнули. Только дрема подступит, будто подтолкнет кто-то, заставит очнуться. Настасью еле-еле удержать удалось, она бы тотчас побежала к Никифору.
Утром хозяйка привела нас к Марфе Григорьевне в дом. Старушка уж совсем старенькая, лицо в морщинах, спина присогнута. Огорчили мы ее: Никифор сказался ей холостым и безродным, она и надеялась при нем своего последнего сроку дождаться… Но очень даже чутко приняла страданье Настасьи, похвалила за верность.
Судьба шибко надломила Никифора. Поседел, усы отпустил, в глазах поздние сумерки. Этак случается, когда человек отшатнется от мира, душевно ослабнет, погасит в себе живинку и топчется на одном месте, вроде перед неодолимой стеной.
Увидел перед собой жену, протянул к ней руки, но зашатался и грохнулся на пол. Принялась его падучая бить. Уж такая ли это проклятущая хворь, со стороны смотреть, и то становится дурно. Мы втроем на Никифора навалились, чтобы хоть он голову свою не расшиб, и еле управились.
Первое слово, кое мы услышали от него, когда он в себя пришел, было то дорогое, заветное:
– Родимушка!
Хоть и скупо, чаще обрывками, лоскутками, что еще не затуманило временем, порассказал он нам о себе.
Случилось такое с ним на польской земле. Наши войска шли в наступление. Встряхнуло вдруг Никифора. Отбросило. И все! А когда очнулся, пошевелиться не мог, засыпан землей. Выбился из-под нее, чуть собрался с силами, но толком не мог сообразить: где он, почему вокруг тишина и ни единой живой души? Небо голубое, солнышко на закат склонилось, на поле трава опаленная, а он один посреди этого поля. Попытался подняться на ноги, идти куда-нибудь, какое-никакое жилье искать, но разум опять замутился. Во второй раз очнулся уже в чьей-то избе. Лежит в постели, незнакомая баушка над ним склонилась, шевелит губами, говорит что-то, а у него же только гул в голове, ничего не слыхать. Оглох! Потом подошла девчушка годов четырнадцати, в кружке воды подала.
Уж потом, в госпитале, узнал: деревенские поляки подобрали, малость выходили и переправили к нашим.
Больше года он был на излечении как неизвестный солдат. Где-то сняли с него гимнастерку вместе с орденами и личными документами. Попал в госпиталь разут-раздет, вдобавок глухой и вроде бы не в себе. Да падучая привязалась. Только уж на второй год пребывания начал мало-помалу отходить, стало в голове проясняться.
До той поры не понимал своего положения, а как вспомнил, что есть у него молодая жена, свой двор, родня, да как представил, каково-то будет жене при его инвалидности, порешил одиноким остаться. Любил ведь Настасью не как-нибудь, не просто житейски, а все в ней сошлось: мать, отец, сестры – все про все, самое дорогое!
– Думал даже кончить себя, – признался Никифор. – Кабы Семен, искалеченный, не нуждался в подмоге, зарылся бы обратно в землю.
– И поступил бы бессовестно, – выговорила ему Настасья. – Пусть бы от тебя половинка осталась, и то не отказалась бы от нее. Страдание не страдание, если разлуке конец. О себе ты подумал, а меня к кому приравнял? Что же, по-твоему: любовь – это так, до поры, до времени, покуда все ладно и хорошо, а пристигнет испытание, надо в разные стороны разбегаться?
Отгостили мы в доме Марфы Григорьевны пятеро суток. Никифор уволился из леспромхоза, старушке на зиму дров наготовил. Звали ее к нам, примем-де как мать, но она отказалась: старому дереву в другом месте не прирасти.
Жить бы да жить Никифору и Настасье в любви и согласии. Никифор – мужик работящий. Но и здесь, дома, его прищемило. Многие земляки встретили недоверием. Иные даже спрашивали напрямик: не сочиняешь ли, будто не по своей вине документы утратил, не сдавался ли немцам в плен и почему столь долго себя не оказывал, не в колонии ли за измену срок отбывал? Насчет колонии подозрение сразу отпало, предъявил Никифор справки из госпиталя и леспромхоза, а на все остальное ничем ответить не мог. Без бумажки голое-то слово никто во внимание не взял. Только фронтовики, кои сами на войне семь бед повидали, отнеслись с пониманием, понапраслин не строили, но ведь сорную траву с поля не вытравить, если кто-то ее подсевает.
Я позднее дозналась: это мой бывший муж, Кокин, оказался зачинщиком. Ему от простой поры бросать тень. Любого мужика или бабу, бывало, всяко охает и осрамит, родного отца оконфузит, если поперек ему скажут. Все плохи, с изъянами.
Свою судьбу я благодарила не раз: вовремя развела она меня с Кокиным. Не построился бы у нас мир в семье…
А какой же расчет имел Кокин, когда взялся ставить Никифора под сомнение? Тот ведь ничем-ничего, худого слова ему не говаривал. Зловредность – это само собой, из характера ее не выжечь огнем, не вырубить топором. Надо было Кокину еще и самого себя показать: вот-де какой я догадливый, на два метра сквозь землю вижу! И вдобавок – зависть! Не мог стерпеть Настасьину преданность мужу.
Мы с Настасьей и при Никифоре не расставались. К ее дому сделала я для себя пристройку с отдельным входом.
В воскресный день сидели мы втроем за столом у Настасьи. Она сдобных шанежек напекла, самовар поставила, и вели мы душевный разговор о детишках. Настасья ходила в тяжести, вот-вот надо было рожать, а я, бездетная, намеревалась удочерить сиротку из детского дома.
Погода стояла ведренная, створки в окошках раскрыты настежь.
Вот сидим, пьем чай, ведем беседу, как вдруг подошел к окну посыльный из сельсовета, Иван Парамоныч.
– Никифор! Ступай к председателю. Насчет тебя из Польши какой-то пакет поступил…
Мужик чуть чаем не поперхнулся.
– Не надо пугаться, – предупредил Иван Парамоныч. – Пакет не казенный. Что-то о твоих документах…
Оставили мы на столе недопитые чашки с чаем, наспех оделись-обулись и скорехонько явились в сельский Совет. Председатель, Федор Никитич, встретил нас на крыльце. Поздоровался честь по чести, но распечатанный пакет подал не Никифору, а Настасье.
– Весточка прибыла к тебе через двадцать годов…
Лежало в том пакете сложенное угольничком, писанное рукой Никифора письмо с фронта. Помятое, надорванное, от времени пожелтевшее, но адрес был еще разборчивый. Настасье! Вместе с ним было прислано еще одно письмо – сельсовету, от польской гражданки Ядвиги Яблоньской. Наполовину по-русски, наполовину на своем языке.
В тот год войны Ядвига вместе со своей бабушкой нашла близ деревни советского солдата в беспамятстве. Взяли они солдата к себе в хату, бабушка сняла с него гимнастерку с орденами и личными документами, спрятала подальше, а Ядвиге наказала: ежели фашисты придут, станут про солдата допытываться, надо соврать им: вовсе, мол, это не какой-то приблудный, а хворый племянник. Ден через пять, когда солдат уже начал оживать, ворвались полицаи, в хате все перерыли, а солдата уволокли и бросили где-то. Бабушку застрелили. Наверно бы, Ядвигу та же участь постигла, только она успела в поле убежать, попала к партизанам. Те потом подобрали солдата, а куда дальше подевался, ей уже неизвестно. Долго стояла хата пустая. Ядвига выросла, замуж вышла и вот недавно надумала с мужем хату сломать, новый дом ставить. Под застрехой, где голуби гнездились, нашли спрятанную гимнастерку, а в кармане оказалось письмо, которое солдат не успел жене отослать.
Дальше обращалась эта польская гражданочка в наш сельсовет: если-де жена солдата жива-здорова, передайте ей низкий поклон, письмо вручите и справьтесь, как с гимнастеркой поступить: на ней же ордена и медали…
Ой, трудно сказывать, что с нами творилось, покуда письмо прочитали! У меня сердце слабое, слезы всегда наготове, но и Настасья, при ее-то характере, тоже не могла удержаться. У Никифора руки места не находили: он все ж таки мужик, солдат, ему не положено достоинством попускаться.
– Баушку жалко! – вот и все, что он нашелся сказать.
Отписал Никифор ответ, поблагодарил за находку и попросил Ядвигу прислать гимнастерку посылкой. Должен бы, дескать, сам приехать, да одному, без сопровождения, здоровье не позволяет, а жена в тяжести, и оставлять ее здесь неспособно.
Федор Никитич заверил его письмо сельсоветской печатью, чтобы не случилось сомнения, тот ли это Никифор Сапожников.
В деревне от двора к двору молва быстро разносится. Недоверие к Никифору разом отпало. Кокин язык прикусил.
Вскоре прибыла посылка из Польши. Гимнастерка грязная, в налипшей земле, один рукав почти напрочь оторван, это, наверно, когда снаряд подле солдата взорвался, так, может, воздушной волной, не то осколком задело. И остался на ней след войны.
Зато ордена и медали полностью сохранились. Справа – гвардейский значок и Красная Звезда. Слева два ордена солдатской Славы. В кармашках гимнастерки в целости документы и Настасьина фотокарточка.
Хотел Никифор ордена с гимнастерки снять, на пиджак разместить, а Настасья не позволила.
– Нет! Ты сначала надень на себя гимнастерку, дай поглядеть, ведь в солдатском обмундировании я тебя еще не видала.
Тот исполнил ее желание, надел эту рваную, грязную гимнастерку, ремнем подпоясался, впервые лицом посветлел.
Вывела его Настасья на улицу.
– Пойдем! Всем людям я тебя покажу!
А я тем временем, хоть и не верю ни в бога, ни в черта, чуть не молилась: как хорошо, что сотворенный мир стоит на вечном добре! Ведь заглохло бы все, одичало без нашей душевности друг к дружке, когда не только в счастье, но и в несчастье люди остаются людьми…
Самовар на столе, остывая, тоненько, с перерывами, пел. Кошка поднялась с подоконника, широко зевнула и спрыгнула в палисадник. Зашипели часы на комоде, отзвонили прошедшее время, как бы провожая его в бездну вечности. В тишине и теплом сумраке растворились былые горечи и печали, и невидимо, неотвратимо подступало что-то, еще нам неведомое.








