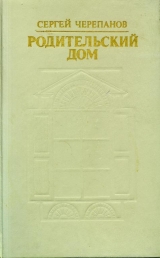
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Гурлев подумал об этом исключительно потому, что неудачную любовь Митьки Холякова, как и роды Варвары Крюковой, не мог отделить от всех прочих деловых забот.
– Не удастся Софрону, придется самому взяться, – вслух сказал он и, остановившись посреди дороги, записал в книжечку:
«Сходить к Пашниным».
Ему еще захотелось по пути зайти к Ксении и узнать, как она относится к браку дочери с его сыном, но заметил возле калитки Согрина и отвернулся.
Плохо Согрину спалось в эту ночь. Ксения уступила ему свою постель, тело ныло и страдало от усталости, нуждалось в отдыхе, а глаза не смыкались. Думал, злился, ворочался с боку на бок. Перед утром, открыв дверь Таньке, совсем сна лишился.
С восходом солнца оделся и вышел в оградку. Ксения доила корову. Чильк! Чильк! – позвякивал подойник под струйками парного молока. Танька еще нежилась в сенцах, на раскладушке.
– Кого ты вырастила, для какой жизни? – гневно выговорил он Ксении. – Зачем всю домашнюю работу везешь сама? «Ох, доченька, ручки не пачкай; ох, доченька, подольше поспи да оденься понаряднее!» Это такое твое воспитание?
– Как уж могу, – спокойно ответила та, не переставая доить корову.
– Вот и будет мотовка!
Прежде, пока не было известно о замужестве внучки, Согрин испытывал к ней противоречивое чувство. Иногда, как добрый дед, пытался приласкать, одарить безделушками: ведь ей же достанется все наследство! Не росла она у него на руках, малой крохой не взбиралась к нему на колени, не теребила за бороду, не смешила детским понятием. Он признал ее совсем уже взрослой. Но стремился породниться поближе. И она признала, не выказывала никакой неприязни, старалась угодить его мелким прихотям. Все же настоящей родственности не получалось ни у него, ни у нее. Приезжает в гости старик. Называется дедом. Ну, что же – милости просим! И сидят за одним столом, пьют чай, разговаривают, а все как-то с натугой, без сердечности. Прикидывались родней. Поэтому не возникало желание встречаться чаще, взять ее к себе, при своей жизни передать ей все нажитое. А сейчас и притворяться дедом стало противно. Не оценит ведь дедов труд и старание, как проклятое, все размотает и растранжирит. Не приучена наживать. Непокорна.
– Жаль, не прежнее время, – не унимая гнева, проворчал Согрин. – Я бы ее научил, как до утра где-то любовь справлять и деду хамить… Теперь же прав никаких нет. Палец поднять нельзя.
– Поздно вспомнил, отец, – напомнила Ксения. – Я тебе Танюшку в обиду не дам. Гостишь, так гости подобру!
Из-за этой размолвки отказался от завтрака, который она предложила, а выходя из оградки, хлопнул калиткой. Если бы не крайняя нужда, минуты бы не остался. Как ждать сочувствия от чужих людей, как надеяться на чью-то помощь, когда родная дочь еле терпит!
Солнце вставало над селом, разгораясь. Глубоко просвечивалось синее, в тучках, небо и дальнее заозерье. По большаку, взвалив на плечо три шпунтовых доски, мелко семенил ногами Окурыш, по-чудному одетый: вместо пиджака – потертый солдатский китель, на голове зеленая фуражка пограничника. Согрин брезгливо поморщился, но разминуться с Окурышем не удалось. Остановился перед ним, вежливо приподнял шляпу.
– Мир доро́гой, Аким Лукояныч! Спер, что ли, доски-то?
– У Егорки Попкова отнял! – удало ответил тот, вытирая рукавом пот с лица. – Живет, гнида, из милости, да еще и ворует со стройки. Теплый тувалет себе строит.
– А что же вы его из села не прогоните?
– Пропадет ведь.
– Пожалуй! – согласился Согрин. – Хоть никуда мужичонко, а все ж таки живая душа. Да и народ теперь человеколюбием славен. Надобно прощать заблуждения. Иначе зла накопятся горы.
Это он сказал так в угоду Окурышу, а попрощавшись с ним, сплюнул: «Человеколюбие до тех пор хорошо, пока в карман не залезет. И уж нашли к кому его проявлять. Стоит на земле изба, в избе дыра – таков он, Егорка!» Однако случай этот навел его на мысль о возможном прощении, о покаянии перед людьми, как сделал когда-то отец Николай, перенеся позор отречения от сана священника. И вдруг даже услышал свою покаянную речь: «Граждане! Вот я, Согрин, заявляю вам: от моей злой воли погиб Кузьма Холяков! Хотите судите меня, хотите милуйте!» А что ж дальше произойдет? Чем все кончится?..
Представилось сразу такое, отчего по телу пошли испарина и озноб: стоит перед ним большая толпа, молчит, только отовсюду глаза смотрят, полные ненависти. Ведь не верой православной дурманил, не доски со склада украл! «Господи! – пошевелил он обсохшими губами. – Неужели с тем и скончаюсь? Против целого мира один. Как подохший в ту пору Барышев».
Вспомнив, Согрин с отвращением скривился: «Еще этого не хватало мне, чтобы с ним в один уровень становиться! Чего ж это я так раскис? А может, еще ничего не случится?»
Небольшая, но все же надежда опять засветилась.
Часа три медленным шагом человека, ничем не занятого, бродил по улицам и переулкам, без смысла смотрел в окна чужих домов, пока себя укрепил. Завтракать из гордости и от зла к Ксении не пошел, повернул к продовольственному магазину сельпо, мельком подумав: «Ну и судьба у этого дома: сначала жил в нем поп, затем устроили тут клуб, а теперь уже приспособили для торговли!» На том месте, где, бывало, отец Николай, сидя в тени черемухового куста, распивал чай, навалом сгружены пустые ящики, а чуть подальше врезаются в небо три ободранных, наполовину засохших от старости тополя.
Осторожно придерживая стеклянную дверь, Согрин переступил порог, степенно приблизился к прилавку. Его наметанный, зоркий взгляд разом охватил, что есть на полках: марочные вина, рыбные консервы, печенье, конфеты и как поленницы свежий хлеб. И все это посреди аляповатой роскоши: деревенские маляры не пожалели красок, напестрили на стенах, на потолок накидали невиданных цветов, радугой обвели дверные проемы. И стоит под такой радугой продавщица, румяная и грудастая, как мать-богородица, но с холодным, неприветливым выражением на лице.
– Гражданин, выйдите отсюда обратно! Магазин закрыт на учет!
– А ты мне сделай уступку, – не двинувшись с места, требовательно сказал Согрин. – Не сломаешься пополам, если отпустишь пачку печенья и парочку сдобы.
– Сказано вам: за-кры-ваемся!
– Так дай сюда жалобную книгу! Я тебе на память кое-чего запишу…
Поссорился бы с ней. Она тоже закипела, приготовилась отточенным языком дать отповедь. И случился бы не малый скандал, если бы в дверях не появился Гурлев, заслонив косой луч солнца. Продавщица сразу обмякла, обнаружила улыбку, а Согрин молча выложил перед ней бумажный рубль.
– Решил нашего хлеба попробовать? – спросил Гурлев не очень приветливо.
– Хлеб везде одинаковый, – мирно сказал Согрин.
– Теперь везде! А что же сам в магазин притопал? Неужто Ксения для тебя сдобу жалеет?
– Я на дочь не пеняю, Павел Иваныч! Скупость за ней не водится. Про запас хочу взять печенья и сдобы. На поля собираюсь. Давно от природы отстал. Полежу где-нибудь возле кусточка ракитового. В небо погляжу, куда душа отойдет. Птичек послушаю.
– Не поют уже птицы, в отлет ладятся, а кукушка ячменным зерном подавилась. Осень ведь подступает.
– Я кукушку и прежде не жаловал. Не домовитая она. Как баба гулящая. Но пуще всего, Павел Иваныч, тишины хочу! Надоел мирской шум и суета!
Это он сказал правду: только тишины, только покоя хотелось ему сейчас.
– Если к Чайному озерку собрался, так не найдешь свое бывшее поле, – предупредил Гурлев. – Межи распаханы.
– Не манит туда! В дубраву схожу…
И это сказал правду: бывшее поле у Чайного озерка теперь, как заклятое. Туда, где принял гибель Кузьма Холяков, уже ногой не ступит.
По выходе из села, на большаке, навстречу прокатился молоковоз. Из окошка кабины высунул голову Колька Саломатов, шофер, парень не в отца и не в деда Василия – худосочный, жилистый и носатый. Завидев на обочине Согрина, помахал рукой. Жених для Таньки не очень фартовый, но было бы лучше отдать за него, чем отпускать ее в семью Гурлева. Парень едет, очевидно, на молочную ферму, оттуда повезет свежее молоко в Калмацкое на завод, а если не дурак, всегда может на своей машине лишнюю деньгу зашибить. Шоферу деньги сами напрашиваются: кого-то по пути подвезет от села к селу, кому-то между делом подбросит груз. «С дедом Василием, бывало, не раз сиживали за одним столом на гулянках, – подумал Согрин. – Маленько родней приходились. Так нажитое мной не в чужие руки попало бы».
Вид поскотинных бугров, прежде голых, а теперь засеянных травами, не радовал, и Согрин поторопился миновать их. Неподалеку, чуть в стороне от Калмацкой дороги, есть в лесу болото Камышное. Застойная вода из него отходит в протоку, и тут небольшой ложок с чистым родником. Вода прозрачная, чище стекла; на донышке, как на ладони, видны обточенные струей гальки и камушки, а самой воды словно нет совсем. Возле берега болота ложок оброс резучей осокой и красноталом, тут же склонилась над водой плакучая ива, расщепленная молнией. «Экое диво! – удивленно подумал Согрин, присаживаясь в ее тень. – С малых лет помню родник, а все еще течет не переставая. Какая же сила заложена в нем?» И покосился на зреющие у опушки леса хлеба: «Тоже сила!»
Здесь у родника, в благодати млеющего под солнцем разнотравья, настроение поправилось. «Хорошо, как у себя в саду или как у друга в гостях, – довольно подумал Согрин. – Всегда бы, вечно бы так!» Сняв пиджак, расстелил его у родника, шляпу повесил на сухой сучок ивы, разулся, оголив ноги, а потом с удовольствием макал печенье в холодную воду, не торопясь, жевал, подбирая крошки. Вот она, тишина! Даже слышно бунчание пчелы, перелетающей с цветка на цветок. Но и тут все живое стремится одерживать верх для себя. Вот малая пичуга ловит на лету мух. Вот между обвислыми ветками ивы паук плетет свою сеть. Старый, будто затерянный мир…
Вскоре чуткое ухо Согрина уловило приближающийся рокот автомашины. Приподняв голову, он увидел, как из перелеска, по давно заросшей полевой дорожке, вывалился колхозный молоковоз. Затормозив машину, Колька Саломатов вышел из кабины на полянку, воровато оглянулся вокруг и достал из-под кузова порожнее ведро. «Наверное, в радиаторе мало воды, – сообразил Согрин. – Не налил вовремя, разиня!» Однако, зачерпнув воды, Колька не стал отвинчивать пробку радиатора, а, снова оглянувшись вокруг, залез на верх цистерны и добавил воду в молоко. Так он повторил три раза, из чего Согрин понял, что парень наверняка намерен поживиться. И промолчал бы, не стал бы его отвлекать, как вдруг спасительная мысль озарила голову. Таки дождался удачи! И, приподнявшись от родника, громко крикнул:
– Ты, сукин сын, чего тут вытворяешь?
– А-а! – испуганно попятился Колька. – А, дед Прокопий! Я ничего…
– Как это «ничего»! Молоко по количеству вроде в порядке, зато жирность тю-тю! На коров или на доярок поклеп! Вот пойду сейчас в правление, доложу Гурлеву, в тюрьму сядешь, варнак!
– Неужели донесешь, дед Прокопий? – срывающимся голосом спросил Колька. – На первый раз прости за ошибку!
– Ошибка-то, поди уж, не первая! Ишь, как навострился болото доить. Люди трудятся, ты же их грабишь! – И затем ровнее добавил: – Ты ведь не из простой породы, из раскулаченной. Тебе за малый промах скидку не дадут! Затаился-де кулацкий последыш!
– Теперь такого в помине нет! – возразил Колька, понурив голову и опустив плечи. – Но все же прошу, дед Прокопий, не выдавай! Я за то тебя, дед Прокопий, отблагодарю…
– Чем это можешь ты рассчитаться?
– Не знаю! Как скажешь…
– Ну, если уж только услуга за услугу, – мягче и дружелюбнее произнес Согрин. – Как прежде рядились: баш на баш, без придачи! За грех-то грехом рассчитайся!
– Какой же грех?
– Пустяковый. Сделай и на всю жизнь замолчи.
– Какой же пустяк, дед Прокопий, если навек замолчать? – отходя от испуга, спросил Колька. – На худое дело я не решусь, дед Прокопий!
– Воровать молоко разве не худо?
– Ладно, я подумаю, дед Прокопий.
– Смотри, парень! – погрозил пальцем Согрин. – Я тебе доверюсь, а не пытайся меня обмануть. Сболтнешь, пеняй на себя! Я сяду в автобус и в город укачу, а тебе тут жить надо дальше. И ведь ничего против меня не докажешь! Слова к делу не пришивают.
– Лишь бы по силам.
– Сила не нужна, только смекалка.
– Не пойму никак? – насторожился Колька. – Мудрено говоришь.
– Я на свой бывший дом глядеть не могу! – решительно сказал Согрин. – Он, как бельмо! Ясно! Буду рад, если однажды сгорит дотла…
– Его скоро начнут ломать, – понял Колька. – Без поджога…
– А мне охота, чтоб он сгорел! Гнилье, хлам, но лучше огню предать, чтобы ни бревном, ни доской, ни ржавым гвоздем ничто не напоминало старую жизнь. Мало в ней было хорошего! Вот и возьмись… Исполнишь как нужно, так еще в придачу к сегодняшнему проступку новый мотоцикл получишь! Я не скупой…
– Там же дети! – построжел и вскинул голову Колька.
– Дождись, покуда их переселят. Дом останется пустой, брошенный, никто его охранять не станет. Вроде, произошел такой случай: кто-то мимо шел, ненароком бросил окурок. Для верности можно бензину плеснуть…
– Этак ты сам управишься, дед Прокопий!
– Мне нельзя! Сразу на подозрение возьмут. К той поре я уеду.
– Да-а, дорого ты с меня запросил, дед Прокопий, – вдруг насмешливо сказал Колька. – Дурачка нашел!
– Значит, трус ты, Николай Саломатов! – раздраженно, сквозь зубы, процедил Согрин. – Воровать горазд, больше ничего!
– Верно, трус я, дед Прокопий, – спокойно согласился Колька, – однако не подлец! Надо было сходить к Павлу Иванычу и признаться, как вчера нечаянно из цистерны молоко на землю пролил и недосдал на завод, чем сегодня три ведра воды доливать. Выговор схлопотать не хотел. Ну, зато сразу за два проступка придется отвечать. Он меня отругает, взыщет, сколь следует, зато поджигать не прикажет!
– Вот и дурак ты, Колька, – поневоле перешел на шутливый тон Согрин. – Чему поверил! Глупость принял всерьез! Мне ведь делать-то нечего. Ах, думаю, стервец, какой пакостью занимается! И дай-ко, думаю, я его припугну! Небось, душа в пятки ушла!
– Не так страшно, сколь совестно, дед Прокопий! По твоему виду никто бы не понял, что в смешки намерен играть…
«Выходит, не очень весело так «шутить», – скорбно подумал Согрин, когда за перелеском затихло рокотание мотора молоковоза. – Нипочем стал страх! Совесть оказалась в цене. Это у Саломатовых совесть!»
Колька уехал.
Он снова прилег на полянку у родника, опираясь на локоть, но удовольствия от окружающей его благодати уже не почувствовал. Паук продолжал плести в обвислых ветвях прозрачную сеть. Старался, бегая вверх и вниз. В его труде было много терпения, хитрости и сноровки, а все-таки вот хлестнет порывом резкий ветер, прольется дождь, и ничего тут на ветвях не останется…
7
Есть люди, которых как ни украшай, ни отбеливай, а нет к ним никакого расположения. Внешне они вполне благопристойные, вежливые, обычные люди, зато внутреннее их существо всегда словно погружено в мрак, в глазах холод, в словах, всегда точно подобранных, округленных, что-то намеренное, вынужденное, неискреннее. И не возникает поэтому к ним ни сочувствия, ни доброжелательства, ни уважения к их возрасту и положению. Таким казался Прокопий Согрин прежде, и таким же увидел его Чекан теперь. После завтрака шли с Володькой на стройку водонапорной башни, в конец села, и встретили Согрина на большаке. Тот медленно, но твердо ступая на мощеную дорогу, направлялся, очевидно, в лес и Федора Тимофеевича не узнал, мельком окинув его равнодушным взглядом.
– Давно он гостит здесь? – спросил Чекан, когда Согрин достаточно удалился.
– Со вчерашнего дня, – ответил Володька.
– Позвали на свадьбу?
– Свадьбы не будет!
– По какой же причине?
– Просто так. Не хотим. Вот вы-то, Федор Тимофеич, для себя свадьбу справляли?
– Не удалось. Обстоятельства были иные.
– У нас тоже есть обстоятельства… – не договорил Володька.
– По-моему, так Павел Иваныч уже согласился.
– Деваться некуда. И перестал возражать. Вроде бы я его вынудил.
– Возможно!
– Но почему? – горячо произнес Володька. – Родители ведь не отдел кадров, не на производство сноху нанимают, чтобы требовать: заполни сначала анкету, напиши автобиографию, представь справку о состоянии здоровья да приложи две фотокарточки размером таким-то!
– Верно! – засмеялся Чекан.
– Если я люблю девушку и она меня любит, то совсем не интересно, кто ее дед! И отец, насколько я его понимаю, печется теперь не столько о том, что было у него в прошлом с кулаком Согриным, как о том, чтобы нынешний Согрин не повлиял на Таню своим богатством.
– Меня такая проблема тоже волнует, – серьезно сказал Чекан. – Я где-то слышал очень емкое выражение: прежде мы страдали от нужды, а сейчас начинаем страдать от сытости! Все в жизни должно быть разумно, рационально, гармонично. Мы уже достаточно много накопили материального богатства, оно продолжает стремительно развиваться, и человек, который его создал, обязан им управлять, не делая себе вреда. Да, надо иметь добротные и красивые вещи, хорошее жилье, нарядную одежду, запас денег на случай необходимости, но не быть их рабом, не ставить все это конечной целью своего труда. Однобокое желание только «иметь» – это мещанство, обывательщина, житейская узость. Все это, привнесенное из прошлого, на вид не опасное, а между тем, если заглянуть чуть поглубже, оказывается: вслед за поклонением вещам и деньгам идут стяжательство, бесчестие, одиночество и еще кое-что покрупнее. Павел Иваныч и Согрин – совершенно противоположные личности. В прошлом у них была классовая борьба. От нее еще что-то осталось в памяти у того и другого. А содержание самой борьбы изменилось, перешло в идейное качество. Наше поколение стремится передать жизнь в надежные руки своих детей.
– К чему вы клоните? – недоверчиво покосился Володька. – Если хотите поддержать отца против меня, то напрасно тратитесь.
– Как раз напротив! – улыбнулся Чекан. – Я обеими руками голосую за любовь, как за источник чистоты и добра.
– Есть матери, которые при рождении бросают детей, чтобы они им не мешали, но приходят другие люди, этих детишек берут и воспитывают. Потом, когда дети становятся взрослыми, то кто им дороже?
– Наверно те, кто их любил!
– А Согрин только теперь хватился, что у него есть внучка. За что его уважать? Кому нужно его наследство, как случайно найденная на дороге сумка с деньгами? Присвоишь ее, потом мучайся: ведь взял чужое! В этом я за Танюшку ручаюсь!
Такая в нем уверенность, страстность – даже возразить невозможно.
– И для чего нам понадобится чужое наследство – дом, сад и все прочее, если мы с Таней намерены жить здесь и если у нас имеются свои головы, свои руки, свои жизненные цели? – задумчиво добавил Володька. – Хотите знать, Федор Тимофеич: у меня есть наследство намного дороже, чем то, которое может оставить Согрин. Это жизнь и труд моего отца. Его прошлое и настоящее, его мечта о будущем Малого Брода. Вы меня поняли?
– Да! – подтвердил Чекан.
– Об этом заявлять неудобно, не очень скромно, но ведь я и не кричу о том на каждом углу, а признался вам потому, что вы тоже родитель. Всмотритесь в нас, разве же мы – это не вы? Пусть я или ваши Леонид или Виктор поступаем по-своему, в чем-то не соглашаемся с вами, но это же не равнодушие друг к другу, не отрицание, а стремление к лучшему.
– Наверно, все родители устроены так, что не сразу могут разобраться в том, кого вырастили! – искренне ответил Чекан. – Позднее проверь на себе…
– Не знаю, как батя, но я не придаю нашему с ним небольшому разладу значения. Погодя немного, он сам начнет хлопотать вокруг нас. Дать бы ему право, так всех детишек на свете приютил бы под свое крыло.
– Я видел это сегодня ночью, когда рожала Варвара Крюкова.
– Ничего, скоро у него появится свой внук, – улыбнулся Володька. – Подрастает уже…
– Подрастает? – удивленно спросил Чекан.
– Танюшка беременная, – как мужчина мужчине признался Володька очень довольным голосом. – Впрочем, я об этом отцу не сказал…
Чекан не ответил. Добрачная связь с девушкой таила в себе что-то унижающее чистоту любви, легкомысленное и непрочное.
– Вам не нравится, Федор Тимофеич? – догадался Володька.
– Да! – резковато ответил Чекан. – Мне не нравится сам факт добрачного разрешения супружества. Это вольность.
– Нам, однако, не по шестнадцать лет, – чуть обиженно возразил Володька.
– Все равно!
– Не этого я побаиваюсь, Федор Тимофеич. И не взбучки от бати. Как бы наши неприятности не дошли до Танюшки, не расстроили бы ее, вроде Варвары Крюковой…
– А ты доложи прежде матери, – дружелюбно посоветовал Федор Тимофеевич. – И она, возможно, за поспешность вас не похвалит, но все же найдет выход, вполне достойный…
Ему было неловко вступать в интимные дела семьи, даже такой близкой, как Гурлевы. Но и сознание, что Павла Ивановича ожидает еще один не очень приятный «сюрприз», не придавало особого оптимизма.
Улица оборвалась. Дальше начался выгон, где сооружалась башня над артезианской скважиной. Каменщики заканчивали последние ряды кладки, было их трое, и работали они не спеша.
– Медленно строишь, – заметил Федор Тимофеевич, обойдя стройку. – Я думал, сделано больше…
– Постоянно кирпича не хватает, – не задумываясь, ответил Володька. – Возить из города далеко, на кирпичном заводе очереди, и отец велел сначала закончить здание детсадика.
– Надо что-то предпринимать!
– На увеличение фондов трудно рассчитывать. В будущем я надеюсь только на свои местные материалы. И мне с вами придется поспорить, Федор Тимофеич.
– О чем же? – заинтересовался Чекан.
– Вы уже слышали возражения против ваших замыслов, вложенных в генеральный план, – чуть прищуриваясь от солнца и как бы собираясь с мыслями, сказал Володька. – Но возражения стариков надо еще обсудить с учетом дальнейшей организации деревенского быта. Зато, мне кажется, вы ошибаетесь, Федор Тимофеич, намечая стройки из кирпича облегченного, в основе которого трепел и гранулированный шлак доменного производства. Отложим в сторону вопрос о его прочности. Лично я от него не в восторге. Облегченный кирпич больших нагрузок не выдерживает, морозостойкость у него тоже не очень высокая, на долгий век не рассчитан. Вот давайте-ка, возьмем кувалду и сделаем примитивный опыт: сколько отвалится с одного удара кувалдой от угла нового здания детсадика и сколько с такого же удара от угла старой церкви?
– Все понятно без опыта, – видя решительное настроение молодого прораба, засмеялся Чекан. – Церковь придется взрывать, обычной разборке она не поддастся!
– Ее строили восемь десятков лет тому назад, а кирпич делали вот тут же, в двухстах метрах отсюда…
– Кустарным способом! – весело добавил Чекан. – И с затратами труда не считались. Теперь производство материалов массовое…
– Да, к тому же дешевле кустарного!
– Разумеется.
– Но давайте прикинем: для нас-то выгодно ли? Сколько стоит транспорт? Сколько нужно автомашин ежедневно для перевозок кирпича из города до Малого Брода? Расстояние, сами знаете, не маленькое – сто километров в один конец! Пользуясь путевыми листами шоферов, мы с бухгалтером колхоза можем легко доказать, что свой, местный кирпич по себестоимости выйдет наполовину дешевле. Притом, мы можем строить объекты, не оглядываясь, дадут ли нам фонды.
– Ты, кажется, всерьез увлечен?
– Я вам даже образцы могу показать, – направляясь дальше по выгону к буграм у болот, предложил Володька.
Там, как помнил Чекан, еще в конце двадцатых годов стояли крытые соломой сараи торговца Ергашова и частенько дымили обжиговые ямы. Вся округа пользовалась красным кирпичом кустарной выработки. Сейчас здесь остались только овражки. Спустившись в один из них, Володька показал, очевидно, им же выкопанную ямку, на дне которой посреди золы и потухших углей лежала грудка недавно обожженных кирпичей, без единой трещинки.
– Сравните-ка с теми, что привозим из города, – немного задиристо и хвастливо сказал он. – И попробуйте не согласиться…
– Преимущества большие, – одобрил Чекан, – но ведь эти изделия штучные.
– Помогите убедить отца и правление колхоза. Пусть дадут средства и людей. Через месяц свой заводик будет готов. По моим прикидкам, больших затрат не понадобится. Самую трудоемкую работу – приготовление глины и формовку можно механизировать. Электрическая линия рядом. Сушку сырца, по опыту наших предков, организуем в крытых сараях, а обжиг в ямах. От сараев до ям проложим узкоколейный путь.
Он энергично начал доказывать свои соображения, на взгляд Чекана, вполне разумные, не лишенные смысла и экономической выгоды, однако не убедил.
– Все у тебя продумано и рассчитано хорошо, – отозвался Чекан, – за исключением, как я понимаю, самого важного фактора. Материальное производство, даже очень выгодное, теряет свое назначение добра для общества, для живущих людей, если оно безнравственно.
– Кирпич и нравственность? – с удивлением посмотрел Володька.
– Хотя бы! – подтвердил Чекан. – Ты выпустил из расчетов проблему топлива. Возить сюда каменный уголь тоже невыгодно. И для кустарного заводика он не пригоден. Значит, в качестве технологического топлива понадобятся дрова…
– Конечно!
– А у вас, в здешних лесах, много ли их осталось? Лет тридцать тому назад по всем окрестным полям стояли вековые березы. Где же они? Почему, куда ни посмотришь, везде молодняк-подлесок? К тому времени, когда поспеет он, ты, Володя, уже поседеешь! Или же станете их вырубать сейчас, лишь бы выгадать на перевозках материалов из города? Тогда что же вы оставите своим детям? Цветущие долины, плодородные и богатые, или же пустыню без лесов, без озер, без птиц и зверушек? Чем будут ваши дети питаться: хлебом, мясом, маслом, ягодами, грибами или же синтетическими таблетками? Я, разумеется, все это немного утрирую, ведь мы с тобой люди близкие и можем позволить себе пошутить. До крайности природу никто не допустит, но и беречь ее надо не потом, а сейчас. Какой же смысл строить новый Малый Брод, село будущего, если не оставить его в зеленом кольце?
– Дрова я имел в виду только в пределах возможных, – ничуть не смутился и не выказал намерения отказаться от своего предложения Володька. – До таких обобщений, как вы, Федор Тимофеич, я не доходил и к нравственным задачам не обращался, но о проблеме топлива соображал немножечко шире. Вот взгляните туда… – он показал на раскинутое за бугром болото. – Запасов торфа хватит нам лет на двадцать, и вдобавок очистится водоем. Вы возразите: торф для обжига кирпичей не пригоден! Пока так. Но кто станет утверждать, будто нельзя придумать совершенно особую конструкцию обжиговой печи, где торф станет служить не хуже дров и угля?
– Что ж, если это удастся…
– Попробуем. У нас не получится, институты и кирпичные заводы запросим.
– А если все-таки ничего нового не изобретете?
– И уже готовенькое глотать не велика честь. Проще простого покупать материалы со стороны да, не считаясь с затратами, возить сюда. Собираемся строить много. Наши соседи в округе тоже не намерены жить на старых обломках. Можно договориться с ними, скооперироваться и построить кустовой комбинат стройматериалов. Так будет совсем хорошо. Затем, знаете, сколько на кирпичных заводах и на стройках половья пропадает? Тысячи кубометров в год! А если из такого половья, вдобавок к кирпичу, организовать попутное производство блоков?..
– Но пока вы создадите свой кустарный заводик или кустовой комбинат, мы не можем остановить проектирование, – чувствуя, что деловые соображения Володьки еще не созрели и пока нереальны, заметил Чекан. – Да ведь и сметную стоимость заранее, не имея на то прочных оснований, нельзя занижать!
– Тогда поищите, не пожалейте труда, как нам строить дешевле, быстрее, прочнее, красивее!
«Нелегко мне с ними придется, – без досады подумал Чекан. – Отец торопит, сын ищет. Оба упрямцы!»
Не вызвали у него недовольства и самовольно сделанные Володькой поправки в рабочих чертежах нового здания детсадика. По сути, они были не очень существенные: служебные помещения сделаны меньше, а коридоры поуже, зато расширены спальни и комнаты для игр.
Надежно и прочно жили Гурлевы на здешней земле. Не ее иждивенцами. Не простыми собирателями даров. Не безмолвными и покорными исполнителями инструкций. И совсем не из пристрастия к ним, к своим друзьям, Федор Тимофеевич мирился с их самодеятельностью, с упрямством, нередко с излишним проворством; ведь не количеством погрешностей определяется настоящий характер, как опечатки не могут испортить хорошую книгу. Кроме того, общение с ними казалось всегда интересным, вызывало свежие мысли; Гурлевы выражали не только самих себя, свои природные качества, но более всего – желания и чувства своих земляков.
– Ты все дома в улицах помести окнами к солнышку, чтобы каждая семья не была обойдена ни теплом, ни светом.
Это сказал так Михайло Сурков. Сидел он в правлении колхоза за председательским столом и, коротая время у телефона, внимательно разглядывал разложенные перед ним листы.
Володька после осмотра объектов отпросился по «личному делу». Догадавшись, что оно связано с переходом Тани Согриной из дома матери к Гурлевым, Чекан согласился.
А время уже подступало к трем часам пополудни. На солнцепеке жарища, испарина. Поникли цветы в палисадниках. Ожидаемое Павлом Ивановичем ненастье, по-видимому, уже приближалось.
Из-под стола торчали босые ноги Михайлы. Его сапоги стояли рядом.
– Непременно надо окнами к солнышку, Федор Тимофеич, – повторил он, уступая стул.
У него в редких волосах возле ушей зажелтевшая седина, над щетинистым подбородком топорщатся по-прежнему лихо, как из проволоки витые, усы. Больше тридцати лет соединяет его с Гурлевым колхозная жизнь. Прежде был он бригадиром у трактористов, затем полеводом, а теперь, по старости освобожденный от всяких работ, числится у Гурлева «запасной головой». Так его в шутку называет сам Павел Иванович, поручая предварительно обдумывать разные дела по хозяйству.
– Солнца всем хватит с избытком в любой ясный день, – показав, как располагаются жилые дома в улицах, попытался убедить Федор Тимофеевич. – Остается мало освещенной только одна сторона.
– Ты выведи на нее все кухни, кладовки и тувалеты, – серьезно предложил Михайло. – А само жилье – только на светлую сторону!
Так и Гурлев заказывал: «Жизнь надо строить веселую!» Значит, именно обращенную к солнцу, как выразил теперь Михайло Сурков.
– Не знаю, слышь, Федор Тимофеич, состоится ли сегодня вечером заседание правления, чтобы обсудить твой, проект, – выглянув в окно и раскрывая ворот рубахи, немного погодя посомневался он. – Продержим тебя здесь зазря. Того и гляди, большая гроза набежит, и Павел-то Иваныч, наверно, до ночи в заозерье останется. Утром еще, перед отъездом на поле, он мне наказывал: ежели, дескать, Федору Тимофеичу загребтится домой в город поехать, так пусть нас извинит и поступает пусть по своей воле. Таковское уж дело у нас хлеборобское, что самого лучшего гостя приходится оставлять без внимания. Ну, а коли временем-то немного располагаешь и решишься обождать хоть до утра, не то до завтрашнего вечера, так погости еще и огляди наше хозяйство поближе. Хлеба нынче справные. Прогуляйся в поле покуда.








