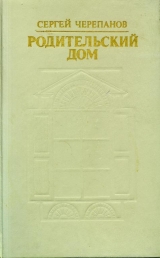
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
На обратном пути в село Согрин поблагодарил судьбу: не допустила она взять наган и отвела на время смерть Гурлева. Даже если бы в запале уложить пулями всех троих, след скрыть уже не удалось бы. Но и с голыми руками чуть не натворил беды. Значит, есть в сердце слабость. И вселил ее туда опять страх. Все рушилось, грозило концом, а до страдания хотелось все-таки сохранить себя.
И положил так: надо еще потерпеть, осмотреться, дождаться удачи.
31
Дня через три, когда перемер земли был закончен, Лукерья передала Гурлеву молву про Ульяну. Оставшись одна, несчастная баба погрузила на телегу скудное имущество, а потом все это вместе с коровой, с овцами и с курами отдала жене Холякова. Людская молва одобряла ее поступок. По словам вдовы, Ульяна решила переселиться в город. Изба стояла теперь заколоченная. Тесовые доски, прибитые гвоздями крест-накрест на окна и двери, зачеркнули весь неустроенный быт.
Лукерья не сказала бы, что Гурлев обрадовался или расстроился. Ничего не могла она угадать по его суровому лицу.
– И сам-то ты тоже хорош, Павел Иваныч, – попеняла она. – Уж и не мог снизойти до бабы. А велик ли ее разум? И где бы она его взяла? Ты туда-сюда мотаешься, завсегда при тебе народ, один день у тебя на другой не похожий, а с бабой-то и побаять недосуг. А у нее-то, бедной головушки, по всему дню, по всей ночи только одни и те же стены перед глазами да заботы, как бы по хозяйству прибраться. Так-то в такой скукоте одной жить, это ведь все равно, что свое время в ступе чугунным пестом толочь.
– Я ее ни к чему не неволил, – ответил Гурлев.
– А вот и зря! Любой камень-валун надо прежде с местечка сдвинуть, подтолкнуть, потом он дальше покатится сам.
– Она все ради пятистенного дома греблась…
– Коль человека рядом нету, то и за бревна ухватишься. Без какого-то интересу жить невозможно.
– Конечно, в партию ее не призывал…
– Эка, что же ей дала бы твоя партея, коли ты сам бабу вовремя не пригрел. Ведь жена-то – не домашняя скотина, что пришел во двор, рукой ее по спине погладил, походя кусок хлеба сунул – и все. А дал бы настоящее обхождение, душевную ласку, вот она от тебя и не отстала бы.
Лукерья поселила Гурлева в горнице вместе с Федором и взяла на хлеба по уговору за пятнадцать рублей в месяц. А ни рубля, ни копейки он не имел и поэтому, для начала, продал свое кавалерийское седло, в котором провел гражданскую войну. Дарья предложила небольшую ссуду от комитета взаимопомощи, но денег там не хватало нуждающимся бедняцким семьям, и ему пришлось отказаться. О продаже мерина он не допускал даже мысли. Тот, по старости, не мог уже ходить в борозде, но еще годился для более легкой упряжи. Ульяна оставила для него хомут и сбрую, словно предусмотрела заранее, что заботы о пропитании хозяина отныне мерин обязан взять на себя. И пришлось это кстати. Подворное дежурство на пожарке становилось мужикам в тягость. Кони, да и сами хозяева, нужны были на полевые работы, никому не хотелось день-деньской торчать в пожарном сарае возле телеги с насосом и бочки с водой. Принужденный отменить подворную службу, Бабкин побывал в Калмацком райисполкоме, выхлопотал там штатную должность пожарного. Гурлев принял ее с достойным почтением, водворил мерина к стойлу в пожарном сарае, наново смазал телегу, перебрал и привел в порядок насос, отремонтировал лестницу и смотровую вышку, подмел весь двор. Пожарка сразу приобрела вид надежный. Дежурил Гурлев по ночам. Иногда подымался к нему Чекан. Поглядывая сверху на погруженное в темноту село, на далекие звезды, слушая, как плещет волнами озеро под угором, Гурлев заметно становился мягче, говорил более задушевно, доверительно и открыто, словно все свои горечи, неудачи, заботы оставлял на земле, у лестницы, а сюда, наверх, как кусок хлеба, брал только свою мечту, неуемное сердце и ту часть своей жизни, которой особенно дорожил.
– Может быть, ты думаешь, Федор, будто мне счастливым быть неохота? – сказал он однажды. – Людей призываю, стараюсь для них, а сам себя обделяю. Нет, я покуда с ума не спятил. Готов хоть сейчас одеться и обуться по-праздничному, вселиться в новый дом, иметь все в достатке и красиво жить. Только мне такого счастья мало. Что ж это за счастливая жизнь, если я стану ею пользоваться, а рядом со мной мой земляк, к примеру, тот же Иван Добрынин, станет с хлеба на воду перебиваться? Всем поровну, всем чтобы хорошо было, никому не завидно. Скажешь, так не бывает! А почему же нет? Нас чему Ленин учил?..
Он помолчал немного, как бы проверяя, понял ли Чекан его мысль, поверил ли, затем с грустной ноткой добавил:
– Только вот должность моя теперешняя мне не особенно глянется. Беспрестанно гребтится поработать на пашне. Натура моя хлеборобская, а тут вёшна, и я уже всяко, сидя здесь, передумал. Наверно, отпрошусь у Бабкина дней на десять, вступлю с кем-нибудь из мужиков в товарищество да посею хоть десятины две. Может, и Ульяна вернется…
– Вряд ли, – посомневался Чекан.
– Тоже не надеюсь, но все же снова сошелся бы.
– А ты на Дарье женись.
– Нельзя, – мотнул головой Гурлев. – Ульяна-то ведь на нее завсегда и грешила. А вот поверь, хоть бы когда лишнее слово Дарье промолвил.
Где-то вдалеке бренчала телега припозднившегося с поля мужика. Во дворе Согрина заскулила собака. По переулку, посвистывая, прошли два парня. Потом опять тишина и глушь.
– А помнишь, Федор, как я тогда, на собрании-то, сказывал, с чего человек начался, и упомянул, будто видел расчудесный сон, – Гурлев явно избегал разговора о Дарье. – Я не соврал тогда, но видел-то его не теперь, а когда парнишкой был. Лежали мы как-то с моим дедом Андрианом на печи, на дворе страшная стужа стояла, вот и принялись старой да малой сказки выдумывать. Наслушался я дедовых сказок, а потом и привиделся мне во сне белый город. Сейчас не могу его в точности описать, а хорошо помню: кругом белые дома, сады, цветы, люди нарядные, вдоволь всякой еды. Ну, еда, наверно, оттого привиделась, что поужинали только картошкой не шибко сытно, а белый-то город не знаю с чего. Но все равно дал я тогда себе зарок повидать такой город, разыскать, где он есть на нашей планете, и с тем, когда началась революция, – а было мне в ту пору уже почти девятнадцать лет, – ушел добровольцем с красными. Это уж потом я понял, что нигде покуда такого города нету, а надо еще его построить. И опять же решил тогда: ладно-де, потерплю, а своего дождусь. Ведь что в душу себе положишь да прирастет оно там, с тем и весь смысл твоей жизни определится. Милее-то уж ничего не будет…
– Я хоть и не видел похожего сна, а вот серьезно решаю: не стать ли мне в дальнейшем строителем? – ответил Чекан.
– Давай, – оживился Гурлев. – Да здесь же вот, на месте Малого Брода, и создадим. Чем плохо место? Земли вокруг хлебородные, на них, если не лениться, дать им настоящее обхождение и труд, вдобавок исключить отсюда кулачество, можно чудеса сотворить.
Сказал он об этом с таким жаром и убежденностью, с чувством неожиданно вспыхнувшей надежды и радости, что Чекан, бросив взгляд с вышки, на мгновение увидел вместо темных крыш и молчаливо замкнутых дворов сверкающие огнями дома волшебного города хлеборобов, ярко прочерченные улицы и бассейны. Это все, вероятно, будет, но как еще далеко до той поры, каким еще длинным кажется путь, что надобно пройти, пока люди будут к тому готовы. А пока что всякая новизна им на удивление, как чудо из чудес. Как раз в эти весенние дни, перед первомайским праздником, товарищи из паровозного депо позаботились и прислали детекторный радиоприемник. Поставил его Чекан на столе в читальне, включил, и когда раздались первые слова диктора: «Внимание! Говорит Свердловск!», мужики шарахнулись к дверям, а дед Савел позднее, уже немного освоившись, долго ощупывал корпус приемника, прицеливался прищуренным глазом вовнутрь, на радиолампы, ахал и хлопал себя руками по бедрам.
В последних числах апреля погода внезапно испортилась. Горы тяжелых свинцовых туч надвинулись на округу, непрерывно сыпал мелкий, занудливый дождь, но первомайское праздничное утро началось ясным рассветом, и вышло на небо омытое, веселое вешнее солнце.
– Даже природа с партейными в заединщине, – обозленно проворчал Согрин, открывая малые ворота на улицу. – Теперь уж сев не задержится, ничего супротив не поделаешь…
Холод и дожди помогли бы ему не засевать половину пашни, вроде бы не по своей воле сорвать записанный на него в сельсовете план. И уже заранее ломило спину при одной лишь мысли, что самому придется становиться в борозду, пахать, боронить и сеять, а батрака нанимать воздерживался, важнее было принять вид трудового крестьянина. Да и батраки не обивали пороги. Вся беднота кинулась на складчину для совместной обработки земли.
В тот утренний час, когда Согрин сел за стол завтракать, возле сельсовета заиграла гармонь. «Это избач, наверно, музыку развел, – подумал Согрин. – Ишь, свой Интернационал тарабанит!» И что-то тоскливое подкатило к сердцу; сладкая шаньга в рот не полезла. Сплюнул недожеванное и встал с лавки.
– Ай, не угодила чем? – спросила Аграфена Митревна. – Не пересолила ли тесто?
Из окна горницы Согрин прежде увидел стоящего на крыльце сельсовета Гурлева. Теперь он маячил перед окнами день и ночь, хоть не выходи со двора и не гляди никуда. Даже ночью, проснувшись от тягости холодного тела Аграфены Митревны, хватая ртом из открытой створки свежий ночной воздух, отворачивал Согрин свой взгляд от пожарной вышки, где двигалась тень заклятого недруга.
У крыльца толпилось человек двадцать. Всех их Согрин знал наперечет. Как на смотру выстроились: партийцы, комсомольцы и вся избяная, безлошадная и однолошадная публика. «Сплошь голодранцы! – свирепо и с презрением промолвил Согрин. – Ни в себе, ни на себе ничего не имеют, а туда же, к званию людей гребутся!» Первым признаком человека он всегда находил достаток, а тут, в этой толпе выпирала наружу нужда. Кончив играть гимн, избач снова развернул гармонь, всей пригоршней рассыпал вокруг задорную топотуху. Афонька, засучив штаны до колен, рванулся в пляс, уминая и расшлепывая грязь босыми лапами. С ним в перепляс вышла Дарья, подбоченилась, двинула могучими плечами, прибрала подол пестрой юбки и поплыла по месиву под дружное прихлопывание в ладони и посвисты. Потом ее сменила Катька, непутевая дочь Варвары Пановой; вышла на круг Аганька, гуляющая с избачом. Начал было плясать Серега Куранов, заправила у молодых, но получалось у него неловко, и тогда его сменил сам Гурлев. Никогда бы не поверил Согрин, что у этого крупного телом мужика было столько живости, ухватки, залихватской буйности! Наконец Аганька отстала, обмахиваясь платочком, сошла с круга, и под общий гогот вышла вместо нее старуха Лукерья.
Избач без устали продолжал наяривать на гармони. Кончив пляски и луговые песни, он снова как искры бросил в толпу звуки гимна, запел сам, и с ним запели все остальные. Народ еще подходил с обеих концов улицы и из переулка, набралось уже человек пятьдесят, пение Интернационала становилось громче. Согрин не мог дальше слушать и закрыл створку. Но это не помогло. Подобно колокольному звону, пение достигало его повсюду.
Люди построились по двое в ряд. Вперед вышел Савел Половнин с красным знаменем. Рядом с ним приладился Парфен Томин, с поднятым на щите, в уровень со знаменем, портретом Ленина. Дальше, в середине колонны, как на свадебном пиру, появились избач Чекан и его зазноба. Но все это было не диво. А потом Дарья вынесла из сельсовета на белом полотенце большой круглый хлеб, очевидно, нарочито испеченный для праздника, и положила его на вытянутую ладонь Гурлева. Тот принял торжественно, как святой дар, по-солдатски откинув голову и выпятив грудь, встал в первый ряд, плечом к плечу Савела Половнина. «Смело, товарищи, в ногу!» – опять запел Чекан, и все, кто там собрался, разноголосо подхватили, двинувшись по середине улицы вдоль села. «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!» – невольно повторил за ними Согрин, чувствуя, что в одиночестве своем теряет остатки былой уверенности. Демонстранты уже ушли, и голоса их, удаляясь, постепенно стихали, но, привалившись к простенку, он продолжал смотреть в окно, словно не мог оторваться от вида Гурлева, под всплесками красного знамени несущего на ладони хлеб.
Немного погодя устало и неровно прошел в кладовую, сел на порог спиной к свету и тут, без сожаления к развешанной на крючьях, разложенной по полкам утвари, решил окончательно: «Надо успеть вовремя уехать отсюда. Не к чему дольше испытывать свою судьбу. Все надо бросить и поскорее уехать».
А жидкая, но дружная колонна демонстрантов с песнями, шумно и весело прошла по всему селу, затем остановилась на поляне у казенных амбаров. Тут Гурлев поднялся на телегу, объявил праздничный митинг и уступил место Чекану. Объяснив значение Первого мая, как дня международной солидарности всех трудящихся, Чекан рассказал о плане первой пятилетки, о первых великих стройках в стране, о начавшейся повсюду коллективизации единоличных хозяйств, не миновал и текущих задач Малого Брода, из которых самой главной назвал хлеб и за ним – достоинство граждан. Это он особенно подчеркнул:
– Потому, что впереди нас ждут большие трудности, товарищи и друзья. И только соблюдая свое достоинство, честь и совесть, мы сумеем их одолеть…
А вечером Аганя спросила:
– Ты им сказал правду, Федя?
– Мы обязаны говорить только правду, – подтвердил Чекан. – Иначе я не имел бы права называть себя коммунистом, и меня мои товарищи-деповцы отозвали бы из деревни.
– Я тебе верю и всегда буду верить, – сказала Аганя. – А когда ты вдруг разлюбишь меня, тоже скажи, не таи в себе. Ладно?
– Эх, и чудная ты, – засмеялся Чекан. – Может быть, ты первая отшатнешься? Как знать? Станешь на меня обижаться по мелочам, обиды накопятся, вытеснят любовь. И амба!
– Не амба! Со мной ничего не случится. Лишь бы ты был рядом всегда.
Она прислонила голову к его плечу, прикрыла от комаров руки концами платка. Заря уже давно погасла за озером, но с угора далеко просматривались песчаные берега, темная кромка камышей по ту сторону, тополя и березы за пряслами огородов.
– Лишь бы ты был рядышком, – повторила Аганя шепотом. – Больше мне ничего не нужно.
Чекан обнял ее, губами коснулся щеки и, на мгновение опьянев, прижал к себе. Аганя слабо ойкнула.
– Больно, а сладко! Всю бы жизнь так!
У нее было еще свое, деревенское представление о счастье: хоть изломаться в работе, но оставаться любимой мужем всегда, быть с ним неразлучной, доброй и отзывчивой при любой нужде. В этот ограниченный круг еще не вмещалось желание своим трудом и умом служить людям, однако и не проявлялось никакого пристрастия к обывательской «красивой жизни», как у Лиды Васильевой. Все-таки иногда Лида вставала в памяти, хрупкая и нежная, в аромате хороших духов, в прозрачной кофточке, какой была при последней встрече. Но Федор вспоминал о ней без тревоги, без зависти, как об интересной картинке в давно прочитанной книге. Теперь многократно дороже, роднее и ошеломляюще прекраснее было каждое прикосновение к Агане, к ее упругому телу, к ее губам, вишнево свежим, и к ее мыслям, лишь пробуждающимся.
– Тебе нет нужды сомневаться, – сказал Чекан. – И надо все-таки отказаться от старых обычаев.
– Я уже отказалась! Подумала сегодня и отказалась. Решуся на все…
– Ух, ты-ы! Вот это для меня настоящий подарок!
– Тебе только кажется, будто я уж такая упрямая и глупая. Это ведь когда с трудом достается, надо беречь. Хватаешься за всякую всячину, чтобы крепче удержать при себе. А у меня любовь первая, да вдобавок не такая простая, как у подруг. Катька обседлала своего Серегу, а я разве сумею? И не нужно. Мне, как за солнышком, хочется идти за тобой. С венчаньем, с гулевой свадьбой было бы, конечно, красивше выходить замуж, но уж коли нельзя, то нельзя. Я согласна записаться – и все!
– Пойдем завтра же! – снова обнимая ее, сказал Чекан.
– Дай мне еще месяц сроку, – попросила Аганя. – Сойдемся, а ни у меня, ни у тебя нет ничего.
– С пустого места начнем.
– Неловко. Я уж который год, как осталася без родителей, на чужом сплю. На жестком. Надо же и мне обзавестись хоть самым необходимым, чтобы рядом с тобой не чувствовать себя постоялкой.
– Пусть будет так, – согласился Чекан. – Днем раньше или позднее, это не имеет значения.
Он старался ни в чем ее не понуждать, не неволить, а давать возможность самой осмотреться и делать выбор.
– А где я стану работать, когда мы сойдемся? – неожиданно спросила Аганя.
– Поженимся! – исправил Чекан.
– Ну, поженимся! Так удобно ли будет жить у попа на поденщине?
– Что, по-твоему, лучше?
– Как не зазорно. Мне-то ничего, а лишь бы тебя не смутить.
– Моя мать в молодости служила у хозяина завода в дворовых девках. Чистила псарню, кормила собак. Никакой труд не зазорный. Но батрачить тебе дальше не следует. Лето мы поживем здесь, а к зиме ты поедешь в город, к моим старикам, и поступишь учиться?
– Это чтоб я на шею села твоим старикам? Не смогу!
– Ты будешь учиться по вечерам, а днем работать на станции. Мои товарищи помогут устроиться. И старики будут рады тебе. Изредка, как позволят дела, я буду приезжать.
– Только изредка, – вздохнула Аганя. – Без тебя я со скуки завяну.
– Но ведь учиться надо?
Аганя согласно кивнула, затем зябко прижалась ближе. От непросохшей земли и от озера потянуло прохладой.
– И знаешь, как это интересно! – ласковее добавил Чекан. – День за днем ты словно поднимаешься по ступенькам вверх, и перед тобой все шире открывается мир.
– Ты этого хочешь?
– Да!
– Значит, я поеду и стану жить у твоих родителей. И привыкну дожидаться тебя!
Чекан укрыл ее спину полой своего распахнутого пиджака и снова прижал к себе. От ее горячего тела, от волос, коснувшихся его щеки, и от рук с твердыми, задубелыми от работы пальцами, которые она вложила ему в ладони, снова наступило легкое опьянение. Так он просидел бы тут самую длинную, даже бесконечную ночь, под сумеречным небом, осыпанным отсветом где-то в глубине, за далекой кромкой земли полыхающих зорь.
Эта неправда, когда говорят, что влюбленные воркуют всю ночь. Самое великое в любви – это молчание.
Чекан проводил Аганю до Дарьиной избы уже под утро и еще постоял потом у ворот, навалившись грудью на прясло.
Во дворе Лукерьи горласто кукарекал петух, а Гурлев, постукивая обухом топора, налаживал телегу для выезда в поле. Мерин, чуя путь, нетерпеливо скреб землю копытом и тыкался мордой в спину хозяина. Давненько, за все зимние месяцы, не удавалось им побыть вместе. Соскучился. Настоялся в конюшне.
– Нно, ты, нно! – отпихивал его Гурлев. – Отстань! Эк весь горб мне обслюнявил! Вот в поле-то намотаешься с бороной, так ласки уж не запросишь. А поработаем всласть.
Разжиженный серый свет падал на землю, выполаскивая с нее темные пятна мрака. Мерин покосился на Чекана правым стеклянисто-карим глазом и тряхнул седеющей породистой гривой.
В раскрытую створку просунулась Лукерья, предупредила Гурлева:
– Лагунок с квасом не забудь.
А Чекану добродушно погрозила пальцем.
– Загулялся ты сегодня, Федюня! Небось, ночка-то показалась короткой?
– Нно ты, нно! – не сердито прикрикнул Гурлев на мерина и опять занялся телегой: подтянул постромки, выправил оглобли по центру, проверил шкворень. Все это делал он со спокойной деловитостью и желаньем, как машинист паровоза перед дальним рейсом. В труде люди одинаковы, если он необходим для них, как источник добра и смысл жизни.
В крестьянском быту Чекану больше всего нравилась именно эта пора, «на коровьем реву», когда утренняя заря лишь начинает наливаться прозрачными красками, а во дворах уже топятся печи, гремят подойники, постукивают топоры, скрипят в уключинах колодезные журавли.
Он присел на крылечко, вытянув ноги по ступенькам, длинно зевнул.
– Иди спать, гуляка! – сказал ему Гурлев. – А не то собирайся со мной в поле. Я тебя пахать научу. Ты не хаживал еще в борозде. Вот попробуй, как нам хлеб достается!
– Думаешь, не сумею? – отозвался Чекан. – Велика ли премудрость?
– Не велика, но без привычки до обеда не сдюжишь. За рогаль держаться тоже надо уметь.
– А что же, я охотно поеду!
– Пожалуй, не надо. Пошутил я. Где уж тебе! Оставайся дома да вместо меня делами займись. Не ровен час. Антропов нагрянет. Он каждую вёшну сам по всему району рыскает. Если меня станет спрашивать, поясни: так, мол, и так, недосуг Гурлеву, посевная торопит!
– Непременно скажу!
– Нынче у меня посевная особенная. Как-то нам поработается в товариществе? Труд вроде общий, а ведь пашня-то у каждого своя и еда из разных котлов.
Гурлев обменял поле у Чайного озерка на поле рядом с землей Добрынина и Михайлы Суркова, чтобы не тратить время на переезды. Но и держал думку: перепахать межи, что разделяли их пашни.
– А ты, Павел Иваныч, обожди, покуда я свежих калачиков испеку, – сказала ему Лукерья, опять выглянув в створку. – Вчерашний-то хлеб уже черствый.
– Надо поспешать, баушка, – закладывая мерина в телегу, отказался Гурлев. – Какой припас найдется, тот и давай.
– Ну, так я с Акулиной пришлю тебе на поле. Она, наверно, пойдет к Ивану, когда чуть ободняет. А лагунок-то с квасом, однако же, не забудь. Я свежий налила, ядрененький, духовитый. И лоб-то хоть перекрестил бы, Павел Иваныч! В поле ведь едешь, на сев! И за вороты ступай наперво правой ногой. Я вот тоже, богу-то не молюся, а обычаи не обхожу.
– Обойдемся без обычаев, – весело отозвался Гурлев. – Лишь бы вёшну вовремя справить!
На телегу он положил две бороны, мешки с семенами, старый, изрядно потертый полог, а сам не сел, направился идти пешком, чтобы зря не надсажать коня. На лице ни единой суровой складки. Брови вразлет. Исчезли из-под глаз темные круги. Свободно расправлены плечи во весь размах широкой груди.
И все-таки кинул взгляд вверх, на впяленный в серое небо купол церкви, а потом то ли намеренно, то ли нечаянно шагнул за ворота с правой ноги.
Днем дороги окончательно проветрило и просушило солнцем. Из каждого двора мужики уехали на вёшну, и село сразу обезлюдело, лишь устало лежали в тени заборов облепленные поросятами свиньи, да, прижав уши, паслись на полянах телята, объедая первую, еле пробившуюся из земли зелень.
В полдень мимо сельсовета важно прокатил на легком ходке Егор Горбунов. Правил конем, осанисто откинув голову назад, и одну ногу, обутую в добротный сапог, опустив на приступок.
– Ишь ты, как Егорка забарствовал, – подивился на него Федот Бабкин. – Сам Окунев эту одежду только в праздники надевал, а этот добрался, даже в будний день модничает. И рожу-то, однако, уже наел. Да надолго ли хватит чужого добра? Нанял двух работников, а сам палец о палец нигде не ударит. Совсем спортился, гнида!
Из-за батраков Горбунова уже внесли в список лишенцев, отчислили к кулакам и тем самым порадовали. По его тупому понятию, он становился в уровень с Согриным, которого возненавидел за прошлые унижения. Вот и сейчас рассчитывал он ошеломить не сельсоветчиков, а именно Согрина, поэтому против его двора придержал вожжи, дал коню остановку. Но успеха не поимел. Согрин собрался в поле раньше всех, оставив дома одну Аграфену Митревну и цепную собаку.
– Ты куда это, почтенный Егор Горбунов, поспешаешь? – с насмешкой окликнул в окно Бабкин.
– Тпру-у! – заорал Егор на смирно стоящую лошадь. – Эка тебя разбирает! – И, повернув голову, приложил ладонь к уху. – Чего баяшь-то, председатель?
– Спрашиваю: едешь куда, нарядный такой?
– В Калмацкое надо сгонять. Бабе обнову купить да сабе картуз.
– В нашей лавке есть картузы.
– А мне надо не здеся купить. Али я позволить сабе не могу?
– Сеять-то начал?
– Послал работников. Самому-то надо за хозяйством доглядывать. Теперя забот полно.
Дернул вожжи, улюлюкнул, кнутом подбодрил коня и опять, приняв важную осанку, помчал в переулок.
В пустом помещении сельсовета гуляли сквозняки, а все равно отвратно пахло табачным дымом от прокуренных за зиму стен. Бабкин в безделье позевывал, листал поселенную книгу и время от времени выходил на крыльцо погреться на солнце. Отлучаться на свое поле и бросить село совсем без присмотра он не решался, все должности ему пришлось взять на себя: посыльного, пожарного, дежурного и даже секретаря. На вёшну он отправил жену и сына, но поле звало самого хозяина.
Чекан занимался письмами. Написал матери и отцу обо всей своей жизни здесь впервые подробно и очень успокоительно, чтобы старики не волновались. Потом для матери вложил в конверт отдельную записку: о женитьбе. Отец всегда был немного горяч и вспыльчив, если что-то делалось без его ведома, а мать сердечнее и умела подготовить его исподволь. Как бы ни поступали сыновья, она одобряла, лишь бы поступки не чернили чести рабочей семьи. У нее на это было большое чутье. Второе письмо Чекан подготовил в депо, своей партячейке, отчитался перед товарищами о работе в деревне.
Во второй половине дня, как и ожидал Гурлев, нагрянул Антропов.
Побыл он недолго, пообедал у Бабкина в избе и велел Чекану немедля собираться в путь. В деревне Сушиной, на окраине района, испуганное слухами о коллективизации и о раскулачивании население сокращало посевы.
– Поедешь туда со мной и останешься дней на десять нашим уполномоченным, – сказал Антропов.








