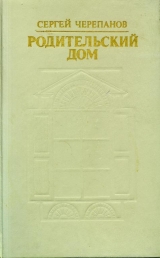
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Пятая жизнь Павла Гурлева
1
За окном шелестел тополь, а в его прозорах, между ветками, возникал тусклый рассвет. Но Федор Тимофеевич Чекан проснулся не от шелеста тополя и даже не от прохлады. Приснилась Лида Васильева. Никогда за прошедшие годы о ней не думал, не вспоминал, и вдруг откуда-то из прошлого сон вынес ее облик, чужой и неузнаваемый.
Минуту спустя повеселел: ведь то была на самом деле не Лида, а Аганя, жена, что лежит вот тут на постели. Даже предутренний сумрак не мешает разглядеть ее когда-то пышные черные волосы, теперь уже изрядно поседевшие, и ее высокий лоб, милое лицо, усталое, доброе, с чуть сдвинутыми к переносице бровями.
Он попытался представить Лиду нынешней, через тридцать с лишним лет, что они не виделись. Получилось не очень-то утешительно. Пожилая женщина с тяжелой походкой, немного отвисшим подбородком, с холодными высматривающими глазами. И говорит простуженным голосом: «Не вздумаю никак, о чем меня дочь просила. Еще куда-то надо сходить и чего-то достать?» Весь разговор ее дремуче материальный, поверх души, что называется, вокруг березового столба. Достать, продать, и все не по-честному. Неужели Лида стала такой? Но, слава богу, эта пожилая женщина тоже не Лида, а соседка Степанида Гавриловна, тайно богатющая.
Так и не удалось вспомнить лицо Лиды. Была она блондиночкой, тонкая, хрупкая. И эти черты расплылись как в тумане. Может быть, Степанида Гавриловна была в молодых летах такой же? Но невозможно проследить, когда и как человек стареет, как преобразуются в нем чувства, помыслы и к чему он под конец жизни приходит, если не идешь с ним рядом изо дня в день. Вот Аганя вся помнится смолоду, и потому любовь к ней никогда не отцветала, не менялась, хотя с годами прошла испытание через многие трудности.
Он с нежностью взглянул на спокойное, умиротворенное сном лицо жены и поправил на ней одеяло.
Больше спать не хотелось. Над окном, задевая стекло, свисала тополиная ветка. Внизу, на тротуаре, ширкала метлой дворничиха. Поднятая ею пыль достигала второго этажа и проникала в спальню. Федор Тимофеевич осторожно встал с постели, чтобы не потревожить сон Агани, прошел до окна на цыпочках и прикрыл форточку. Серый сумрак рассеивался, в соседних домах еще нигде не зажигались огни, и на улице тихо, безлюдно, только метла: ширк! ширк! И тут внезапно, как плетью по нервам, в передней зазвонил телефон. Федор Тимофеевич кинулся к нему, чтобы звонок не повторился, зацепил босой ногой за косяк двери и сильно ушибся.
– Слушаю вас! Куда звоните? – спросил в трубку вполголоса.
Сочный женский голос сказал:
– Квартира Чекана? Попросите Агафью Васильевну!
– Она спит! – нетерпеливо ответил Федор Тимофеевич. – Позвоните часа через три.
– Нельзя. Нужно срочно. Разбудите и передайте ей: мы сейчас посылаем машину. Пусть приготовится.
– А если не разбужу? – уже совсем нелюбезно ответил Федор Тимофеевич. – Нельзя звать ее по всякому поводу…
– Это не всякий! Вертолетом доставили из района роженицу в очень тяжелом состоянии.
– Но Агафья Васильевна часа три тому назад вернулась от вас! Нельзя же ей силы выматывать…
– Мы беспокоить не стали бы, если бы она сама не велела. В общем, ждите машину…
– Ну и работа! – огорченно произнес Федор Тимофеевич, кладя телефонную трубку.
Все-таки будить Аганю ему не хотелось. Она провела в родильном весь прошлый день и почти половину ночи, кому-то делала операцию, а домой пришла бледная, усталая и еле-еле добралась до кровати. Но и не будить нельзя. Дело неотложное. Умом он это понимал, а никак не мог заставить руку притронуться к оголенному плечу жены и разрушить ей отдых.
Вернувшись в спальню, решил обождать, пока не услышит сигнала машины, высланной из больницы. А его беспокойство, наверно, как-то передалось Агане, она повернулась на спину и открыла глаза:
– Почему ты сидишь? Босой и без брюк. Что с тобой?
– Звонили из родильного. Сейчас придет машина, – недовольно сказал Федор Тимофеевич. – Когда это кончится? Чуть что – сразу звонят. А если бы у тебя дома не было телефона…
– Никогда это не кончится, милый! – устало зевнув, ответила Аганя. – И не надо! Но хоть бы один разочек выспаться досыта.
– Я тебя совсем мало вижу.
– Вот и хорошо. Станешь еще больше любить, – улыбнулась Аганя.
– Может, совсем не стану…
– Только ворчливым не становись!
И добавила ласково:
– Отвернись-ка! Дай мне одеться!
При нем она никогда не раздевалась, не одевалась. Он послушно отошел к окну и начал смотреть на осыпанный тающим сумраком тополь, краем глаза замечая, как Аганя поменяла ночную рубашку на халат, а затем принялась торопливо зашпиливать волосы. Вся она была еще как в молодости – стройная и плотная телом, чернобровая красавица, хотя вырастила уже двух парней.
Минуту спустя, она обняла Федора Тимофеевича сзади, приложив к его оголенной спине теплую щеку.
– Здравствуй, что ли! Доброе утро!
– Не задабривай меня, – мрачновато отозвался Федор Тимофеевич. – Ведь и себя ты мытаришь! Неужели нельзя так организовать работу в вашей родилке, чтобы не вызывали по ночам. Если у тебя как у заведующей отделением не хватает уменья и твердого характера, – откажись, уступи место другому!
– Ты, милый, исключаешь опыт и мои руки, – слегка толкнула его ладонью в спину Аганя. – Я не завхоз, а врач! И почему ты говоришь это мне, но сам делаешь точно так же? Ты заместитель директора института, и сидел бы в кабинете, управлял, подписывал бумажки, давал нагоняй сотрудникам, но тебе, однако же, вздумалось самому взяться за проект застройки села Малый Брод.
– Во всяком случае, мы сотрудников, даже наиболее ценных, не заставляем трудиться над проектами день и ночь.
– Родить ребенка, произвести на свет человека только в дневные сроки, да без криков, без мук люди когда-нибудь научатся, а сейчас уж извини, дорогой мой, иному ребенку хочется родиться именно ночью, а матери его приходится трудно, и вот я, врач, обязана по закону совести и моей профессии немедля спешить на помощь, – ласково, но жестковато сказала Аганя. – И не обижайся, пожалуйста!
Она умылась и оделась, когда во дворе легонько гукнула машина, спугнув стайку воробьев. Утренний свет быстро рассеивался, повсюду растворяя сумрак и низко стелющийся туман. В столовой настенные часы певуче отбили пять ударов, а в соседней улице, погромыхивая по рельсам, прошел трамвай.
– Я постараюсь скоро вернуться, – сказала Аганя, выходя из квартиры.
– Мне надо ехать сегодня в Малый Брод, – предупредил в свою очередь Федор Тимофеевич. – Вчера звонил Гурлев. Просил непременно приехать.
– Передай от меня привет, – кивнула Аганя. – И надолго там не задерживайся. Не забывай, что сегодня 5 августа, а 8-го твои именины. Э, да ты у меня уже старенький, – добавила она шутливо. – Пятьдесят девять лет!.. Господи, как время летит…
– Что делать! Время не остановишь, – не очень весело сказал Федор Тимофеевич. – Было бы лучше такие именины не отмечать… но я успею, дел у меня в Малом Броде немного.
Поднявшись на цыпочки, Аганя поцеловала Федора Тимофеевича в небритую щеку и побежала вниз по лестнице, совсем как молоденькая. Так она всегда укрощала: любовью, верностью, добротой, а более всего – готовностью в любую пору поспешить кому-то на помощь, словно всякий раз на себе испытывала муки и страдания, которые достаются роженицам. И он никогда не мог остановить ее или попридержать, потому что спешила она не просто к мукам и страданиям, а к тем, посреди которых появляется на земле новый человек. «Ты, Федя, не знаешь, как приятно услышать первый крик младенца, – сказала Аганя однажды. – Вы, мужчины, в этом ничего не смыслите. Твои руки и твое сердце привыкли к машинам, к ансамблям жилых районов, которые вы спроектировали и построили, и ты, вероятно, тоже бываешь очень доволен, когда увидишь свое творение не на бумажном листе, но сверкающее, залитое огнями и заселенное людьми. А я присутствую при рождении существа живого, несмышленого, беспомощного, и первый его крик – это заявление: желаю жить, расти, поэтому дайте мне поесть и уложите меня спать! Он – будущее! Значит, мой труд не менее нужен людям, чем твой!» Никогда Аганя не жалела, что выбрала себе такую профессию, умела наделять ее воображением и содержанием, а Федор Тимофеевич никогда не решался в том разуверить.
Он снова прилег на кровать и укрылся одеялом. На подушке, где спала Аганя, осталась вмятина, а из постели еще не выветрился запах духов. Обычно возвращалась она с работы, пропитанная эфиром и остро пахнущими лекарствами, но дома эти больничные запахи ей претили, тут она становилась просто женщиной, желающей, чтобы ее любил муж. Поэтому она сразу же шла умываться, переодевалась во все домашнее, легонько касалась духами волос возле ушей, по одной капельке растирала пальцем по подбородку, возле носа и на шее. Кроме того, духи напоминали ей весеннюю свежесть лесных полян; она часто скучала о деревенской жизни.
Не спалось. Опять припомнилась Лида, безликая, отчужденная. Как хорошо, что судьба не свела с ней. Ведь даже с Аганей за тридцать три года жизни не всегда получалось гладко и тихо. Из-за детей. Он не хотел для них никаких поблажек, пытался вводить более суровые правила воспитания: для жизни нужны хорошо физически и морально закаленные люди. Ушибся – не реви! Допустил ошибку – спокойно рассуди: почему? Видишь несправедливость – не стой в стороне, не поглядывай равнодушно. В драке выбирай сторону тех, кто прав. И учись всегда, во всем делать добро! Добро в большом смысле, к чему направлен весь человеческий труд. Конечно, Аганя так же наставляла их, но с уступками, дескать, когда вырастут, все, что им надо, сами поймут.
На улице уже рассвело. За домами, на той стороне, откуда начинало всходить солнце, небо порозовело, зато во дворе будто добавилось просини: стены домов, и воздух, и даже тополь под окном окутало сине-сизой дымкой. На тротуаре, повизгивая от удовольствия, каталась на спине дымчатая собачонка. На скамейку под тополем начали выходить из подъездов старухи-пенсионерки, чтобы продышаться на свежем воздухе. Жизнь у них теперь пустая, и хотя ни одна не жалуется на безделье, видно, как трудно, неинтересно им жить. Зевают. Какой же это «заслуженный отдых», если уже никто в тебе не нуждается? «А ведь придет такая пора и для нас с Аганей, – печально подумал Федор Тимофеевич. – Продержаться бы еще лет пять-шесть!» Но эту мысль отогнал: пусть дожидается такой поры тот, кто устал и душевно состарился!
Себя он усталым не чувствовал. В прошлый раз Виктор почти позавидовал: «Твое поколение, папа, особенное. Стойкое. Как дубы вросли в землю. Сколько бурь пронеслось, а вы не качнулись ни разу!» Тут он еще имел в виду и Павла Ивановича Гурлева, для которого в семье Чеканов всегда было почетное место.
Вспомнив Гурлева, Федор Тимофеевич начал собираться в дорогу. До Малого Брода сто километров. Это два часа езды на машине. А надо приехать туда пораньше, успеть застать Гурлева в правлении колхоза, пока он не отправился на поля, где его, как ветер, не скоро поймаешь. И что же у него там стряслось? Почему он так взволнованно сказал по телефону вчера: «Приезжай непременно. Тут, брат, дело такое… опять мы с Согриным встретились!» Обычно звонил в институт, торопил с окончанием генерального плана застройки Малого Брода, а вчера уже поздно вечером позвонил на квартиру, очевидно, не мог стерпеть, но рассказывать ничего не стал.
Все это очень странно и непонятно, думай и предполагай, что угодно, а фамилия Согрина между тем впилась в память как острая заноза. Прошлое хотя и не возвращается, но иногда напоминает о себе, пока живы все те, кто в нем участвовал…
Дорога на Малый Брод, круто обогнув сады и широко разлитое в песчаных берегах озеро, ровно натянутой лентой прорезала хлебные поля с островками березового леса.
Никогда не мог Федор Тимофеевич проехать здесь, чтобы не испытать теплой душевной радости. Аганя удивлялась иногда, как это он, выходец из коренной рабочей семьи, становится похожим на истого хлебороба, приверженного к земле, когда вот этак широко и до дальней дали откроются дремлющие под солнцем и тихим ветром уже побуревшие колосья пшеницы? Между тем не красота самого хлебного поля, не еле слышимый перезвон колосьев, не запах дозревающих зерен, но прежняя борьба за хлеб, суровая и непримиримая, возникала вдруг перед ним: вот и дошагали от нищеты до такого богатства!
Километрах в двадцати от города он сбавил скорость машины. Мелькали на убегающих назад обочинах посеревшие от пыли кустарники, малиновые шапки иван-чая качались над белыми ромашками, прятались в тень подлесков широколистные лопухи, а он, занятый воспоминаниями, словно не видел их. Равнодушно обогнал и автобус, катившийся туда же, в сторону Малого Брода. Да и Прокопий Согрин, сидевший в автобусе у окна в хмуром, сосредоточенном молчании, не поднял глаза, не взглянул ему вслед…
Автобус шел в Малый Брод точно по расписанию. В селе Калмацком шофер объявил остановку на полчаса. Все пассажиры, которым нужно было ехать по тракту дальше, вышли размяться, покурить, попить в буфете воды. А Согрин продолжал сидеть у окна и, казалось, не замечал ни шумной толпы пассажиров, ни поднявшегося над крышами солнышка, ни реки Течи под крутым угором. Смотрел перед собой, как в темную пустоту. Всякий раз, когда надобность заставляла ехать по этой дороге, где прошлое вставало ему навстречу, он испытывал страх и тоскливое одиночество. Даже не появлялось желание навестить Зинаиду Герасимовну. Сила из него еще не истекла, хотя возраст под восемьдесят, и нет уже прежнего крепкого вида – лицо постарело, вылиняли и разлохматились брови, борода поредела и стала совсем сивой. А Зинаида, по слухам-то, согнулась, бродит, опираясь на палку, плохо видит и слышит. За три десятка лет с лишком, что пролетели с тех пор, успел Согрин овдоветь дважды: Аграфена Митревна не бедствовала, но не прижилась после выселения к новому месту, страдала о брошенном в Малом Броде хозяйстве, отчего с трудом протянула лет пять; вторая жена, Анна, тоже зачахла, не сошлась характером с мужем. Вошла в дом ни с чем, побыла без прибытка и ушла на тот свет, ничего не взяла. Ее он не жалел, а Зинаиду иногда вспоминал, но видеть не мог. Стремился напрочь вычеркнуть те годы из памяти. И просил судьбу – навсегда развести его с Гурлевым…
2
А в семье Гурлева назревал разлад. Павел Иванович еще надеялся, что сын его поймет, и пробовал убедить. Так заведено у них было давно: если спорить, то по-доброму, без шума и упреков, а если несогласен, так сумей доказать или же уступи и делай, как сказано. Не решился бы Гурлев звонить Чекану, но спор с Володькой зашел далеко…
Когда Володька был еще школьником и получал иной раз замечания от учителей, приходилось ему разъяснять, что плохо, а что хорошо. Парнишка был способный, но озорной. Не проходило недели без выходок: то девчонку за косу дернул, то кому-то в тетрадку плюнул, то на уроке физкультуры своему же дружку влепил затрещину.
– Ты, наверно, думаешь, будто на тебя управы нет, – выговаривал ему Павел Иванович. – Ну как же, ведь сын председателя колхоза! Попробуй-ка тронь тебя! Этак вот добалуешься, натворишь чего-нибудь пострашнее, да и поломаешь свою жизнь.
Не наказывал. И не потому, что Володька был единственным сыном, а проступки уже тогда отражали его прямодушный характер. Оказывалось потом, что девчонка на кого-то наябедничала, в тетрадке была списана задача с чужой тетради, а дружок во время урока паясничал. Только способы для восстановления справедливости, конечно же, применялись негодные, мальчишеские, и Павел Иванович не мог их поощрять. Всякий раз, объяснившись с отцом, Володька давал слово исправиться, некоторое время приносил домой чистый дневник, затем, при случае, снова срывался, как будто если бы не он, то никто иной не выступил бы против пороков. Однажды, когда он уже заканчивал десятый класс, натворил такое, отчего Павел Иванович долго не мог успокоиться. Стояла ясная, теплая погода. В колхозе посевные работы закончились, кое-где уже всходы подымались, в лесах доцветала черемуха, в личных садах колхозников курились дымовые костры для обережения ягодников от ночного холода, а молодежь бренчала на улицах допоздна на гитарах. Вот посреди такой ночи вызвали Павла Ивановича в сельский Совет. Поняв, что опять что-то случилось неладное, он наспех оделся и пошел туда. В комнате сидел участковый инспектор Яков Парфенович Томин, а перед ним, у стола, зареванная продавщица из магазина сельпо Зинка Юдина. У стены, на лавке, как молодые петушки на насесте, трое приятелей: Володька, Митька Холяков и Женька Сорокин. У Женьки на коленях гитара. Вид у каждого не виноватый, не растерянный, а даже наоборот, будто не их сюда привели, а они кого-то доставили.
– Вот полюбуйся, Павел Иваныч, на этих молодцов, – сказал Томин, кивнув на всю тройку. – Между прочим, комсомольцы и по разговору не глупые, а какое придумали…
«Неужели магазин взломали? – испугался Павел Иванович. – Головы оторву стервецам!»
Хоть и оказалось это не так, все равно поступок был скверный. Позднее, когда Томин стал их допрашивать, Володька потребовал:
– А пусть сначала эта крыса откровенно признается, чем она лучше других девчонок? Мы-то ведь знаем ей цену: из восьмого класса ушла, не захотела учиться, выше троек не поднималась. И почему же она не изъявила желание пойти работать дояркой или телятницей? Ручки не хотела марать или потому, что в магазине тепло, светло, пахнет пряниками и конфетами, и коли есть желание, то и греби в свой карман, сколько хочешь, покупатель оплатит.
Зинка приложила платок к глазам, нервно передернула полными плечиками, а Томин строго предупредил:
– Ты, однако, младший Гурлев, не заговаривайся и не оскорбляй! За это статья есть в законе.
– Да я просто так, для сравнения назвал ее крысой, – более спокойно и не так резко сказал Володька. – Мы как-то вскрыли в чулане пол и нашли крысиное гнездо. Так знаете, чего там было натаскано из дома: обрезки от тряпок, чулки, бумага, яичная скорлупа, пять рублей и почти горсть медных монет. Меня мать подозревала иногда, дескать, это я без спроса деньги таскаю, мне и оправдаться было нечем.
– К данному случаю это никак не подходит, – заметил Томин.
– Не буду настаивать, но тогда пусть Зинка сейчас же скажет, как это она на свою не очень-то завидную зарплату так одевается и шикует в нарядных платьях? Всем известно: своих денег она ни отцу ни матери не дает, тратит их на себя, но все равно на один заработок так много на себя не навешаешь. Посмотрите на нее, – махнув рукой в сторону Зинки, добавил он: – Одного золота рублей на шестьсот…
– Тебе-то что! – зло бросила Зинка.
– Не зыркай так на меня! – ответил Володька. – Я тебя не боюсь! Если понадобится, то и на любом суде это выскажу!
Павел Иванович озабоченно посмотрел на него: ведь парень был прав! Зинку уже уличал народный контроль, да и взыскания она получала то за излишки товаров, то за торговлю из-под полы. Ушлая и ловкая девка! Но прощали покуда: дескать, молодая, успеет исправиться. Сам же он вступался за нее: ее отец был инвалидом войны.
– Так что же произошло? – спросил Павел Иванович у Томина.
– Пока ничего, только угрозы, – приказав Зинке помалкивать, сказал Томин. – Они хотели с нее колечки, брошки и сережки содрать и забросить в озеро.
– Не сразу! – перебил его Митька Холяков.
– Повтори, как произошло, – кивнул Томин Зинке.
– Они не сразу накинулись, – подтвердила та. – Я закрыла магазин и хотела идти домой, а тут они встретились мне, и Володька первый взял меня под руку. Я оттолкнула его и говорю: «Отстань! Не цепляйся!» Он еще крепче зажал мой локоть, мне стало больно, и я снова начала его толкать от себя. «Отстань, говорю! Водки вам, что ли, надо? Так обождите, схожу, принесу!» Володька не отпускает: «Мы водку не пьем, можешь ее оставить кому-нибудь, а нам надо тебя спросить. Только ты должна ответить прямо и откровенно!» Я подумала, что они спросят о чем-нибудь дельном и согласилась, а Володька говорит: «Ты дура или счастливая? Мы поспорили между собой: по-моему, так ты дура круглая, не знаешь, куда себя девать и не соображаешь, как станешь жить, ежели попадешься; Митька считает, что ты чувствуешь себя счастливой и довольной, но у тебя просто соображения нет, и ты не можешь отличить чужое от своего; а Женька находит, что ты ни то ни се, опоздала родиться и угодила не в ту жизнь, которая тебе полагалась». Мне же обидно стало, не шутка ведь. И сказала им: «Сами дураки и балбесы. Уйдите, не то закричу!» Тогда Митька пригрозил: «Я как поддам тебе, да вдобавок сорву колечки и брошки, закину их в озеро. Вежливости не понимаешь!» Потом Женька потренькал на гитаре и пропел: «Какая милая девочка!» И я стала кричать…
Зинка опять зарыдала, а Томин задумчиво побарабанил согнутым пальцем по столу. У него явно не было желания составлять на ребят протокол. И Павел Иванович тоже не мог сердиться на них. Более того, он их прощал. Разумеется, не за намерение наказать и пристыдить Зинку, а за мысли. В самом деле, чего же девчонка находит хорошего в добытых нечестно вещичках, рискуя своей судьбой? Вдобавок, брови и ресницы подкрасила чем-то ярко-синим, на губах толстый слой белесой помады, будто ела пирожное с кремом, а вытереть их забыла. Не причесана, не прибрана, как полагалось бы. Это, видите ли, мода такая! Но все-таки не следовало ее оскорблять и доводить до слез.
Такое чувство осталось в нем, когда увидел он Зинку совсем с иной стороны. Проплакавшись, она вдруг присмирела, поникла и перестала быть похожей на ту самоуверенную, грубоватую, чуть даже нахальную, какой казалась из-за прилавка магазина. Вынув из кармана ключи, она положила их на стол, затем поднялась со стула и, не подымая глаз, пошла к дверям.
– Это зачем? – ничего не поняв, спросил ее Томин.
– Можете сделать ревизию, а я туда не пойду работать, – пожалуй, очень спокойно ответила Зинка. – Терпеть-то такое!
Парни переглянулись между собой; Павел Иванович не сказал бы, что они торжествовали победу. Все рослые, плечистые и яркие, как подсолнухи в цвету, а Зинка перед ними – маломерный подросток. Но не смутились.
– Не разыгрывай из себя цацу, – кинул ей вслед Володька. – Никто не поверит!
Томин подобрал брошенные ключи, подкинул их на ладони, как бы взвешивая, и попросил Павла Ивановича занести их к Зинке домой. А парней предупредил:
– Если вам хочется задавать людям вопросы, так собраниями пользуйтесь. Не лезьте, куда вас не просят…
– Вот как! – резко заметил ему Митька Холяков. – Куда же нам лезть?
Решительный разговор с ними Павел Иванович отложил на утро. Он уже давно приучил себя не делать ничего сгоряча, а прежде подумать и разобраться.
На темной улице, в домах не светилось ни одного огонька. Зинка неподвижно сидела на лавке у своего палисадника. Кинув ей на колени связку ключей, Павел Иванович присел рядом и произнес с сожалением:
– Ничего не могу понять. Может, ты их обидела?
– Сами они глупые, – совсем не враждебно сказала Зинка. – Кабы спросили по-дружески, так я бы нашлась, как ответить. А то сразу же: дура, да еще и круглая дура! Женька же знает, какая… – тут она запнулась, помолчала, что-то переживая, и скорбно добавила: – Несчастнее меня нет никого! К нему со всей душой, звездочку с неба для него бы достала…
– Любишь, что ли? – догадался Павел Иванович.
– Наверно, люблю, – тихо призналась Зинка. – Еще с восьмого класса. Потому и тройки все время хватала. Сидели с Женькой на одной парте, плечом к плечу. Он-то ничего, шутки да прибаутки надо мной, а я, бывало, вся как в огне. Учительница что-то говорит, – не слышу, задачку решить не могу. Домой приду, заберусь в чулан, наплачусь досыта. Это ведь он, Женька-то, еще тогда меня стал называть – «милая девочка». Дурак набитый! Я же нравлюсь ему…
– Ты уверена?
– А из-за чего он ни с кем из девчонок не дружит?
– Ну и сказала бы…
– Как не так! Стыдно же! Заявит потом: навязалась на шею!
– Значит, не одобряет тебя, – строже сказал Павел Иванович. – Ты вот и отца с матерью не уважаешь. Это печально, Зинка! Родители у тебя люди славные. Лично я готов всегда шапку снять перед твоим отцом, не столь даже за то, что он на фронте ногу потерял, – на мне самом тоже еще от гражданской рубцы остались, – а за его верность и приверженность к земле и ко всему нашему делу. Году в тридцать четвертом наш колхоз еле-еле дышал. Чего ни посеем, весь урожай приходилось сдавать государству. Если самим-то, бывало, придется на трудодень граммов по триста зерна, радехоньки были: хоть не досыта, а не одна лишь картошка. Это теперь нет нужды вспоминать, отчего да почему разорилось в ту пору хозяйство, причины зависели от нас и не от нас, но очень туго и трудно жилось в колхозе. Те семьи, которым становилось совсем невтерпеж, и те, что хлеборобством особенно не дорожили, уехали на производство. Силой ведь не удержишь! Василий, твой-то отец, как раз в ту пору женился. Поначалу поселил я их в одной из горниц в бывшем доме Прокопия Согрина. Жить вроде бы можно, просторно и тепло, а когда на желудке тоскливо, работа на ум не идет. Вдобавок, на столе у меня строгая директива: в случае сокращения посевов, недосдачи хлеба согласно плану, срыва поставки молока и мяса, непосылки людей на лесозаготовки и тому подобное, – председателя колхоза под суд! Да почти каждый день наезжали к нам разные уполномоченные. И всякому приходилось давать отчет. Между тем в хозяйстве у нас осталось меньше половины колхозников, а лошадей на десять упряжек и механизации кругом не хватало. На ближних полях, где массивы для тракторов неудобные, на коровах землю пахали. И пахали-то не мужики, а женщины и парнишки. Горе сплошное! Ну, чтобы как-то на этом участке дело поправить, я сюда поставил твоего отца бригадиром. Сама можешь понять, легко ли ему эта работа давалась. Помыкался он вёшну, кое-как план все же сделали, а перед уборочной приходит однажды ко мне вместе с Натальей и кладет на стол заявление: отпускай! Посмотрел я на них: Наталья в тяжести (это она тогда твоего старшего брата родила), сам Василий на человека уж не похож. Язык бы не повернулся отказать им, а вот что-то сжалось у меня внутри, заболело. «Неужели, говорю, Василий, оставишь ты меня в моей трудности? Неужели землю вою разлюбил?»…
Павел Иванович разгладил попавшие под сапог бугорки, раздавив их подметкой, потом оглядел вокруг ночное небо. Не часто и неохотно вспоминал он прошедшее.
– А чем же ты ему сейчас помогаешь? – спросил он, обернувшись к Зинке. – Лестно ли слышать от людей, как дочь кого-то обмерила и обвесила? И ради чего? Думаешь, наверно, что Женька на твои побрякушки и шелковье клюнет скорее, чем если бы ты была наравне со всеми?
– Думала!
– Вот за то тебе и влетало, – солидно сказал Павел Иванович. – И перестала бы мазаться, Зинка! Кому охота с твоих губ этакую пакость лизать…
Митька Холяков ночевал вместе с Володькой на веранде. С малых лет прилепился он к семье Гурлевых. Если бы не рыжеватость, что унаследовал парнишка от своего деда Кузьмы Саверьяновича, сошел бы он за родного брата Володьки. После гибели Кузьмы не мог Павел Иванович одолеть в себе вину перед его осиротелой семьей и, подобно Ульяне, помогал чем мог. Тогда же, в двадцать девятом году, нарубил для них к зиме дров, а Семена, будущего Митькина отца, устроил учиться в Калмацкую школу на казенный счет. Не удалось его двинуть дальше, с большой бедности и нужды начались первые годы колхозной жизни. Взял Семена обратно, послал на курсы. Так он и стал в Малом Броде трактористом номер один. А в сороковом году, когда Митьке от рождения исполнился ровно месяц, погиб Семен где-то на подступах к Выборгу. В колхоз прислали потом извещение: дескать, Семен Холяков «пропал без вести», но Павел Иванович не мог этому поверить. Ведь и Кузьма тоже вроде бы «без вести пропал», пока не нашли. Так и Семена начал искать. Выяснилось потом, погиб он действительно, при наступлении по льду попал под артиллерийский огонь и навечно остался лежать на дне озера. С тех самых пор и приголубил Павел Иванович Митьку.
Перед уходом в правление разбудил их, велел позавтракать и садиться за подготовку к экзаменам. Их школьные годы закончились; еще месяц-два и придется решать, чем дальше заняться. Думал еще вчера – вот уже и парни готовы к самостоятельной жизни. А готовы ли? Эта выходка по отношению к Зинке, пусть сто раз справедливая, им чести не делала, а тем более после того, в чем призналась сама девчонка.
– Разъясните мне, откуда в вас такая жестокость? – спросил он у Володьки, когда тот поднялся с постели. – Вы, что же, твердо уверены в том, что наговорили Зинаиде, или шутили от нечего делать?
– Да какая же это жестокость, батя? – удивился Володька. – Хотели обыкновенно выяснить…
– Значит, если «обыкновенно», то не жестокость. А какие слова при этом употребили, как пытались применить силу – уже не важно. Правильно ли я понял?
– Ну, батя, мы не рыцари, а Зинка не великосветская дама. Стерпит, зато пусть знает. Но даже если ошиблись, велика ли беда? По лицу не ударили! Разве ты сам всегда был терпеливым и вежливым?
– Речь не обо мне теперь, – задумчиво ответил Павел Иванович. – Мою жизнь, твою и Митькину невозможно сравнить. Я вот думаю, что жестокость бывает разная: есть вынужденная, есть необходимая, есть враждебная и вражеская, есть бессмысленная, как у шпаны и хулиганов. Как вашу назвать, не знаю.
– Дядя Павел, пропадет ведь Зинка, – вмешался Митька Холяков. – Как поступить с ней иначе?
– Тоже не знаю! Я насчет девчонок не мастер. Вообще в жизни, конечно, разбираюсь немного больше, чем вы, потому, что прожил ее не одну за свои шестьдесят три года, а несколько.
– Это как же, батя: умирал и рождался заново? – засмеялся Володька.
– Из одного качества переходил в другое, – в ответ ему улыбнулся Павел Иванович. – Первая моя жизнь началась у родителей, а закончилась после тяжелого ранения в бою здесь, в Малом Броде. Вторая жизнь началась здесь же, когда ожил я и поправился после ранения, а закончилась в конце двадцать девятого года. Восемь лет пробыл я тут секретарем партячейки. Потом, когда началась сплошная коллективизация, а наряду с ней ликвидация кулачества, выбрали меня мужики председателем колхоза. Продолжалась эта третья жизнь вплоть до войны. А уж самой тяжкой оказалась моя четвертая жизнь. Началась она с первых дней войны и закончилась примерно в пятьдесят третьем году. В последние годы перед войной пошел наш колхоз на поправку, мы тут повеселели, ну а война все сожрала. Больше половины мужиков ушли на фронт. Мне еще раз, после гражданской, повоевать уже не пришлось. Просился, не взяли! Остался я тут с одними женщинами, да со старым и малым. Опять на коровах пахали, хлеб не ели, каждое зернышко отдавали для фронта, а самое-то страшное были похоронки. Как появится в селе почтальон, так, бывало, мы свету не видим; привозил он всегда не радость, а горе и слезы. Пятая жизнь началась хорошо; было, конечно, еще много неурядиц в ней, но все они со временем поправились. Забогател народ. И вот живу теперь в этой жизни вместе с вами.








