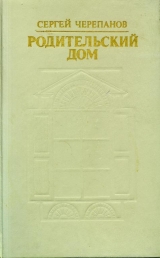
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
С каждым заклятьем Аким Окурыш ахал от восторга, а Михайло Сурков вдруг вскочил с крыльца, бегом кинулся к лестнице пожарной вышки и громко крикнул оттуда:
– Беда, мужики! Чьи-то суслоны горят!
За озером, там, где погасла заря, вспыхнуло сначала с десяток костров, потом показалось их больше, словно кто-то в неистовстве поджигал темноту. Чекану стало не по себе: это не могло случиться без умысла, как выстрел из-за угла. «Еще надо рассудить, кто кого ущемляет? – вспомнил он слова Гурлева. – Кто кому мстит?»
Парфен Томин зауздал двух коней, которые постоянно содержались в пожарном сарае. Гурлев и Бабкин сели на них верхами и наметом умчались к месту пожаров.
7
Суслоны, сложенные из снопов сжатой пшеницы, сгорели на поле середняков Чиликиных, в заозерье. Дня через три, и все там же, огнем был уничтожен урожай на поле братьев Томиных, беспартийного члена сельсовета Евдокима Неверова и бедняка Данилы Вдовина. А в ночь под воскресенье поджоги начались неподалеку от Межевой дубравы. Затем оказался погорельцем и Прокопий Согрин. У него сгорели суслоны на четырех десятинах, что, по прикидкам мужиков, составляло самое малое триста пудов зерна.
Он пришел утром в сельский Совет весь пропахший дымом и принес обгорелый сноп. Положил его на стол Бабкину.
– Это что ж такое, граждане, сотворяется у нас в Малом Броде? Сколь трудов пропало зазря!
– Может, ссорился с кем-то? – спросил Бабкин.
– Господи боже! – огорчился Согрин. – Живу тихо. Слова лишнего никому не говаривал.
– Постарайся припомнить.
– Со своим братом, с лишенцами, мне делить нечего, окромя неприятностей…
– Значит, на бедноту полагаешь?
– Думаю, кто-то из зависти либо со зла…
Гурлев сначала молча смотрел на него, не вмешивался, а при последних словах Согрина, отбросив горелый сноп со стола, зычно предупредил:
– Не смей на бедноту тень наводить! Не позволю! Кто знает, каким потом ему хлеб достается, тот и на чужой хлеб руки не подымет!
– Ну зачем так громко, – отступая и подбирая с пола сноп, скривился Согрин. – Я же ни на кого не указываю. Но ведь подобру никто спичку под суслон-то не сунет. И пришел я сюда не за тем, чтобы виновников каких-то сыскать. Разве найдешь их, коли следов не оставлено! Прошу удостоверить, однако, что с тех погорелых четырех десятин урожая ни зерна не осталось, и потому план сдачи хлебных излишков придется с меня скостить.
– Посмотрим, когда весь умолот соберешь, – пообещал Бабкин. – А пока лишь составим акт о пожаре.
– Несправедливо выходит так, граждане! Я, конечно, сдачу излишков зерна не задержу, а прямо с гумна все вывезу в казенный амбар. Берите на здоровье, сколь на то моей возможности хватит. Но сгоревшее зерно уже не вернуть. Да и как знать, может, и остальной мой урожай кто-то спалит, пока молотить соберусь. Не могу же я сам стоять у каждого суслона, оберегать его…
– Что-то никак не верится твоему заявлению, Прокопий Екимыч, – перебил его Гурлев. – Уж очень усердствуешь! Вот и сноп этот приволок сюда. А зачем? Какая в том цель? То ли мы своими глазами не видели твое обгорелое поле! Так не сам ли ты озоруешь?
– С тем же успехом я и про тебя могу сказать, Павел Иваныч, – не смутился Согрин. – А не скажу. Ни тебе, ни мне доказать нечем.
Сноп он унес к себе домой и подвесил на столб у ворот. Сделал так неспроста. Из окна горницы было видно, как прохожие мужики и бабы в страхе шарахались и суеверно крестились, чтобы их не постигло такое же горе. «Не мытьем, так катаньем, а своей цели достигну, – злорадно думал Согрин. – Обождите, еще не то испытаете!» Не жалеючи, не страдая, он спалил бы огнем все, что взросло на полях, – такой в нем иногда подымался гнев, но усмирял себя, не позволял сделать хотя бы один опрометчивый шаг. Потому и бродягу Барышева отослал поначалу в город, дал отсидеться там и немного подправиться, покуда не заглох в Малом Броде разговор о происшествии во дворе Савела Половнина. А поступил тогда верно. Гурлев и Бабкин в то утро посылали по дворам своих людей, искали «чужого человека, побывавшего ночью в селе», однако их хлопоты оказались пустыми. И еще тогда же, обдумав, как использовать Барышева, но самому при том остаться в тени, не навлекать на себя внимание партийцев, решил привлечь к делу Евтея Лукича Окунева, из среды богатых хозяев самого отчаянного, притом самого увертливого и готового на любой поступок. И не ошибся в нем. Позднее, когда подступила жатва, Евтей съездил на подводе в город, неприметно привез Барышева и безотказно передавал тому все поручения Согрина.
Только очень мало побыл горелый сноп на столбе у ворот. Пришел Бабкин и велел его снять: «Немедля убери это пугало! Не смущай народ! Не думай, что поверье обережет от огня!» Затем в тот же день посыльный Аким Окурыш разнес по селу приказ сельсовета, чтобы сами мужики охраняли свои поля. Приехали из Калмацкого в помощь участковому милиционеру еще двое, в штатском. На общественном гумне Гурлев поставил сторожей, на ночь отряжал в леса вооруженных берданами комсомольцев.
Почуяв большую опасность, Согрин сразу же кинулся к Окуневу, но того, как на грех, дома не было, и потому нужда заставила самому поспешать…
Барышев скрывался в овраге на берегу Течи под видом рыболова. Это место выбрал для него мельник Петро Евдокеич, давний заединщик Окунева, мужик нрава крутого, но надежный и не трусливый.
Правобережный овраг у подножья меловой горы река огибала крутой подковой. От берега до пологой вершины здесь густо росли березы, ольха и черноталы, увитые хмелем, а сам берег обрывался у глубокого омута и пользовался худой славой. Хоть и водилась тут рыба, даже налимы, никто из жителей ближних деревень не решался заниматься их промыслом.
Днем Барышев ставил жерлицы на щук и отсыпался в дерновом балаганчике, устроенном поодаль от реки. Ночью уходил на разбой верст за десять отсюда, по волчьему правилу: возле логова никого не трогать!
Весь путь от Малого Брода до реки Согрин ехал верхом, без седла, подложив под себя кошомку. Сторожко ехал, минуя дороги, по березовым колкам и опушкам. Еще в распадке, уже у реки, прежде чем оставить коня и пешком перебраться по мелководью на правый берег, постоял, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. На песчаной отмели суетливо бегала трясогузка, а река тихо плескалась в осоке, где кормился утиный выводок. Ласково ворковал голубь-витютень. Звенела крыльями зеленая стрекоза. На том берегу, у оврага, под высокой ольхой стояли подряд три жерлицы.
Барышев сидел у балаганчика, подбирая сучком березы еле тлеющие на костре угольки.
– А я тебя сыздаля узнал, Прокопий Екимыч, – сказал он, вяло подымаясь и здороваясь. – Сам пожаловал. Значит, случилось неладное?
– Ты думаешь, поди-ко, народ примет беду безропотно, – ответил Согрин. – У него хлеба горят, а он станет сидеть и моргать глазами! Таких дураков теперича нету! Да и не шибко управный ты! Я же велел сжечь все суслоны у меня на полях с десяти десятин, а ты с краю прихватил несчастных четыре десятины и тем ограничился. Пошто так?
Барышев повел плечами, пробормотал:
– Евтей Лукич передавал мне, да посумлевался я. Не ошибся ли он? Конечно, для отвода подозрений суслоны надо было пожечь, да ведь не все же! Жалко стало экую прорву хлеба сничтожить!
– Твоя ли это забота? – резко спросил Согрин. – Раз хозяин велит, так лишнего рассуждать не следовало. То ли я весь хлеб в поле спалю, то ли заставят его сдать как излишки в казенный амбар по дешевке, для меня-то одинаково убыток. Вот иные хозяева прячут излишний хлеб в ямы, гноят его там, переживают всякий раз, если комиссия от сельсовета во двор является. Яму найдут – конфузу-то сколько! Еще и судом станут судить. Я поступаю проще: не прячу! Что хлебушку-то в яме гнить, что сразу в поле сгореть, – один конец, зато если сожрет его огонь, то с меня спросу нету. А тебе, видишь ли, еще и рассуждение понадобилось! Нет уж, Павел Афанасьич, я не люблю, когда мне перечат!
Барышев опять присел к потухающему костру, достал из золы испеченную картошку, покатал в ладонях.
– Припасы у меня кончились, Прокопий Екимыч! И одежа сносилася! А ночи стали студеные.
Согрин и сам видел – не удалый молодец перед ним. Сотня рублей, брошенная при первой встрече, впрок не пошла. Снова обношенный, с выпуклой куриной грудью, остро пропахший потом и дымом, бродяга этот уже давно бы, наверно, подох, если бы не подогревала его жажда мщения.
– Сегодня уйдешь отсель! – сказал ему. – Придется снова на время исчезнуть.
– Без денег никуда не пойду, – решительно заявил Барышев. – Заробить их негде в моем положении. Надо жрать, надо за квартиру платить и надо все же сменить одежу.
Согрин достал из бумажника новую сотню, Барышев принял, но не двинулся с места.
– Еще давай!
– Хватит. Деньги-то я сам не печатаю. Поживешь скромнее.
У него в бумажнике лежали еще три сотенных бумажки, а отдать их раздумал: дать сразу много, значит, поводок ослабить! Погуляет Барышев на длинном поводке, по своей вольной воле, да и махнет обратно в Сибирь, за темные леса, за высокие горы, а не то пьяным напьется и все разболтает.
– Скромнее поживешь, – повторил Согрин. – И засиживаться тебе не дадим. Вот поутихнет народ, милиция из села уберется, так к молотьбе, дай бог, ты снова понадобишься!
Барышев, обжигая губы, жадно сглотал печеные картофелины, сбросил с ладоней обгорелую кожуру и запил еду из фляжки речной водой.
– Я могу любую нужду стерпеть, Прокопий Екимыч, но не ради мелкоты! Бегать-то по ночам и поджигать суслоны – это ребячье занятие. Уж коли рисковать, то было бы за что!
– Всему свое время, – обнадежил Согрин.
– Дозволь хоть с моей бабой расправиться!
– И думать не смей! Теперич ты невидимка, никому невдомек, что ты живой тут где-то поблизости, а из-за бабы себя откроешь. Не торопись с ней! Не так уж она и виновата перед тобой. Сам ты весточки не подавал. А как же ей в домашности без мужика обходиться?
– Другие обходятся.
– На подножном корму пробавляются, – осклабился Согрин. – Твоя-то хоть не вольничает, а сошлась и живет. Но ты и на ее полюбовника не вздумай руки поднять!
Тут он нахмурил брови, пригрозил пальцем.
– Небось он тебе родня? – так же мрачно спросил Барышев.
– Насчет его у меня отдельный план! Оторвался ты, Павел Афанасьич, от земли и от жизни. Вот и не суйся в воду, не зная броду. Пропадешь!
Обречен он был, этот Барышев, самой судьбой. Как покойник. На его лице не осталось уже ни одной живинки: землистые впалые щеки, бескровные губы.
Согрин отворотился, брезгливо сплюнул.
Страх терзал Барышева многие годы. В этакой большой стране не находилось жалкому бродяге места, где бы он хоть на время забылся. Прокопий Екимович потому и доверился ему, что Барышев уже не принадлежал себе. Все пути к покаянию, к честной жизни для него были закрыты навечно. Он мог рассчитывать лишь на смерть. А боялся ее. Так обернулась ему погоня за славой. Хотел от Колчака нахватать наград, разжиться награбленным, забогатеть, а схватил людское проклятие. Совсем случайно узнал об этом Прокопий Екимович. Однажды в городе на базаре покупал селедку, а на обертку попала газета за девятнадцатый год, с описанием расправы колчаковской контрразведки с партизанами и красными солдатами, попавшими в плен. Черным по белому было написано, как Павел Барышев командовал их расстрелом. Ну, и прибрал Прокопий Екимович эту газетку, сохранил, а она и пригодилась впоследствии. Все село числило Барышева давным-давно в мертвых, но он в прошлом году вдруг прислал письмецо своей дальней родственнице Зинаиде, в село Калмацкое, от которой оно перешло к Прокопию Екимовичу.
Дождался он, пока Барышев наладился в путь, и проводил его по правобережью. Там пролегала малолюдная дорога на Калмацкое и уж никак не мог встретиться кто-нибудь из малобродских мужиков.
– С богом, с богом ступай! – сказал ему на прощанье. – И чтоб никакой своей воли…
Это сама жизнь научила – быть невидимкой и все делать невидимо. Проклял бы ее Согрин, но она ведь не шапка, что взял да сменил на новую.
Эту же мысль высказал потом и Евтею Лукичу, когда тот спросил, куда подевался Барышев.
– Не прежнее время теперь, чтобы себя-то выказывать. Попадешься – никакой деньгой не откупишься! И по своему желанию жизнь не построишь. Если уж рисковать и цель свою соблюдать, то в надежности, что на крючок не поймаешься. По моему разумению, в любой драке, коли не хочешь битым быть, завсегда надо поступать разумно, не торопясь и с расчетом. Один раз вдарь, но со всей силой, а потом отойди на время, выжди момент. И снова со всей силой вдарь по больному месту. Вот потому я Пашку-то Барышева отослал покуда и тебе, Евтей Лукич, велю: спрячь свои коготки, не пытайся кого-нибудь поцарапать, наберись терпения до молотьбы.
И сам терпеливо ждал, пока мужики возили с полей снопы, укладывали в гумнах скирды. Однако опасность не миновала и пустить по гумнам «красного петуха», как намечал, не пришлось…
8
Осень еще не торопилась уйти с Зауралья, хотя подгоняли ее резкие холодные ветры.
Пока шла молотьба, дни стояли погожие, неяркое солнце в затишках пригревало. Затем молодая раззолоченная осень, такая веселая и величаво прекрасная, вдруг как-то сразу поникла, постарела и покинула неуютное место.
После затяжного ненастья замело, запорошило повсюду листопадом, потом белым пушистым снегом. Озеро долго не застывало. От берега к берегу хлестались по нему темные волны, закипали буруны, выбрасывая ледяную шугу на песок, забивая подходы к плоткам. Чаще стали налетать порывы бури. Ветер завывал на застывших, обезлюдевших улицах. За ним, подметая сугробы, мчалась поземка. На окна домов и избенок льняным кружевьем ложились морозные узоры. А по Первой улице бродил дурачок Тереша и, стукая палкой о мерзлую землю, выкрикивал:
– Татьяна поймала таракана! Дождь будет, град будет, стужа будет! Хо-о-олодно!
Был он громадный телом, страшен на вид. Слепые глаза без зрачков, словно повернутые назад, тупо смотрели из-под обвисших мохнатых бровей. Лицо в рыжей клочковатой бороде казалось плоским, как на иконе. Он носил одну посконную рубаху ниже колен, раскрытую на задубелой до черноты могучей груди, а когда шел по улице мимо окон и палисадников, даже собаки поджимали хвосты и прятались в подворотни.
– Хо-о-олодно! – гудел Тереша, шлепая по мерзлой земле босыми ступнями.
В ночь под Новый, двадцать девятый, год началась беспросветная пурга. Снегом засыпало улицы. Землянухи и избенки бедноты закрыло сугробами, печные трубы курились над ними, как тлеющие гнилые пни. Под утро небо прояснилось, вызвездило, и снова ударил мороз.
В эту ночь дурачок Тереша заблудился в переулке и, привалившись к бане Степана Синицына, замерз. Его нашли, когда развиднелось, затащили в холодные сенцы, долго оттирали шерстяными варежками, хотя в окоченелом теле не оставалось ни одной живой искры.
Никто в Малом Броде не верил, будто Тереша не выдюжил холода. За свои сорок лет он ходил зиму и лето в домотканой одежде, босиком, без шапки и не знавал простуд.
Провожала его на кладбище большая толпа, как святого угодника; весь путь, пока его несли на руках, печально звонил пономарь в похоронный колокол.
Прокопий Согрин не надевал шапку до кладбища, выказывая Тереше почтение. Прежде во двор его не пускал, а сейчас вроде бы каялся и замаливал грех. За свой счет поставил на могиле оградку, подал семье десять рублей на поминки.
Тут же, в ожидании выпивки на поминках, крутился Егор Горбунов. Презирал его Согрин за пустозвонство, за леность и глупость. Даже подшить подметки на свои валенки не собрался Егор, из дыр торчат грязные онучи, подметают снег, а его самого, в латаной-перелатаной шубенке пробивает дрожь. Только надобность пустить по ветру с брехливого языка Егора молву заставила к нему подойти, поздороваться за руку.
Преодолевая брезгливость, Согрин сказал:
– Вот так-то, Егор: сколь человек мал перед темными силами!
Тот испуганно обернулся.
– Эт как понимать, Прокопий Екимыч?
– Мал, говорю, человек-то! Был у нас в селе один праведник, и того лишились. А пошто? Неверия много. Когда церква горела, слышен был на площади чей-то крик: «Знамение божие!». Но если вздумать: какое знамение? К чему? По какой причине? Тот крик мы все мимо ушей пропустили. Да выходит зря! Люди сказывают, Тереша-то погинул не попросту, а явилось ему видение…
И поползло по Малому Броду, будто поразил Терешу антихрист. Опять страх забрался в избы, всколыхнул суеверия, насторожил людей.
Однажды утром на домах и избенках, на воротах и ставнях появились нарисованные белой глиной кресты. У богачей Саломатовых, замкнутых, ни с кем не водивших дружбы, помимо крестов, над кладовой блистала позолотой икона. «Значит, еще что-то новое появилось, – подумал Чекан на пути в читальню. – И, по-видимому, не маловажное!»
Час был ранний, мороз обжигал лицо, на улице ни единой души. Что произошло – спросить не у кого.
Чекан прошел дальше по околотку. Здесь в одиночестве стоял у своей дряхлой избы Иван Добрынин и, приложив ладонь к бровям, всматривался куда-то в глубину неба. В руках он держал кусок белой глины, весь темный фасад избенки был разрисован крестами, похожими на большие куриные следы. Одолевали мужика какие-то мысли, весь он находился в таком трепетном ожидании, что даже не услышал скрипа сапог избача по твердому снежному насту и вздрогнул, когда Чекан тронул его за плечо.
– Что там увидел?
– А вечор-то являлось видение народу, – торопливо ответил Иван. – При заходе солнышка, под самыми облаками летело. И красное все!
– Так это ж не чудо! – засмеялся Чекан. – Самолет летел в сторону города Свердловска. А красным он казался от вечерней зари.
– Поди-ко, знай! – явно сомневаясь, произнес Иван. – А как, то исть, он туда мог взлететь? Люди вечор баяли, это-де, может, птица незнаемая, а может, того…
Он замялся и сконфузился.
– Да ты договаривай, – одобрил Чекан. – Не чужой ведь я!
– …Так сказывают люди, может, того… это самое. В том образе сам антихрист себя оказал? И в ночь-то могло быть крушение. Но, слава богу, ночь прошла без сумлениев, а что сотворится сегодня, поди-ко, знай! Никому, выходит, верить нельзя!
– Нам, партийцам, ты веришь?
– Я, может, верю, – осторожно сказал он, опять поглядев на небо. – Но, промежду прочим, люди сказывают, тоже кругом обман. Партейцы-де соблазнят и завлекут во всякое место, да потом опутают и продыху не дадут. Вот завлекли робить сообща на гумно. В ликбез агитировают: учитесь-де писать и читать! Опять же в потребиловку тянут: вступай в члены, станешь получать давидент! Вот этак-де приучат табуном жить, намажут по губам-то маслом, да и загонят в коммуну. Значит, с бабами спать сообща, исть из одного котла, из одежи – одну шубу на троих! Эт как же так получается?
– А ты сказкам веришь?
– Бают меж собой граждане, – уклонился Добрынин. – А мне что: как все, так и я! Живу-то на усторонье, да хвораю. И отделяться от всех не с руки.
Ветром и снегом стирало белые кресты, ребятишки безнаказанно дорисовывали к ним хвостики и кружки, а молва еще бродила по закоулкам, когда запоем запил и загулял пимокат Софрон Голубев. Две недели подряд, почти не смолкая, маялся Софрон то печальными, то дикими песнями, а потом стал плакать и кричать о том, что он потерял в себе человека. Пачку бумажных денег, заработанных тяжким трудом, порвал и разбросал по сугробам:
– Вот он бесовский дурман! Кыш! Кыш отсюда, проклятые!
В избе побил горшки и крынки, пимокатную струну и колодки изрубил топором. Потом ввел в избу своего серого мерина, поставил перед ним ведро с самогоном и стал поить.
– Подари мне свою душу, друг, она у тебя чистая. Пусто у меня теперича тут! – И колотил себя кулаком в грудь. – Слышь, как гудит там? А как жить без души? Для чего?
На другой день, пьяно шатаясь, пошел по дворам, стучал палкой в окна, низко кланялся и просил:
– Отдайте душу!
Никто его не понимал: с пьяных-де глаз дурит мужик. Со смехом, как ряженому на масленице, выносили шаньги, витую сдобу, но Софрон кидал их обратно.
– Добра прошу! Темно без души!
Долго и настойчиво стучал в дом Согрина. Наконец тот вышел, обругал пьяницей и загнул перед его носом кукиш.
В тот же день Голубев поджег пимокатню. Построенная в огороде, поодаль от двора, бревенчатая избенка, где он три года, не разгибаясь, не выходя на свет, как проклятый зарабатывал деньги, загорелась не сразу. Столб густого дыма высоко взвился в ясное дневное небо. В рваной, прокопченной рубахе, обросший волосьями, на виду у сбежавшейся толпы Софрон кинулся внутрь и закрыл за собой дверь.
И сгорел бы. И снова покатилась бы по селу молва, на этот раз не о каком-то незримом «антихристе», а вполне определенная: сам Софрон сказал, что променял душу бесам, значит, есть они и подстерегают всякого, кто в мечтаниях своих грешит.
Гурлев ударил в дверь пимокатни плечом, сорвал ее с крюка и в сплошном дыму перешагнул порог. На помощь ему бросились Никифор Шишкин и еще трое мужиков, лица которых Чекан не успел рассмотреть.
Пламя уже лизало стены и лезло под застреху крыши, Рано постаревшая женщина, испуганная, простоволосая, очевидно, жена Голубева, заголосила и упала на сугроб в беспамятстве.
Вытащили его из избенки ногами вперед. Он вырывался, наглотавшись дыма, кашлял. Борода и космы на голове были в подпалинах.
– С ума сошел, дрянь! – обругал его Гурлев, сунув лицом в снег. – Обожди, я тебе душу на место поставлю!
Тут он Софрона не тронул, зато в избе отвесил затрещину. Тот пялился осовелыми глазами, гнулся, сидя на лавке, а после затрещины протрезвел.
– За что ты меня так, Павел Иваныч?
– Это тебе лекарство, чтобы в разум взошел!
– На том благодарствую, – без обиды ответил Софрон. – Погинул бы я и семью в сиротстве оставил. А все через дурость. Сгорела поди пимокатня?
– Отстояли.
– Лучше бы сгорела совсем.
– Ты на нее не пеняй, коли сам свихнулся. А еще звался бывалым солдатом! За мать-Родину воевал! Чего тебя к Согрину понесло?
– Не знаю, – мотнул головой Софрон. – Значит, больше всего обиды поимел на него. Деньги, кои он платил за работу, казались нечистыми. Возьму в руки – пальцы жгут! Отчего?
– Спьяну, наверно, поблазнило. А деньги везде как деньги! Не сам Согрин. У него добром-то поганого веника не допросишься! И не надо было их рвать и топтать. Отдал бы Добрынину, коли самому не нужно.
– Такие деньги нельзя добрым людям давать. Зло ведь. Кто я теперича из-за них? Не человек. Страшно на себя посмотреть. Все здоровье, весь белый свет потерял за ради каких-то бумажек.
– Нажиться хотел? – спросил Гурлев.
– Да хоть из бедности выбиться. Надоела нужда, и возмечтал я о лучшей жизни. Во сне стало видеться: живу в крестовом доме, три горницы у меня, чистые половики настланы, занавески на окнах, цветки в горшках, а в конюшне сытые кони; и баба-то моя отмыта от черноты, в новом сарафане, и детишки причесаны, прибраны. Проснуся, гляну вокруг – ничего нету, голые стены. И стал думать: воевал за хорошую жизню, но где же она, пошто мой двор обегает? С того и решил: надо самому выбираться! Жилы себе порву, а скоплю денег и построю крестовый дом. И жадность меня обуяла. Посчитаю деньги – мало! Надо еще добывать.
– В кулачество податься хотел? – зло сказал Гурлев. – За что воевал, то забыл!
– Ну, какой из меня кулак, – облегченно выдохнул Голубев. – Уж ты, Павел Иваныч, зря не греши! Просто хотелось по мужицкому состоянию быть не последним. Да ведь и не зачудил бы я, а это баушка Марфа Петровна меня с толку-то сбила. Я ей пимы недавно свалял. Пришла она за ними и давай-ко мне выкладывать всякую всячину. За три года я ведь, окромя полатей в избе да пимокатни, нигде не бывал, даже с суседями не обмолвился словом. Посплю, поем и опять в свою темницу. А тут, как начала баушка Марфа языком-то чесать, уши навострил: неладно что-то в миру! Вот-де знамение и видение было, начнутся громы большие, пронзит землю огонь и опалит ее, даже дурная трава не станет расти, а люди повсюду святые кресты обозначили. Неужто, думаю, опять война началася? Не догадался, однако, спросить баушку: зачем, мол, в таком разе ты, Марфа Петровна, пимы себе новые справила? Да и свою же бабу не поспрошал. Выглянул со двора в улицу: верно, на окошках и на воротах у суседей кресты. И сразу ударила мне в башку-то печаль. Зазря, значит, столько годов робил день и ночь! Без пользы для себя и семейства. Вынул из кошеля деньги – вот и весь мой труд в этой бумаге! А в душе пусто, как в старом амбаре. Потом еще вспомнил: ведь на своем поле давным-давно не бывал, уж не знаю, с коей стороны от двора солнышко всходит и заходит. Баба моя состарилась от нужды. Детишки разуты и раздеты, на голой печи сидят. Глянул на себя в зеркало – видом страшнее дурачка Тереши!
Он нагнул голову ниже, чтобы не заметил Гурлев повлажневшие глаза.
– С того и задурил? – сочувственно спросил тот.
– Дальше соображения не стало. Как туманом сознание окутало. Ну, а про войну-то, Павел Иваныч, или чего иное случилося, верно ли?
– Больше старух слушай, так скорее разум-то совсем потеряешь! Давай постриги бороду и башку ножницами да помойся в бане и приходи к нам в Совет, сам разберешься.
Такое у Гурлева было правило: провинился, так найди в себе силы, поправься. Мужик ведь ты!
– А с баушкой Марфой Петровной, с чертовкой, я сегодня же потолкую, – грозно пообещал он, попрощавшись с Софроном.
Тот невидимый, неуловимый враг, которого он искал, чтобы пресечь молву, вдруг оказался перед ним в образе этой болтливой старухи.
Акиму Окурышу было приказано доставить ее в сельсовет в любом виде, хотя бы связанную по рукам и ногам.
Однако Марфа Петровна, оказавшаяся сложения тонкого и живучего, не заставила себя долго ждать. Растолкав мужиков, по обыкновению с делом и без дела коротающих дни в сельсовете, она прорвалась за перегородку, где сидели за столами Гурлев и Федот Бабкин.
– Ну, явилася сюда! Чего меня требовали?
– Обожди, баушка! – по праву председателя приказал ей Федот. – Отдохни покуда на лавке. Мы сейчас меж собой разговор кончим.
– Мне ждать недосуг! Я тесто в латке оставила!
– Ты уж и так довольно настряпала, – без почтения к ее возрасту сказал Гурлев. – Какая охотливая! Поди-ко, даже сорока столь не трещит языком, мельница столь жерновами не мелет, ветер столь пыли не подымает!
– Ох, батюшки! – всплеснула руками Марфа Петровна. – Неужто Варвара Мефодьевна на меня оговор сделала?
– Сама ты хуже Варвары! Ну-ко, при всем народе, коли совесть еще не потеряла, признайся: на каком основании морочила Софрона?
– Как слышала, так и передала ему, от себя нисколечко не добавила.
– А от кого слышала?
– Да от той же Варвары Мефодьевны!
Вскоре Аким Окурыш привел и Варвару Мефодьевну, костлявую, скуластую, похожую на заморенную лошадь.
– Не грешна! – ответила она грубым голосом. – Слышала сказ от Анфисы Герасимовны…
Боязливая, набожная старуха Анфиса сослалась на соседку Пелагею Григорьевну, а приконвоированная Окурышем рябая, курносая, обсыпанная зеленым нюхательным табаком Пелагея Григорьевна назвала разведенку Ефимью, бабу лет тридцати, известную тем, что ни один муж не мог с ней ужиться.
Гурлев встал из-за стола, медленно прошелся вдоль лавки, где рядком сидели виновницы, начиная с Марфы Петровны, затем устало сказал:
– Анафемы! Хоть бы черти поотшибали вам языки! Зря только время тратим на вас!
И Прокопий Согрин тоже признал, что напрасно старался: ничего путного не дала молва. Как сырую солому поджег. Подымило, покоптило, да на том и заглохло. А после того, как старухи побывали в сельсовете на допросе у Гурлева, насмешили людей, даже запечные старики перестали верить смутному слову.
Поздним вечером долго сидел Согрин у себя в горнице, смотрел в окно, мрачный и недоступный. Лампу зажигать не велел. Аграфена Митревна говорила на кухне с Ксенией вполголоса, ступала по полу тихо.
На гребне крыши сельсовета бился под ветром флаг. В освещенных окнах двигались чьи-то темные тени.
Ох, как близок локоть, но его не укусишь!
Согрин стукнул кулаком по подоконнику и нечаянно сбросил на пол горшок с любимой геранью. Земля рассыпалась, цветок сломался…








