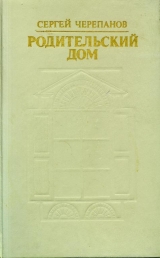
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
22
В одном из писем домой Чекан писал матери, что ему очень повезло с квартирой в Малом Броде. Добрая старуха Лукерья не жалела для него трудов. С первого дня масленой недели на столе не переводились блины. Но соблюдая обычаи и обряды, Лукерья на иконы в переднем углу никогда не молилась и в церковь не хаживала.
– Откуда же взялось у тебя, бабушка, такое неверие? – запивая чаем обильную еду, поинтересовался Чекан. – Вот Сашка Окунев перед кончиной признал бога злым и отказался от него. А ты как думаешь?
– Бога своего я в душе ношу, милый, там ему и полагается быть завсегда, иначе он никому не нужон!
– Значит, и зло сумеешь простить?
– Ну, это уж, миленький, вряд ли! – решительно сказала Лукерья. – Нечаянное зло скощу, а зловредное вымещу! Помню, еще девчонкой была, а даже попу не простила!
– Как же так?
– За причастие: он мне не дал церковного вина попробовать. Я ему на исповеди брякнула: «Верую, батюшко, верую, но на вечерки бегаю! В алтарь забралась, с попом подралась».
– И прогнал он тебя?
– Понятно, прогнал, да отцу вздумал жаловаться. Меня отец отлупил, а я за то попу в чашу со святой водой мышу подкинула. Потом в тот же год и с Христом-спасителем поквиталась. Послали меня родители к баушке с дедушкой домовничать. Время летнее, все люди в поле, дома малолетки да старики дряхлые. Утром-то баушка собралась в поле, а мне наказала: «Ты, Лукешка, днем сметану топленую из печи достань и поставь в чулан остужаться». Ну, я сметану в самую пору вынула, понюхала: ух, как сладко! Дай, думаю, только один разочек лизну. Лизнула и забылася напрочь! Велик ли был ум-то! Сначала помахоньку пальцем макала, потом добралась до нее с куском калача, так и вылизала всю дочиста! На низу горшка лишь оттопки остались. Вечером баушка спохватилась: «Это ты, Лукешка, сметану сничтожила?» Испугалась я: «Нет, не ела ничего!» – «Однако ты, внучка, не лги! Напакостила, так умей же признаться!» А я одно свое говорю: «Не трогала. И не вали на меня понапраслину. Ведь не видела!» Баушка показала мне перстом на божницу: «Я-то сама не видела, зато эвон Исус Христос с божницы за тобой подсмотрел и мне обо всем сказал!» Да меня плеткой ременной по заду раза два огрела на память. Проревелась я и пригрозила спасителю: «Ладно, – говорю, – мне-то памятно, но и тебе тоже достанется!» На другой раз баушка опять поставила сметану в печку и опять же меня к ней допустила. А я днем-то, прежде чем лакомством заняться, сняла с божницы икону Христа, весь лик сверху донизу сметаной измазала и повернула его к стене. Баушка-то, как взошла в избу, глянула туда на божницу, удивилась: «Это что ж приключилося? Пошто икона не так стоит? Небось ты, Лукешка, на божнице зачем-то шарилась?» – «И нигде я не шарилась, – отвечаю ей. – Сам Исус со стыда к стене отвернулся. Сметану-то слопал из горшка. Ага! Слопал. Измазался весь. А теперича и сказать баушке забоялся!»
– Снова попало? – засмеялся Чекан.
– Уж куда с добром! А я с тех пор невзлюбила бога церковного, выдумала для себя своего, бескорыстного и незлобивого. Бывало, уж когда в девках ходила, затяну песню да начну ее всяко играть, а бог рядом со мной незримо сидит, слушает и поправляет, если где ошибуся…
Лукерья присела на лавку, наклонила голову к плечу, подперла ее ладонью и звучно, совсем молодым, не испорченным старостью голосом, завела:
Высоко звезда восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше садику зеленого…
Далекую молодость вспомнила.
Не дожидаясь, пока она закончит песню, Чекан схватил гармонь, подладился к голосу и по слуху начал негромко вторить.
– Ох, как баско с гармонью-то! – похвалила Лукерья. – Я ведь песельница была на весь Малый Брод. Меня даже на свадьбы звали, ни один девичник без моего голосу не мог обойтись.
– Зря пропал талант, – пожалел Чекан.
– Да я и в замужестве пела. Мужик у меня был такой же. Как заведем с ним, у наших-то окошек народ собирался. Да вот не пожилось мужику, а мне одной стало скушно.
Чекан отнес гармонь в горницу, постоял, запоминая напетую Лукерьей мелодию. Потом вернулся к столу, сдержанно, по-деревенски поблагодарил:
– Ты чудесница, бабка Лукерья!
Масленица еще продолжалась, молодежь без устали шумела и веселилась на улицах. На пути к читальне, с трудом минуя нарядные толпы, Чекан снова и снова возвращался к мысли, как именно песенное слово, доступное многим, может сблизить и соединить людей.
Даже короткое, сухое письмецо, полученное в этот день от Лиды, не очень испортило ему настроение.
Лида писала, чтобы Федор постарался ее позабыть.
«Нам не удалось всю жизнь провести вместе, и теперь мы остаемся врозь навсегда».
Так она перефразировала сказанное ей на прощание. И добавила в самом конце:
«Я не могу упускать свое счастье. Я еще не знаю, люблю ли мужа, зато твердо уверена: мне бедствовать не придется».
Чекан прочитал письмо мельком, почти нехотя и не сразу понял, почему Лида боится за свое счастье. «Свое счастье» было написано крупными буквами и два раза подчеркнуто, как нечто абсолютно единственное и неповторимое в целом мире. Только свое, а чье-то иное уже не в счет. «Да ведь это же надгробие на нашей любви! – сообразил он, перечитав письмо сызнова. – Лида вышла замуж!» Многие версты между городом и селом Малый Брод разделяли их. Версты можно было бы пройти пешком или проехать на телеге, но ничем нельзя ни измерить, ни преодолеть расстояния между «своим» счастьем и «твоим», если они оказались чуждыми. «Да, конечно, для Лидочки я был бы бесперспективным мужем, – принужденно сказал он затем себе. – И надо было это давно понять!»
Письмо не нуждалось в ответе. Вложенная в него безнадежность заранее предрешала все. Да и не хотелось отговаривать, если Лида не постыдилась сказать: «Я еще не знаю, люблю ли мужа».
В читальне становилось прохладно. Аким Окурыш топил печи ночью, и они к полудню остыли. По случаю разгульной масленицы в читальню никто не заходил. В сельсовете тоже стояла безлюдная тишина. Лишь позднее, уже под вечер, зашел озабоченный Гурлев.
– Кузьма Саверьяныч не бывал тут?
– Не бывал, – подтвердил Чекан. – Наверно, дома чем-нибудь занят.
– И дома его нет. Я заходил.
– Бражничает где-нибудь, – недоброжелательно предположил Чекан.
– Не пойму, за что ты продолжаешь на него взъедаться? – проворчал Гурлев. – Мужик как мужик. Не скажу, будто рюмку не любит, но меру знает. И то, если спробует, так людям не показывается.
– А я тебя перестаю понимать, Павел Иваныч…
Письмо Лиды Васильевой еще продолжало тяготить, вызывало раздражение, и невольно один бесчестный поступок напоминал другой.
– …Да, перестаю понимать! Ты, такой строгий и принципиальный в отношении партийной этики, а Кузьму Холякова выгораживаешь и уже второй раз не принимаешь к нему никаких мер. Он выпивал у Согрина. Почему? Надо было тогда же разобраться на партийном собрании.
– Я спешить не люблю, – ответил Гурлев. – Повторится, тогда уж вдарю, дожидаться не стану.
– Братья Томины видели, как он у Окунева бывал. Зачем? И ведь не днем, а в потемках. Какая нужда? Окунев в подводчики не нанимался.
– Они мне тоже заявляли, и я Кузьму спрашивал. Новый тулуп Окунев продавал. Да ценой не сошлись.
– Мало верится, Павел Иваныч. Неправду говорил Холяков.
Такая же неправда, еле уловимая, но опасная, проступала между строчек и в письме Лиды Васильевой. Надеялась ли она, будто действительно, выйдя замуж не любя, найдет «свое счастье» и всю жизнь проведет без капли печали?
– А не скрываешь ли ты чего-нибудь, Павел Иваныч? Если я ошибаюсь, попробуй меня убедить.
Тот отвернулся, поковырял пальцем заиндевелое стекло в окне.
– Эк приспичило тебя с Холяковым, – раздраженно ответил Гурлев. – В такую неподходящую пору. А меня больше заботит, как Антропову станем докладывать? Упустили бандита. Что делать-то дальше? Милиция, конечно, вожжи не выпустит, но и нам нельзя оставаться в безделье. Куда же мог скрыться он? То ли сбежал отсюда подальше, то ли где опять здесь притаился?
– Посты пока не станем снимать.
– А что посты? Какой толк от них? Мы подкарауливаем на одной тропе, а Барышев пройдет по другой. Кабы хоть знать, кто ему тут потворствует, с кем он связан? Не один же Евтей Окунев был? Чернов молчит, как могила. Чем ему язык развязать? Уфимцев-то сам молчун, в час десять слов не скажет. Я ему давеча советовал: ты, мол, с Черновым обойдись круче, по-хорошему не сдается, так силой заставь! Отвечает: нельзя! Закон не дозволяет. Я ведь тоже закон уважаю, но тем временем бандит на воле и снова может сотворить преступление. Вот так-то! – Он пружинистым шагом прошелся по читальне, расстегнул ворот гимнастерки и пятерней взъерошил волосы на голове. – Да, между прочим, и с Ульяной не знаю, как поступить. Чую, про Барышева она догадывается или ей кто-то уже шепнул. Испуг у нее в глазах появился.
– Надеюсь, ты не подозреваешь ее?
– Нет! Давно знаю, не любила она первого мужа. Поневоле жила. И мне не изменит. Только беспонятная шибко…
– Она ведь перед тобой, Павел Иваныч, ни в чем не виновата, – мягко сказал Чекан. – Ты ее не бросай!
– А жить как? – вскинув брови, сумрачно спросил Гурлев. – Легко ли будет? Все в ее дворе теперь совсем опостылое, вражьим духом бывшего хозяина отдает…
В приоткрытую дверь заглянул Аким Окурыш.
– Холякова-то ждешь еще, Павел Иваныч?
– Жду! – торопливо ответил Гурлев. – Где он?
– Вдоль улицы шастает! Ты как велел мне в окошко смотреть, не появится ли Кузьма, так я смотрел в оба глаза, – напрашиваясь на похвалу, сообщил он. – Все не было и не было, вдруг быстрехонько из малых ворот Саломатовых шасть прямиком на дорогу. Да еще огляделся вокруг…
– Иди, покликай его сюда!
– Значит, все-таки не минует кулацкие дворы! – теперь уже уверенно произнес Чекан.
Но Холяков вошел трезвый и чем-то недовольный.
Гурлев, поздоровавшись, тут же подтолкнул его в спину и оба они, на ходу разговаривая, сразу покинули сельсовет.
Холяков мог еще поправить себя. Если по необходимости нанял в подводчики Согрина, по обычаю выпил с ним рюмку, по делам заходил к Окуневу и Саломатову, по глупости брякнул не то, что следует, – у него есть возможность восстановить себя в мнении товарищей.
А Лида вышла замуж! Тут ничего уже поправить нельзя! В письме она выложила свое сокровенное: «Бедствовать мне не придется!» Хоть в неволю, лишь бы не бедствовать.
У Лукерьи в доме сидели гостьи. На столе, в переднем углу, шипел самовар. Четыре старухи Лукерьина возраста, в сарафанах и платках, закусывая блинами, пили чай вперемежку с водкой.
– Проходи, Федя, садися с нами! – захлопотала она, встречая его у дверей. – Не обессудь нас, старых! Давеча, утром-то, разворошилось во мне прежнее, затосковала я по песням, ну и созвала давних подружек.
Старухи оказались знакомые – Марфа Петровна и Варвара Мефодьевна, у которых Гурлев искал правды, не они ли пустили молву про антихриста; Катькина мать Василиса Панова; жена Ивана Добрынина Акулина.
– Ты уважь нас, – прогудела Варвара Мефодьевна. – Мы добро любим!
– Кто же не любит добра? – заговорила Марфа Петровна. – Ты, Варвара, завсегда не туда поворачиваешь.
Подвинув ее на лавке, юркая бабка, очень навеселе, пропела и притопнула валенком:
Травушка-муравушка,
Ягодка моя!..
– Садися, мил дружок, на почетное место!
– А не боитесь вы, что я антихристом окажусь? – посмеиваясь и проходя к столу, сказал Чекан. – Большевик ведь я!
– Господь с тобой, – еще больше развеселилась Марфа Петровна. – Да мы про того антихриста уж и думать забыли.
Ой, ягодка моя,
Сладка вишенка!..
– Ты с устатку-то, может быть, примешь, Федя, вместе с нами по рюмочке? – спросила, не очень надеясь, Лукерья. – Али поморгуешь?
– Да почему и не выпить? – тряхнул головой Чекан. – Одну-то рюмочку можно. И что-то трудновато сегодня мне…
Его простецкое обхождение старухам понравилось. После рюмки и закуски Чекан вынес из горницы гармонь, сыграл плясовую, гостьи наплясались досыта, а затем усталые и счастливые от того, что вспомнили молодость и силы еще не ушли от них, засели снова за стол. Заводила песни Лукерья:
О-о-ох, потеряла я колечко,
С ним потеряла я любовь…
К ней с необыкновенной грустью, как бы омытой слезами вечной разлуки, старухи-песенницы присоединяли свои голоса:
Потеряла я любовь!..
23
Не сразу разобралась Аганя, как это произошло с ней. Встретив избача на вечерке, она нашла лишь, что на деревенских парней он ничем не похож. Потому и сказала ему про «неровню», а его поцелуй в щеку приняла обычно. Ведь целовали же парни девушек, это не считалось зазорным. В ночь, когда Сашка убил отца, в ней будто что-то вспыхнуло и всю обожгло. До самых мелких подробностей запомнила она, как Федор стоял перед ней на дороге и шутил про оторванные на полушубке пуговицы, как бежал к палисаднику с поднятым револьвером, а она замирала от страха за него, и, наконец, как он незлобиво относился к Сашке. Еще когда-то давно мать советовала: «В парне прежде найди человека!» Это было мудрено сказано, но потом оказалось, что все люди разные, каждый со своим характером.
– Ты его завлеки! – советовала Катька Панова после вечерок. – Избач не велика шишка в селе. Чего стыдиться! Кабы не Сережка, я бы сама принялась.
– Очень он в нас нуждается. У него, поди-ко, в городе невеста осталась…
Это она Катьке ответила так, но тогда еще можно было все пережить. И пережила бы, со временем собралась бы за кого-нибудь замуж, хоть за долговязого Алешку Ергашова, а, наверно, сама судьба того не хотела.
Себя и Федора Чекана Аганя уже не могла разделить. Каждое слово и приветливый взгляд принимала как ласку и добрый признак. Вера в него еще больше окрепла и засияла надеждой, когда в Межевой дубраве Чекан помог погреться и отдал перчатки, а позднее не проехал мимо двора, позаботился. Аганя в самом деле боялась оставаться ночевать в хозяйском доме. Чекан тогда увел ее к Савелу Половнину, посидел и пошутил вместе с дедом над ее страхами. Потом, когда вышла в сенцы проводить, он взял на прощание ее руку и долго держал, не выпуская. Тут и догадалась, и обрадовалась, что все это не просто так, а спешит навстречу то желанное и удивительное, которое она еще опасалась назвать любовью.
Посреди масленой недели, сразу после похорон Евтея и Сашки, в их дворе поселился новый хозяин. Это Егору Горбунову подвалила нежданная удача. Аганя знавала его еще по Грачевке, куда тот ежегодно приезжал к тестю и выпрашивал помощь.
Авдотья, жена Горбунова, баба рослая и костлявая, с большим лошадиным лицом, приходилась родной сестрой Глафире, оставшейся теперь в одиночестве.
У Окунева никакой родни не осталось. Полупомешанная Глафира править двором сама не могла. Поэтому и взяла Авдотья опеку над сестрой, а Егор сразу вошел в роль попечителя.
В первый же день он отобрал у Агани и повесил себе на пояс все ключи от кладовых и амбаров, переоделся в новую одежду, купил где-то три четверти самогону, заколол годовалого телка и устроил поминки погасшему роду. Столы в горнице ломились от еды, а жрать эту прорву оказалось некому. Позвал Горбунов только богатых хозяев, а они не пришли. Побрезговали. Пуще всего хотелось ему посидеть на равных, за одним столом с Согриным, поговорить без прежней униженности, пошиковать, но Прокопий Екимович еще не вернулся из поездки в город.
Вместо мужиков Горбунову составили на поминках компанию старухи-плакальщицы и бывшая монашка Соломея, вся в черном, на вид постная, читавшая из книги поминальные молитвы.
На улице горланила масленица. В доме пахло ладаном и богородской травой. Чинно переговаривались старухи, прикладываясь к еде и выпивке. Егор, разрешивший себе еду и выпивку на полную силу, глотал самогон стаканами, пятерней накладывал в рот квашеную капусту и не переставал выхваляться перед монашкой.
– Я, матушка Соломея, выродился в паску, в самый святой день, а не в Егорьев, как меня по имени звать.
– Коль на паску, значит счастливый ты, – кивая угодливо, подтверждала монашка.
– А меня изурочили!
– То исть, как могли изурочить?
– Наговором. И действием. Уголек на пупок мне-ка сунула старая карга повивалка, что роды от матери принимала. С корысти. Показалося, будто мои родители мало ей вознаграждению выдали. Ну, бают, меня в ту пору все в рев кидало. С пупка-то и сорвал, худосочным вырос. А с наговору фарт мне в жизни неправдашним сделался. Вот уж, бывало, совсем доскребуся до фартовой жизни, возвышусь, вознесусь, толичко бы приладиться к ней, но лизнул, понюхал – и опять же при старом житье.
– Может, сам виноват? Богу свечки не ставил, мало молился, матерным словом его поминал?
– Блуду поддавался, матушка! – пьяно хахакал Егор, оглаживая ладонью костлявые колени монашки. – Супротив вашего бабьего сословия неустойчив я!
– О-ох, ты-ы!..
– Удалой я на это! Ты на Авдотью не кивай. Я бы ее пропустил, да черти надо мной подыграли. А полагалось мне жениться не как-нибудь… на поповой дочке я мог жениться. Во как!
– Не верь ты, матушка Соломея, ни одному слову, врет Егор – не дорого берет! – сказала с другого конца стола Авдотья. – Ему от простой поры навивать-то.
– Цыц, баба! – прикрикнул Егор.
– Уж, поди-ко, я тебя испужалася! – прохохотала Авдотья. – Как турну из горницы на полати!
Еще два дня куражился и гулял новый хозяин, но уже один на один с Авдотьей. Покрикивал на Аганю и на Ахмета, наводил порядки: то щи казались пересоленными, то соленые огурцы начинали ему горчить.
На проводы масленицы приказала Авдотья заводить блины. Первым сел за стол Горбунов, пододвинул к себе горшевик с топленым маслом.
– Ты, Аганька, малу-то сковородку отставь, покуда меня не накормишь. Достань для меня большую. И считай, сколь я блинов съем!
– Зачем это, дядя Егор? – с недоуменьем спросила Аганя.
– О первых, ты меня дядей не называй! Теперича я тебе не кто-нибудь! О вторых, надобно тебе наперед знать, сколь для меня на один присест еды готовить.
Блины чуть не с решето, с пылу с жару, хватал он себе на ладони, обжигаясь, свертывал, затем на всю глубину макал в горшевик и, обмасливая жидкую бороденку, чавкал.
Сорок блинов съел, полгоршевика масла вымакал.
– Теперич вроде довольно, – потрогав натянутый по брюху сыромятный ремень, рыгнул Егор. – Ублаготворился! Можно завтре великий пост зачинать.
– За пятерых сработал! – брезгливо сказала Аганя.
– Не чужое, не Христа-ради выпрошенное. Пусть-ко теперича Прокопий Екимыч Согрин подавится тем злосчастным пудом муки, что не хотел дать мне к празднику.
– И куда в тебя, Егор, лезет столько! – подивилась даже Авдотья. – С виду ты тощой, брюхо втянуто до хребта. Такую прорву блинов сглотал и снаружи ничуть не приметно!
– Ты, баба, за мной не подглядывай! – распорядился Егор. – В жадности не уличай! Мне надобно телом выправиться, чтобы тот же Прокопий Екимыч передо мной не задавался!
Он полез отдыхать на голбчик возле печи, улегся там и приготовился к приятному, сытому сну, когда со двора вошел в дом Ахмет.
– Ты пошто без спросу в дом лезешь? – заворчал на него Горбунов. – Место твое в малой избе, ступай туда. Опосля Аганька блинов принесет.
– Разве ему места здесь за столом не хватит? – вступилась за Ахмета Аганя. – Постыдился бы, дядя Егор…
– Опять дядя! – запетушился Горбунов.
– Я ведь не знаю, как тебя величать?
– Егор… – он запнулся, припоминая, как же его называть по отцу. – Егор Матвеич, небось!
– Ты же сам недавно из работников вышел, Егор Матвеич! – продолжала Аганя. – И постыдился бы унижать человека. Ахмет не хуже тебя!
– Э-э-э, новый хозяин! – осуждающе покачал головой Ахмет. – Шибка дурной вид кажешь! Масленка – не наш праздник, блин-та мне нипочем. Свой ураза скоро придет. А ты мне мала-помала расчет подавай!
Требование Ахмета озадачило Горбунова, он еще не успел всласть натешиться правом хозяина ничего не делать.
– А кто коров и коней станет кормить-поить, обиходить?
– Сам, наверна, – спокойно объяснил Ахмет. – Лежать не станешь, все сам исделаишь. Не то другой батракам наймешь! А мне дальше не можна жить. Евтейка нету, мой слово кончался, слава аллах! Свой диревня пойдем наконец-та!
Егор поворочался на голбчике, припоминая, как прежде обходились с ним хозяева.
– Уговор с Евтеем Лукичом был у тебя до коей поры?
– Долгам отработать.
– Значит, отрабатывай…
– Не можна! Я долгам давно-предавно кончал. Задарма робил!
– Выходит, не полагатся расчет! – закричал Егор.
– Тетрадка кажи!
– Какую еще тетрадку придумал?
– Кою Евтейка писал. Я неграмотный, Аганька поможет. Давай-та заново посчитаем.
– Никакой нет тетрадки.
– А, нету? – удивился Ахмет. – Чистый обман был? Тогда сельсоветам нада идти, правдам искать. Как нет тетрадка?..
– Мне тоже расчет подавай, Егор Матвеич! – решительно заявила Аганя, снимая с себя фартук. – Не уживемся мы вместе!
– И ты заодно! – опешил Егор.
– Батраку-то у батрака батрачить…
– Э-эй! – и на нее закричал Егор, подымаясь, свешивая ноги с голбца. – Поговори у меня!
– Евтей Лукич был без стыда и совести, он на том взрос, на чужом-то горбу, а тебе, Егор Матвеич, совсем не пристало, – попыталась обратиться Аганя к человеческим чувствам Егора. – Настоящая хозяйка все же Глафира…
Тот заморгал, растерянно заелозил на месте. Удовольствие от сытости и безделья, от сознания личной значимости вдруг ускользнуло. Опять проступила нужда и позорное состояние приживальщика. В эту минуту он представил себя снова в своем разоренном хозяйстве и униженным перед Согриным; две морщины обозначились по обветренным щекам, спина согнулась, но потом недалекий его ум все же разыскивал зацепку.
– Окромя меня и Авдотьи за Глафирой некому приглядеть. Допусти-ко стороннего, так у нее ни кола, ни двора не останется. С этого значит: тут теперича моя полная воля! А я сумею хозяйничать не хуже чем прежний хозяин!
– Как нет тетрадка? – снова подступил к нему Ахмет. – Сундукам надо искать, проверять надо!
– Нету!
– Ай, ай! Обман-то кругом!
– Ты сам рассчитай нас, Егор Матвеич, по совести, – предложила Аганя. – Известно ведь, сколько другие хозяева работникам платят.
– Почем я знаю: платил вам Евтей али нет?
– Поверь! Мы не обманем.
– Ха! – воскликнул Егор. – У всякого пальцы сгибаются на ладонь, а не от ладони! Лишь бы воспользоваться…
– Ай, ай! – все еще никак не мог поверить Ахмет. – Как же тетрадкам нету? Не мог Евтейка с собой ее брать. Тот свитам аллах без бумага рассудит. Здесь чем жить? Робил-та задарма!
Горбунов приосанился. Ключи от кладовых и от сундука, где лежали бумажные деньги, накопленные Окуневым, висели у него на ремне. Потому и опоясался он сыромятью, чтобы нечаянно не обронить связку ключей, не проворонить чего-нибудь.
Для уверенности побрякал ими, сбегал в горницу, заглянул в сундук и совсем категорически отказался хоть по малости заплатить батракам.
– Ступайте отсель. Не будет расчету! Бог подаст!
– Мы не милостынку выпрашиваем! – удивляясь его самодурству, сказала Аганя. – Добром не согласен, силой заставят. А дом этот и верно проклят кем-то! Пойдем отсюда, Ахмет!
На крыльце она подняла лицо, вдохнула свежего морозного воздуха и, вся переполненная ощущением полной свободы, заблистала глазами.
– Ох, Ахмет! Даже не верится: будто я снова родилась. Или из темницы вышла. Небо-то какое большущее…
– Небо большой. Земля большой. Людям вся нада. На большой жисть-та народ пошел. Один я, такой ват ма-а-а-ленький, как мизинчик, жисть прожил узкий, ни смелый. Ты молодой, Аганька. Замуж пойдешь, добрый парень найдется, худой жизнь кончаешь. Ахмет как быть? Старухам кормить надо, чай добывать, а силам из тела ушел, одна болизни остался.
– Ты собирался в сельсовет пойти с жалобой.
– Под горячка сказал-та, – понизил голос Ахмет, поглядывая на дверь в сенцы. – Не пойду, навирна.
– Это почему же ты не пойдешь?
– Булна боязна. Совесть тащит: айда, Ахмет, ступай сельсоветам, не молчи, нельзя правдам прятать! Зато страх держит…
Аганя не поняла его недомолвок. Скинув тягостное ярмо и гнетущее одиночество, она поверила в себя, в возможность близкого счастья. Это Федор Чекан как будто все время был с нею рядом, подсказывал ей слова, руководил всеми ее поступками. Она хотела стать в уровень с ним, такой же решительной, сильной и так же заслужить у людей уважение.
– Мы, Ахмет, пойдем в сельсовет вместе! Проводим масленку и пойдем. Если боишься, говорить буду я. Почему мы должны дарить свое заработанное?
– Не можно, Аганька! – перешел на шепот Ахмет. – Сам виноват я. На мельница-та ящик возил. Евтейка ящик на возам под мешки клал, Ахмет передал…
Аганя видела ящик с винтовками, найденными в кладовой. Признание Ахмета ее озадачило.
– Неужто еще оружие?
– На винтовкам не похож был! Короткий ящик-та, пузатый, Евтей баял: железки-де на турбинам…
– Железки или не железки, об этом надо сказать.
– А ты сабсем взрослый девкам стал! – похвалил тот, вздыхая. – За одна неделям вырос-та! Давно бы так! Хорошо своя ум иметь! За себя постоять. Ишь опять какой у тебя, Аганька, лицо стал румяный, баской! Глазам-то какой ясный, живой.
– Потому, что хорошие люди есть…
– Как им не быть-та! За ворота выйди: везде есть!..
Аганя условилась с ним, что он еще останется и переночует в малой избе, а пойдут они в сельский Совет вместе и вместе же оба покинут двор. Сама она решила попроситься ночевать к Катьке Пановой.
Ночью они лежали у Катьки в избе на полатях и долго шептались, опасаясь строгости Василисы.
– Так это же и есть любовь, – уверяла Катька, опыту которой Аганя вполне доверялась. – Тебе охота о нем думать. Тебе хорошо, если он прикоснется. Ты видишь его во сне. И в чем же ты еще сомневаешься?
– В себе! Буду ли я-то достойна?
– Ты думаешь, он красивше найдет?
– По уму и по характеру чтобы мне от него далеко не стоять, – говорила Аганя. – Все с ним вместе. Пополам. Горе и радость. Войти в его жизнь навсегда…
– Очень много ты хочешь, – упрекнула Катька. – Если надо ему, так пусть любит, какая ты есть!








