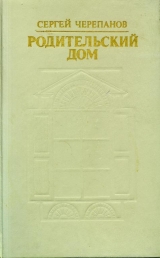
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
Все для Анны
Над дальней дубравой всходило раннее солнце, лучистое, но холодное, когда они тропинкой позади огородов, а затем узким переулком вышли ко двору Спиридона Кувалдина.
У прясел, в зарослях репейника и лебеды, на пожухлой траве взгорка ярко сверкала роса: усталая земля, перед тем как встретить осеннюю непогоду, надела свой лучший наряд.
Неподалеку, над яром, стояли в обнимку, как сестры, три березки, тоже нарядные, в желто-багряном убранстве, а ниже, за песчаным мысом Шутихи, плескались в тихой воде белые гуси. Чуть подальше, где улица делает крутой поворот вдоль берега, перед деревянным мостом, пастух собирал стадо на пастбище.
Деревенского утра, наполненного запахом парного молока, навозной прели и ядреной огуречной свежестью, ни тот, ни другой не замечали.
Кувалдин, густо загорелый, с большими жилистыми руками шагал крупно, увесисто, изредка поводил плечами, болезненно морщился и ни разу не оглянулся на Чумакова, который шел за ним, как на привязи. Фетровая шляпа и брезентовая куртка Чумакова, опоясанная патронташем, были изрядно помяты и испачканы грязью. На выходе из переулка он остановился, бросил погашенный окурок в колею дороги.
– Ты отведи меня, Спиридон Егорыч, в сельский Совет, пусть оформят протокол. И отдай мой паспорт, а сам ступай к фельдшеру, так будет надежнее…
– Без тебя знаю, что делать! – сурово ответил Кувалдин. – Иди, как велено! Я позору принимать не желаю. Без сельсовета и без фельдшера обойдусь…
– Не чужак ведь я. Не убегу. Отвечать придется – отвечу!
– А ты мне в родню не напрашивайся! Я и ближнему соседу на слово не верю. Иному пришлому мог бы простить, но тебе – никогда! Век бы не встречать и не видеть!..
Чумаков понурился и нехотя пошел за ним дальше. Решить дело мирно, по-доброму, не привлекая внимания со стороны, конечно, было бы гораздо разумнее…
Возвращались они с Долгого болота, что в трех километрах от деревни. Кувалдин нес на согнутой руке плетенку из ивняка с живыми карасями, а у Чумакова висел на плече рюкзак и пустой чехол от ружья.
Дом Кувалдина стоял на углу переулка и улицы, в глубине палисада. За частоколом, за густыми кустами акации и сирени, были видны мощные яблони, увешанные крупными плодами, а подле окон еще продолжали буйно цвести мальвы и махровые астры. Три окна в кружевной резьбе, с ярко голубыми ставнями, выходили в переулок, а шесть, смотревших в улицу открытыми настежь створками, выставляли напоказ богатую обстановку парадных комнат. Наружные стены дома, обитые дощечками в «елочку», покрашенные изумрудно-зеленой краской, крыша под оцинкованным железом, тесовые ворота и кирпичный гараж за ними будто доказывали, что созданы с любовью, на долгий век. А ведь не так уж давно на этом месте подслеповато щурилась старая изба Егора Кувалдина, мужика, не умевшего приспособиться к жизни. «У меня фарту нет, – всегда безнадежно говорил он о себе. – Чего ни начну, выходит не в масть, кособоко, криво!»
Зато сын, Спиридон, размахнулся.
– Красиво и крупно живешь, – не удержался от похвалы Чумаков. – Не каждому так удается.
– Можешь мне позавидовать, – останавливаясь у ворот и принимая похвалу, как должное, ответил Кувалдин. – Без занятий не сижу, не дожидаюсь, когда удача и на мою долю выпадет. Все сам делать умею. Все могу, коль захочу!
Чумаков направился было во двор, но Кувалдин остановил и показал на скамейку у палисада.
– Нельзя! Жди тут!
Из ворот вышли остриженные белые овцы, за ними, степенно покачивая крутыми боками, хорошей породы пестрая корова с загнутыми рогами.
Чумаков подумал чуть-чуть с иронией и скрытой усмешкой: должно, скучно и тягостно быть тут хозяином, изо дня в день до одури израбатываться с единой целью – тешиться нажитым. Однако все эти мысли сразу вылетели из головы, когда, провожая скот, вышла хозяйка.
В темном платье, в галошах на босую ногу, повязанная белым платком, она ничем не отличалась от обычной деревенской женщины, с утра озабоченной и занятой. Но лицо, тронутое легким загаром, крутые брови и большие глаза, светлые и глубокие, как ясное небо в полдень, все прежде близкое и очень любимое вдруг ошеломило Чумакова. «Нюра! – чуть не вырвалось у него. – Как ты здесь оказалась, Нюра?» Не хотелось верить, мало ли случается схожих лиц. А все-таки это была она, Нюра Погожева.
– Ступай, Анна, обратно, – распорядился Кувалдин, перехватив отчаянный взгляд Чумакова. – Овечки и корова сами уйдут к пастуху.
Анна переступила подворотницу, но, заметив Чумакова, который ей слегка поклонился, вспыхнула, гордо отвернулась и тотчас ушла обратно.
– Э-эх! – выдохнул Кувалдин. – Надо бы тебя, Чумаков, в проулке оставить… Да, ладно. Никуда отсюда не отлучайся. Я сейчас баню истоплю, кое-чего приготовлю. Сначала тело попарить придется…
– Разреши в дом войти, – попросил Чумаков. – Я твою Анну не съем, а поговорю – не убудет. Может, она меня чаем напоит. Пить хочется.
– Обойдешься! – отказал Кувалдин. – Прислуживать не разрешу Анне и говорить с ней тебе не о чем. Покойников с кладбища обратно не возят. Пить хочешь, так эвон в палисаднике бочка с водой.
Чумаков пытался вспомнить, чем и когда в молодости мог обидеть Спирьку Кувалдина? Не дружили. Не шлялись вместе по улицам. Спирька бывал в клубе часто, но держался на отшибе. Из-за девчонок ссор и драк не случалось. Кто-то из парней однажды сказал, будто Спирька ходит в клуб только смотреть на Нюру Погожеву. Тогда это позабавило, и вообще было смешно даже подумать, что Спирька мог бы в кого-то влюбиться. Притом он, как и многие, знал, что Степка Чумаков и Нюра Погожева – неразлучная пара! Да, были тогда неразлучными и мечтали о будущем…
Дальше вспоминать было тяжело, и Чумаков стал думать о том, откуда же взялась вражда у теперешнего Спиридона Кувалдина к нему, Степану Чумакову? Не из-за Нюры ли?.. Пожалуй, только из-за нее. Большой ревнивец, наверно…
Никогда не забыть, как чудно пела она на клубной сцене. Сколько счастья бывало у нее на милом лице, когда кончался концерт.
И вот где-то на перепутье, что ли, Спирька Кувалдин все-таки перехватил ее.
В размышлениях и догадках Чумаков отсидел на скамейке уже часа два. Кувалдин, по-видимому, все еще топил баню или был занят чем-то другим, даже мельком не выглядывал из ворот, не проверял. Да и в доме, как в нежилом, было тихо, лишь во дворе изредка хрюкала свинья и урчала собака, чуя вблизи постороннего.
Свет осеннего солнца становился прозрачнее. На белесом небе появились широкие туманные полосы, затем начали набегать рваные тучки, к вечеру могло разразиться ненастье.
Чумаков съел привезенную из города пачку печенья, но водой из бочки побрезговал: там плавали мухи. В доме напротив, у открытого окна сидела старуха, перед ней на столе кипел медный самовар, источая пар. От одного лишь вида этого самовара Чумаков ощутил во рту сладость.
Старуха оказалась приветливой, подала ему из окна большую расписную чашку крепкой заварки с кусочком сахара для прикуски, и, пока он, обжигая губы, утолял жажду, участливо попытала:
– Ай, дело какое есть к Спиридону?
– Есть! – подтвердил Чумаков.
– Ты, однако, не сплошай, держи ухо востро, он ведь не любитель проигрывать. А чего к нему в дом не идешь?
– Охота на улице воздухом подышать, – соврал Чумаков. – В городе живу, там такой свежести нет.
– Вижу, вижу – не здешний, – покивала старуха.
Зато он ее, хоть и не сразу, узнал. Это была Милодора Леонтьевна, вдова, вырастившая пятерых сыновей. С одним из них, Федькой, Чумаков вместе уехал в город, но там они потеряли друг друга.
Поблагодарив Милодору Леонтьевну, он вернулся на скамейку, где оставил рюкзак.
– Зачем туда шастал? – подозрительно спросил Кувалдин, открывая малые ворота. – Про меня узнавал или жаловался?
– Про тебя узнавать нет нужды, ты весь на виду, – принужденно усмехнулся Чумаков. – А старуха славная. По-прежнему добрая. Хорошим чаем меня угостила.
– Не проговорился ей?
– Ни-ни! Понимаю ведь…
– Ну, ладно! Айда, баня готова.
Он провел Чумакова через чисто прибранный двор к задним воротам, в огород. На мгновение Анна выглянула в кухонное окно и сразу же задернула занавеску. Чумаков приметил ее лишь краешком глаза.
– Шагай, шагай, не пялься по сторонам, – поторопил Кувалдин.
Тут во дворе была его земля, и, куда ни глянь, – все принадлежало ему. Для Чумакова эта земля представлялась совсем чужой, не здешней, не той, что на улице, на взгорке, на берегах речки Шутихи, а словно взятой откуда-то из холодного края. Милый образ Нюры Погожевой, оживший вдруг и неотступно волновавший его на улице, здесь растворился.
Баню Кувалдин построил тоже с большим старанием: точеные балясины у крыльца, застекленная веранда, теплый предбанник с широким окном и парная с высоко выведенной над крышей кирпичной трубой.
Чумаков достойно оценил уменье Кувалдина украшать свой быт, а вслух ничего не высказал. Все это богатство, порядок, опрятность напоминали искусственные цветы на похоронных венках.
– Наверно, твоей Анне даже передохнуть недосуг от такого хозяйства? – не очень учтиво спросил Чумаков, проходя в предбанник. – Скребет, моет, наводит блеск… Когда же вы успеваете хоть немного развлечься?
– Ну, и что? – начиная раздеваться, ответил Кувалдин. – Недосуг, верно! Но ведь не на чужого работает. Свое – не в тягость. Зато и живет – иной бабе так не приснится. Это ты посчитал ее ниже себя, взбрыкнул копытами и умчался отсюда, а для меня она – королева! Все для нее, все ради нее! Не будь Анны, разве стал бы я этакую домину на месте отцовой избы возводить и комнаты всяким барахлом начинять? На кой черт мне пристала нужда покупать легковую машину, когда я на совхозной по всей округе мотаюсь? Без нее, без Анны, может, стакнулся бы я с дружками-приятелями возле бутылки, кончил смену – и валяй! Гуляй на все четыре стороны, продувай жизнь по-сволочному!
Чумаков посмотрел на него с удивлением.
– Не верится? – усмехнулся Кувалдин. – А мне самому порой дивно: сколь я могу! Анна ведь не просит ничего, не требует. Я стараюсь угадывать ее желания и тотчас исполнять. К примеру: для чего мне вот этакая шикарная баня понадобилась? Была у нас тут банешка, еще отцовская, как говорится, на четырех пеньках. Один раз Анна в ней угорела, в другой раз простудилась. Что делать? Не губить же ее! Договорился в леспромхозе, купил там сосновый сруб, сам его перевез, сам на фундамент поставил, окна, двери, веранду сам смастерил, даже класть печку и каменку никого не нанимал.
– Анна довольна?
– Чего ей довольной не быть? Такой бани ни у кого нет.
Он даже подобрел и обмяк. «Да, все для Анны, а себя хвалит, – покосился Чумаков. – И не знает, доставил ли радость?»
Еще на пути от Долгого болота возникла у него к Кувалдину неприязнь. Самоуправство, высокое самомнение – все это было еще терпимо, а вот эта, не раз повторенная фраза: «Все для Анны, все ради нее!» – явно намеренная: дескать, Анна в своей жизни не прогадала, живет и бога благодарит, что от тебя уберег ее…
И не сдержался, не щадя самолюбия Кувалдина, кинул:
– Ты себя, Спиридон, тешишь больше, чем Анну!
– Можешь думать, как хочешь, – почти равнодушно отозвался тот. – Мне твое мнение – в печь на растопку! Поможешь дробь со спины изъять и сгинь, чтобы я тебя больше не видел. Мог бы вообще в наши края не показываться! Кой черт тебя сюда натолкнул?
– Родина не забывается.
– Да уж велика ли тут твоя родина? И станет ли она тебя призывать, коли ты бессовестно покинул ее!
– Учиться хотелось.
– А что же с тех пор сюда ногой не ступал? Пока жили мы, кушаки потуже затягивали, тебя где-то ветром носило, а сейчас, когда житье наладилось, явился свою охотку справлять, – повысил голос Кувалдин. – Я понимаю: ну, взял бы корзинку, направился по ягоды, по грибы или хоть так, от безделья, на полянке полежать, а то ведь посыкнулся на перелетную птицу. Ей, бедной, и так уж спрятаться негде, повсюду в нее стреляют, так еще ты при полном охотничьем параде прибыл сюда на разбой…
– Не на разбой, – поправил Чумаков. – У меня билет есть, и я сверх нормы не взял бы.
– Все вы такие, пока на виду, – сказал Кувалдин, добавив ругательство. – И не обеляй себя. Про честность не тебе говорить. У тебя смолоду ее не бывало. Вспомни-ка Анну! Сколь она из-за тебя настрадалась? Какие ты ей золотые горы сулил? За других девок я не ходок, но за Анну никогда не прощу…
«Ну, вот, – убедился Чумаков. – Все-таки из-за Анны». Но своей вины перед ней не признал. Не было вины. А произошло тогда непредвиденное…
– Мы с ней просто дружили, – избегая подробностей, чтобы не злить Кувалдина, сдержанно произнес Чумаков. – Она мне, конечно, нравилась. Живая. Веселая. Пела красиво.
– Стоп! Больше ни слова о ней! – приказал Кувалдин.
– Ладно. Замолчу.
– Я тебя не за этим загнал сюда, – непримиримо-враждебно пояснил Кувалдин. – Исправь, чего натворил, и мотай аллюр три креста.
Продолжая ругаться, он разделся донага, подставил Чумакову свою упитанную, поросшую волосами спину.
– Посчитай, сколько застряло?
На пояснице и чуть ниже кровяными коростами было покрыто двенадцать дробин. Видимо, дробь была уже на излете и только продырявила кожу.
– Надо бы ранки чем-то промыть, – посоветовал Чумаков.
– Водой нельзя, – строго сказал Кувалдин. – Можно заразу внести. Эвон возьми с подоконника водку.
– Вата есть?
– Не держим. Валяй так, ладонью пошоркай.
Такое зверское лечение он, однако, долго стерпеть не мог.
– Стой! Полегче, что ли, нельзя? Ведь не с бревна кору сдираешь. Дай дух перевести! У-ух, саднит как сильно! За одну эту маяту мало тебя в болоте утопить…
– Получилось нечаянно, – веря, что действительно произошел непредвиденный случай, сказал Чумаков. – Впрочем, не понимаю…
– Нечего понимать! Смотреть надо было, куда целишься! Спросонья или с похмелья ослеп? А ежели бы ухлопал меня?
– Я не только смотрел, но и внимательно слушал. Кругом болота, в безветрии ни камыши, ни лес не шумели. Ночевал в копешке сена, встал затемно, не дремал, а вот когда ты мимо меня прошел, не увидел.
– У меня лаз в камыши не тут. Левее.
– Значит, я увидеть не мог. А туман еще с вечера наползал. Было желание уйти, переждать, пока туман весь рассеется, а вдруг смотрю, подле камышей, с краю плеса, что-то шевелится. Утиный выводок, думаю…
– Кой черт, утиный! Это я наклонился и начал из воды ловушку доставать. Только взялся за нее – грохотом оглушило, а спину будто кипятком ошпарило…
Горбясь, прикрываясь полотенцем, Кувалдин открыл дверь в парную, велел Чумакову хорошенько распарить березовый веник, плеснул на каменку ковшик воды и, укладываясь на полок, язвительно произнес:
– А ружьишко было у тебя хреновенькое. С настоящего ружья мне пришлось бы похуже.
– Нет, дельное было ружье, – не согласился Чумаков. – Шестнадцатый калибр, дальнобойное, и дробь кучно ложилась. Здесь почему-то вся дробь вразброс?
– Теперь оно уже отстрелялось. Со дна не достать.
– Зря ты его забросил туда.
– Скажи спасибо, что вгорячах самого тебя не сломал, как сухую лесину.
– Но бьешь хлестко. Сразу сбил меня с ног.
– Убегал бы! Или ждал, что кинусь к тебе целоваться?
– Испугался. Ты, как леший, вылез из камышей и в драку…
Чумаков легонько попарил ему веником спину, стараясь не бередить ранки. Кувалдин, закрыв глаза, молча переносил боль, расслабился, гнев в нем утихал.
– Маловато жару, – сказал он, хотя Чумаков уже весь обливался потом. – Плесни на каменку еще раза два.
– Уши жжет!
– Поддавай, говорю! Ишь, как разнежился в городе.
Спасаясь от острого жара, хлынувшего из каменки, Чумаков минут десять сидел на полу, поливал себя холодной водой, а Кувалдин так и не слез с полка, похлестывал себя веником, сгибался и разгибался, покуда полностью не распарился.
В предбаннике они сдвинули скамейки поближе к окну. Чумаков попробовал выковыривать дробинки шилом, но ранки закровоточили.
– Валяй без инструмента, выдавливай пальцами, как бабы с лица угри удаляют, – сказал Кувалдин. – Заодно терпеть…
Удалив таким способом дробь и смазав пораненные места водкой, Чумаков пристально осмотрел добытое.
– Эта дробь не моя!
– Ты стрелял – и вдруг не твоя, – не поверил Кувалдин.
– Мелкая. Бекасинник. А у меня крупная дробь. Можешь убедиться.
Он достал из патронташа несколько патронов, выковырял шилом пыжи.
– Действительно, не похоже, – сравнив, недоуменно произнес Кувалдин. – А чудес не бывает…
– Мог быть кто-то другой, – невольно начал припоминать Чумаков. – Вечером, когда я возле копешки устраивался на ночлег, подходил ко мне парень, тоже с ружьем, только с одноствольным, тридцать второго калибра. Попросил спичками поделиться. Я думал, он тут мимоходом. А ты, когда ловушку доставал, как стоял: лицом к восходу?
– Восход был у меня за спиной.
– Значит, были мы с тобой лицом к лицу.
Кувалдин посоображал и кивнул головой:
– Пожалуй. С того места, где ты стоял, мне в спину не мог попасть.
– А кроме того, – облегченно вздохнул Чумаков, – я сидячую птицу никогда не бью, только в лёт. На этот раз тоже намеревался с первого выстрела поверх камышей спугнуть выводок, поднять на крыло, потом уж из второго ствола послать в цель. Наверно, тот парень стрелял одновременно…
– Ну, что же, Степан Чумаков, зачти мою оплеуху в отплату за Анну и дай бог не встречаться нам, – не уступил Кувалдин. – Ружье я тебе деньгами возмещу, паспорт после бани отдам, убирайся и не поминай меня лихом. За оказанную помощь спасибо. Один бы я не управился.
– Позвал бы Анну, если фельдшера хотел избежать.
– А ты имеешь ли понятие о мужском достоинстве? Лично я скорее подохну, чем покажу себя жене в неприглядном виде. Она может пожалеть, поспособствовать, а в душе посмеется и с той поры уважать перестанет. Муж для нее всегда обязан быть на большой высоте. Сколько годов потрачено, чтобы ее к себе приучить… – Он явно проговорился о том, чего не следовало никому говорить. – Насчет фельдшера тоже не велико достижение. Пришел бы не насморк лечить. Моментом вся деревня узнает. И почнут ребятишки вслед дразнить: «Дядя-подранок!» Прозвище повесят, и носи его потом, как собака ошейник!
Продырявленную дробью рубаху он бросил в печку, на каленые угли, а пепел смешал с золой, затем с хозяйской дотошностью прибрал в бане, смыл полок, надел чистое белье, у зеркала причесался.
– Как же ты, Спиридон Егорыч, объяснил Анне это неурочное мытье в бане, да еще вместе со мной? – добродушно спросил Чумаков, уже не опасаясь новой вспышки озлобления Кувалдина. – Она ведь меня узнала…
– Соврал. Встретились, дескать, на Длинном болоте, старое знакомство припомнили, а ты, дескать, с вечера оступился в камышах, продрог за ночь и попросил побаниться. А что в дом тебя не позвал и чаем не напоил, так это уж мое право, ни к чему Анне сердце травить.
Ревность опять заклокотала в нем, взгляд потемнел.
– Всполошил ты ее, а я оплошал, не следовало тебя ей показывать.
– Я не виноват перед ней, – искренне сказал Чумаков. – Не могу догадаться, за что ты меня то и дело облаиваешь? Когда-то и что-то было. Не век же помнить! Была Нюра Погожева. Теперь уже нет той Нюры, а есть Анна Кувалдина, почти незнакомый мне человек. Она твоя, и отбирать ее я не намерен. У меня своя семья есть.
– Она ведь за тебя замуж-то собиралась…
Кувалдин словно захлебнулся на этих словах, отвернулся и молча начал обуваться.
Чумаков на минуту прикрыл глаза; опять нахлынула не то боль, не то горькая досада. Любил ведь Нюру! А судьба разлучила. У Нюры заболела мать, младшие сестренки были еще несмышлеными, и она не решилась уехать. Договорились так: приедет в город позднее, он ее подождет. И не приехала. На письма не отвечала. Последнее письмо, которое он ей написал, вернулось с отметкой почты: «Адресат получать отказался». Почему? Надо было тогда же съездить сюда, повидаться, выяснить, но заговорило чертово самолюбие, обида, притом, спешить из дальней дали, куда его занесло, без надежды, без уверенности в успехе, казалось, уже не было смысла. Из родни тут никого не осталось, мать заколотила избенку и переселилась в другие края, к брату. Постепенно любовь к Нюре утихла, на место утраченного пришло другое. Так уж водится: все заживает от времени.
– Немало случается казусов: рассчитывал на одно, получилось совсем иное, – сказал он, стараясь казаться равнодушным. – Я собирался, а ты женился.
Кувалдина это даже взбодрило: ведь он оказался в выигрыше, достиг, утвердился, а жизнь назад не пятится: что его, то навеки его – силой не отобрать. И соблазнила сладость отмщения.
– Теперь дело прошлое, – усмехнулся он. – Я только того и ждал, когда ягодка со стола упадет. Пока ты здесь отирался, не мог я с тобой потягаться. Ходил в клуб, пялился на деваху, с тоски помирал. Даже потом, когда ты уехал, она и слушать меня не хотела. Уламывал ее, уговаривал: «Забудь Степку! Пока с матерью валандаешься, он себе в городе другую найдет. Любил бы, так не оставил бы одну».
– Тогда ты подлец!
– Смотря по тому, как рассудить и с какой стороны посмотреть, – нашелся Кувалдин. – Я тебя подлецом считаю, ты – меня. Каждый соблюдает свой интерес. Я совестью поступился не ради себя, а ради Анны. Что ее ожидало? Чем ты мог ее осчастливить? Сам-то еле-еле, на голой стипендии, на чужих квартирах, на всем покупном. Я ведь насквозь прочитывал ваши письма и знаю, как она отвечала: «Милый, любимый, без тебя и песни не поются!» Моя сеструха в ту пору письмоноской работала, так делай вывод: связная ниточка, не доходя, обрывалась…
– Боже мой, – как от удара, замотал головой Чумаков. – Люди без совести!
– А зачем совеститься, если иных путей не нашлось! Я ведь не по-твоему, а от души Анне счастья желал. Этакой товар, да за дешевку нигде не купить. Сама-то Анна много ли в себе разбиралась? Ты поманил ее, песни ее нахвалил, свел девку с ума, будто она такая звезда, что с большой лестницы не достать, и тем ей только страдание доставил. Зато я хоть совестью попустился, больше ни в чем себя упрекнуть не могу. Все для Анны, все для нее! Чего же ей еще надо?
– Теперь она для тебя лишь поет?
– Выкинула она эту блажь. Недосуг. Вечером телевизор посмотрим и спать: мне поутру на работу, а ей успеть бы по хозяйству управиться, – не поняв, что имеет в виду Чумаков, ответил Кувалдин. – Только иногда, если меня нет поблизости и никто ее не услышит, попевает вполголоса. А ведь пыталась было тоже уехать. Когда в тебе разуверилась, узнала где-то про народный хор при Дворце культуры в городе. Я за ней по пятам хожу, про свою любовь твержу, а она одно повторяет: «Помоги добраться туда!» Вскоре выпал путь, послал меня директор совхоза на заводе запчасть получить. Взял я Анну с собой. И по дороге решил: «Нельзя ее в тот хор допускать. Потеряю вконец. Девка смазливая, найдутся охотники, пойдет она по рукам, слыхал, какая у артистов вольность насчет разного прочего? И пришлось снова совесть похерить. Задержался я там, нашел к руководителю хора подход, вечер посидел с ним в ресторане, выложил: дескать, невесты лишаюсь и поделать ничего не могу. Ну, он ее на второй день принял на пробу, послушал песни и начисто забраковал: «Не мечтай, девушка, нет у тебя настоящего голоса. Для деревни годится, а в наш хор, извини, бездарностей не берем!»
Чумаков молча слушал эту поганую исповедь, наливался гневом. Он убил бы Кувалдина, окажись ружье. Убил бы! А Кувалдин между тем, понимая, что Чумаков переживает самые горькие, страшные минуты душевного потрясения, с новой усмешкой добавил:
– Совесть скинуть не диво! Не я первый, не я последний, кому не хочется прогадать. И никто не вправе меня осудить. Я не ради корысти, а для любимой. Вот спросить бы тебя: чего ты достиг, чем мог Анне светлую жизнь предоставить? За какие доблести она по сей день не может тебя из сердца выкинуть?
Он опять выдал сокровенное, мучительное, но на этот раз не оборвал себя, а грохнул кулаком по скамейке:
– Давеча, как увидела, ведро слез пролила. Молчит и плачет. Еле ее успокоил. И детей от меня она не хочет иметь. Чужих детишек приветит, своих не надо! Почему? Не чумной же я?
– Хуже! – ненавистно сказал Чумаков. – Ты, Спиридон Кувалдин, – оборотень, или того хуже – вампир!
– Но, но! Полегче чуток! Анне о моих поступках ничего не известно. Я только тебе повинился, но и то ради моей к тебе ненависти! Чем ты лучше меня, чем дороже? Ладно, я простой шоферюга, а ты кто?
– Инженер.
– Не велика шишка. И видом почти не красавец.
– Ты зло посеял, теперь урожай собираешь, – сдержанно сказал Чумаков. – Уйдет от тебя Анна, все равно когда-то уйдет, когда совсем опостылеешь…
Он кинул на плечо рюкзак, открыл дверь предбанника, спустился с крылечка. Кувалдин выбежал вслед.
– Стой! Не доводи до греха! Один через двор не пройдешь! И остановиться не вздумай, кинуть Анне словечко.
– Ты меня перед ней опозорил и мне рта не заткнешь. Анна должна знать правду!
Ничто не представлялось столь дорогим и крайне необходимым, чем именно это: сказать Анне правду!
У задних ворот, перед входом в ограду, Чумаков оттолкнул Кувалдина в сторону.
– Боишься? Душонка дрожит?
Тот сжал кулаки, затем бешено рванул на себе ворот рубахи и вдруг обмяк, судорожно, сорвавшимся голосом спросил:
– Неужели несчастья ей хочешь? Наши с тобой дороги сошлись и снова на век разойдутся, а ей-то как?
Анна неподвижно стояла у крыльца, все в тех же галошах на босу ногу, и юбка на ней, как разглядел Чумаков, была застиранная, на рукаве кофты заплатка. Не от нужды. Она, встретив взгляд Чумакова, быстро смахнула сверкнувшие у переносицы слезы и пошевелила беззвучно губами, прощаясь.
Поэтому Чумаков и не сказал ей уже готовое сорваться с языка: «Не верь! Ничему не верь! Я тебя очень любил. Очень!» Не мог сказать. Пусть думает, как внушил ей Кувалдин. Это все, что теперь можно сделать для нее доброго, истинно человеческого.
Проводив его на улицу, Кувалдин протянул руку:
– Благодарю! Ты, Степан, лучше, чем я полагал.
Его руку Чумаков не принял, не ответил и, горбясь, удрученно пошел по дороге к автобусной остановке.








