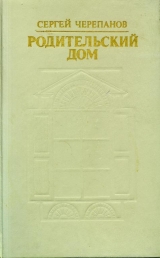
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
32
Предупредить Аганю об отъезде Чекан уже не успел и поручил Лукерье повидать ее. Он не сомневался: Аганя должна была понять неотложность поручения райкома и терпеливо перенести эту небольшую разлуку.
Перед заходом солнца Егор Горбунов вернулся из Калмацкого и привез с собой пассажирку. Выглядела она по-городски хрупко, неоткормленной, неотпоенной, не то что деревенские девки. На тощей груди под синей шерстяной кофтой торчали крохотные бугорки, поглядев на которые, Егор не признал пассажирку за бабу. А лицом оказалась она привлекательной: волосы светлые и в кудряшках, глаза большие и жадные, кожа на лице и на обнаженных по локти руках молочная, тоньше самой тонкой курительной бумаги. И всю дорогу Егора беспокоил какой-то незнакомый, дурманный запах, опять же не бабий, будто натолкали ему полные ноздри какой-то пахучей травы.
Горбунов доставил ее прямо к ограде двора старухи Лукерьи, подкатив на рысях, с шиком, достойным богатого человека. Взяв из-под облучка чемодан с вещами, перекинув через руку легкое суконное пальтецо, пассажирка поблагодарила и принялась стучать к Лукерье в окно.
– Здесь живет Федор Чекан?
– Здеся! – открывая створку, подтвердила Лукерья. – А вам-то почем знать, милая?
– Я к нему приехала, – сказала пассажирка. – Можно зайти в дом?
– А ты кто будешь? Сестра или иная родня? Про сестру-то вроде бы Федор ни разу не баял.
Та замялась немного, отвела глаза в сторону.
– Жена!
– Же-на? – отшатнулась Лукерья. – Осподи прости, да откудов же ты взялася? Он же холостой! Про тебя и слыхом никто не слыхал!
– Приехала, значит, жена! А дело это не ваше, бабушка! Мы сами с ним разберемся!
Произнесла это зло, без уважения, и обиженная Лукерья отрезала:
– Ну, коль не мое, то ступай отсюдова, милая, ступай! У меня не постоялый двор. И не поглянется тебе моя квартера. Попросту живу. А Федора скоро не жди. Он на всю вёшну в другую деревню отправлен.
А потом, когда та отошла от ограды, плюнула ей вслед:
– Да чтоб ты сгинула, окаянная!
Хотела она еще и кулаком погрозить, но в это мгновение, как из последних сил, вскрикнула Аганя и, закрыв ладонями лицо, навалилась на стол. Угощала ее Лукерья чаем, беседа между ними была тихая и мирная, покуда не появилась перед окошком приезжая. От слова до слова слышала Аганя весь разговор, сидела, потеряв соображение – где она и что же такое с ней происходит? А когда поняла наконец, что беда эта непоправимая и уверения Федора – неправда, иначе зачем бы ехала гостья в такую даль и называла себя женой, не могла проглотить комок в горле.
– Баушка… Баушка…
У нее не было никого во всем свете, кого бы она могла позвать на помощь себе, кроме участливой Лукерьи.
– Ох ты, гагарушка моя раненая, – захлопотала та, пытаясь поднять ее от стола и побрызгать в лицо колодезной водой. – Ну, успокойся, милая, ну, отыми руки-то и вытри глаза! Всяко ведь в жизни бывает, матушка моя!
– Но как же так, баушка?
– Значит, не тот фарт попал! Не всамделишный. Ну и слава богу, вовремя все открылось, а не то натерпелась бы ты позору. И нечего страдать, милая! Найдется другой молодец, может, еще получше, повиднее Федора.
– Никому верить нельзя.
Аганя подняла мокрое от слез лицо.
– Как это обидно, баушка! Ведь только вечор еще Федя сказывал мне: никогда и никого он не имеет права обманывать, коли он коммунист, то не положено ему говорить людям неправду. А меня обманул. Напел соблазнов: вот-де кончится твоя батрацкая доля, поедешь учиться, станешь в городу робить и покуда поживешь-де у стариков. Я всему верила! И не от стыда горе, пусть, кому охота, болтают обо мне, но нету больше веры ни во что…
– Это нехорошо, – строже сказала Лукерья. – Ты лучше в бога не верь, а в человека верь завсегда. Чует мое сердце, тут чего-то не ладно. Может, эта приезжая девка гулящая!
– Не похоже, баушка! Но почему же Федя о ней ничего не сказал?
– А поди-ко, боялся: любить не станешь!
Аганя, снова укрывшись ладонями, проплакалась более тихими слезами. Лукерья заставила ее выпить воды, пошептала подходящее для этого случая заклинание и сочувственно повздыхала:
– Темна водица, ой, как темна! Не торопись, Аганюшка, дело решать.
– Да оно уже решенное, баушка! – собирая мужество, отозвалась та. – Больше мечтать не о чем. Не отдала бы я Федю, если бы он мне ровней был. Постояла бы за себя. Но как же, если все, что было, – неправда?! Куда обиду свою девать? Если уж не жить душа в душу, то не к чему и огород городить. Он станет жить сам по себе, а я сама по себе. Страшно так, баушка!
– Да уж чего, поди-ко, хорошего! – подтвердила Лукерья. – Мужиков везде много, да только где-то между ними есть один-разъединственный! И потому, дождись-ко ты Федора, милая: чего он тебе сам скажет?
Аганя ничего не ответила ей, поправила на голове платок и встала из-за стола.
– Спасибо, баушка Лукерья, за хлеб, за чай, за доброе слово! Пойду опять к своей заклятой доле. Еще коровы не доены. Попадья уж, наверно, ругается.
– Пусть сама подоит. Не велика барыня! А ты ночуй у меня. Одной мне тут скукота. Вот стемнеет, так я тебе и поворожу.
– Не надо, баушка! – твердо произнесла Аганя. – Обидно! Я любовь-то, как милостыньку, не стану просить.
– Ну, так, чтобы сердце успокоилось!
– Я сама успокою…
– Не вздумай, однако!..
– Успокоюсь! – снова сквозь навернувшиеся слезы попыталась улыбнуться Аганя. – На это у меня характеру хватит. Спробую и без любви прожить…
Пошла она все-таки не в поповский двор, а в Дарьину избу. Там бросилась на постель, выплакалась до последней слезы. Дарья вместе с мужиками тоже уехала на вёшну, и в одиночестве Аганя ничего не нашла для себя лучшего, как только доказать Федору, что ничуть она не хуже его приезжей жены, не завалящая, а есть в ней своя гордость, свое достоинство. И чтобы никто не посмел о ней худого слова сказать, будто избач лишь забавлялся и строил из нее какую-то дуру, всерьез подумала об Алехе Ергашове. Этот, по крайней мере, свой, деревенский, и можно привыкнуть жить с ним душевно врозь, как живут многие бабы, поневоле просватанные. При том еще неизвестно: чей будет верх? То ли Алехин, то ли ее? А работа везде одинаковая, любая жена та же батрачка! Потом представилось ей: вернется Федор из Сушиной, не успеет жену обнять, как узнает, Аганя уже замужем, и не будет у него права полюбоваться ее страданием. Так и положила себе: это судьба велит, замужество не надо откладывать, а хоть завтра же с Алехой записаться и обвенчаться, не затевая обрядов сватания и девичников.
Может быть, удалось бы ей к утру одуматься, но вышло иначе. Сначала услышала Аганя легкие вздохи гармони, а выглянув в окно, заметила в ночной полутьме долговязую фигуру Алехи.
Нехотя, без всякого желания Аганя вышла из избы, опираясь на прясло, позвала:
– Алеха! Иди-ко сюда!
Тот свернул гармонь, по-петушиному закидывая ноги и выставляя грудь, пришагал, не торопясь, с оглядкой, еще не догадываясь, какой успех его ожидает.
– Ты чего опять ходишь здесь? – спросила Аганя.
– Своего часа жду, – ответил тот, ухмыляясь. – К избачу-то баба приехала. Лидкой звать. У Согрина осталася ночевать. Я сам ее видел…
– А тебе-то какая нужда? Я ее тоже видела!
– В руки взять нечего, – хохотнул Алеха. – Как же теперич избач с вами с двумя-то?
– Я ему не жена. Погуляла покуда и хватит, – смелее сказала Аганя. – Это ведь ты завсегда лапаешься и на даровщинке хочешь попользоваться, а избач не таковской, он культурный и обходительный, с ним хоть сколько гуляй, девичьей чести не тронет.
– Будто бы уж святой? – опять хохотнул Алеха. – Нюхал сметану, да не слизнул.
– А я вот тебе дам по шее за то, – сердито сказала Аганя. – По своей мерке людей не меряй! Я ведь кого захочу, того и стану любить!
– Полюби меня, – разухабисто сдвинул картуз набекрень Алеха. – Как за каменной горой станешь жить!
– Да уж хоть не за каменной. Но кругом моя воля. Могу и тебя полюбить…
– Давай сейчас…
Алеха распялил руки, потянул Аганю к себе и, тотчас получив оплеуху, отступил.
– Эк, недотрога! Убудет, что ли, с тебя!
– А не лезь прежде времени!
– Так ты по правде решилася?
– Надоело одной бедовать, вот и решилась! Не возьмешь, небось, замуж? Батрачкой побрезгуешь! Одно дело простую-то девку лапать, а другое – назвать женой! И отец твой не позволит, наверно?
– Отец примет любую, лишь бы жениться. А тебя показать людям не стыдно. Вырядишься, так одно заглядение. И даже поп как-то нахваливал тебя, за двоих-де работает девка! Так во всех смыслах к нашему двору в масть.
– Только, чур, соблюсти уговор: без венчания я к тебе не пойду!
– Да самое это простое, пустяковое дело, – обрадованно сказал Алеха. – Хоть и не время свадеб, а отец Николай нам сделает скидку и повенчает в любое время.
– Чтоб завтра же…
– А куда ты спешишь?
– Покуда у меня желание есть, пользуйся, – сурово сказала Аганя. – И дальше не спрашивай. Ты возьмешь меня честную. Не покаешься. Но если не завтра, то уж никогда. Теперь ступай…
До утра просидела Аганя без сна, без мыслей, как деревянная, а при дневном свете перебрала пожитки, сложила в сундучок и равнодушно стала ждать, когда приедет на свадебной подводе невольный жених, заберет ее и повезет сначала в сельсовет записываться, потом на венчание в церковь.
Он лихо подкатил к Дарьиной избе на паре гнедых коней под украшенной лентами и бубенцами дугой, с двумя своими дружками из семьи Саломатовых. Все трое были подвыпившими, орали песни и веселились. Аганя покорно села с ними в ходок и, когда на рысях проезжали они по Первой улице, горделиво откинула голову перед любопытными бабами, пялившимися из окон. На крыльце сельсовета встретил их сам Ергашов, такой же поджарый и лупоглазый, как сын, за руку провел в помещение. Проходя мимо дверей читальни, Аганя почувствовала, как все у нее внутри сжалось, заболело, запротестовало против ее поступка. Затем возле стола Бабкина увидела приезжую в нарядном платье. Та свысока и зло требовала подводу. Бабкин отказывал. Все кони были в полях.
– Да, в конце-то концов, почему вы явились сюда? – вскипел он от ее настойчивости. – Ведь вы та особа, что не стала Чекана ждать и нашла себе мужа постарше.
– Хотя бы… – осеклась приезжая. – Вам-то в наши отношения не следует вмешиваться!
Эта новость сначала оглушила Аганю, а разъяренный вид приезжей напомнил Евтея Лукича, своевольного и корыстного. Как же Федор станет с ней жить? Ведь заест она ему век, лишит покоя, отымет радость!
Оттолкнув от себя Алеху, Аганя подступила к приезжей.
– Уезжай отсюда! Не по тебе он…
– А ты откуда взялась? – только сейчас заметив ее, в сердцах прикрикнул Бабкин. – Чего здесь потеряла?
– Моя невеста! – гордо вступился Алеха. – Запишите нас поскорее. Надо еще в церкву успеть, повенчаться.
– Как ты сказал? Куда записаться?
– В брак! – объяснил сам Ергашов.
– Да ты с ума, наверно, сошла! – заорал на Аганю Бабкин. – Кто тебя приневолил? После Федора еще след не остыл, а ты куда собралась?
Дальше Аганя ничего не помнила, не видела и не слышала. Выбежала из сельсовета, перемахнула прясло в чей-то огород, потом огородами, задами дворов, чтобы Алеха не мог ее достичь и вернуть, птицей долетела до гумен и спряталась там в старом стоге соломы.
Опять, как и прошлой зимой, когда спасалась от Окунева, провела она тревожные часы до темноты. Но тогда никто ничего не узнал, а сейчас о побеге со свадьбы пойдет насмешливая молва и на улицу хоть не кажись. И все-таки позор этот казался легче, чем было бы вечное сознание своими руками разрушенной доли. За дурость, за неверие теперь, по деревенскому обычаю, упала бы она перед Федором на колени и стала бы просить прощения, но и обычай, и раскаяние не искупили бы вины перед ним. Наконец-то разрушались остатки девичьей наивности, просветлялся весь призрачный мир желания только любить и больше ничего не знать. Оказывается, надо не существовать рядом с любимым, а жить; не всматриваться в его глаза, не выискивать в них – говорит ли он правду? любит ли? – а безгранично верить ему и всегда быть другом. Все это пришло к Агане как повзросление.
Деревня Сушино была неподалеку от Грачевки, и Аганя безошибочно пошла по дороге туда. В перелесках и на опушках березовых колков мигали костры, паслись спутанные лошади, вспаханная земля подпирала чернотой мерцающее небо, в колеях дороги и в закиданных черноталом протоках, на стоячей воде, падая, тонули отражения последних всплесков зари.
Верстах в десяти от села, на открытом степном раздолье догнала подвода. Ехали мужик с бабой. Мужик что-то про себя напевал и, поравнявшись с Аганей, оживленно поздоровался:
– Мир дорогой! Далеконько ли топаешь?
– В Сушино, – отходя на обочину, сказала она.
– Не ближне место! Аль неми́ня пристала?
– Уж такая неми́ня!
– Ну, так садись на телегу, подвезу! Нам дальше ехать. В Сушино-то сойдешь, а не то пешая набьешь себе пятки до крови.
Лошадь трусила легонько, мужик ее не торопил вожжами и опять принялся напевать под нос. Аганя присела на телеге рядом с бабой, молодой еще, но щупленькой и болезненной.
– А нам в Каменское, – пояснила баба. – Здоровьем скудаюсь. Вот повсюду доктора ищем, который бы вылечил. Замучился уж со мной мужик!
– Эка! – бодро присвистнул тот. – Спробуй-ко замучить меня! Я хоть до Москвы тебя повезу. Коня продам вместе с телегой, сам босиком остануся, но свово добьюсь непременно, выпользую тебя из хворости. Как ты полагаешь, попутчица: верно я баю-то?
– Я бы тоже так поступила, – радостно подтвердила Аганя. – А иначе к чему было семью заводить?
– То-то же! – победно сказал мужик. – Эт, добро бы дожить хоть лет до ста да вместе же в одну домовину лечь. На веки веков!
Вот оно как: на веки веков! Не иначе! И все пополам!
В Сушино, на мосту через речку, Аганя сошла с телеги, поблагодарила и попрощалась. Уезжая, мужик и баба как будто оставили ей часть своего добра и верности, так покойно ей стало. Уже развиднелось. По ту сторону речки, за мостом, куда, петляя, уходила дорога дальше, горбом подымалась лесистая гора, а за ней, на кучевых облаках пыхнули румяна восхода.
Пастух, собиравший стадо в отгон на выпас, указал Агане, где квартирует уполномоченный от райкома.
Хозяйка двора не хотела будить Федора, а затем все же уступила настойчивости девушки и провела Аганю во двор, к открытым дверям амбарушки.
Федор спал на кровати, подперев щеку ладонью.
Так он спал еще долго, не ворочаясь, и Аганя все время сидела рядом. Проснулся он неожиданно, когда на порог амбарушки взлетел петух, захлопал крыльями и во всю мочь, горласто начал сзывать к себе кур.
– Кыш! – спросонья крикнул на него Федор и тут же, увидев Аганю, удивленно раскрыл глаза: – Это ты?
– Я здесь, – сказала Аганя. – Ты поспи, а я еще посижу…
– Что случилось? – тревожно спросил Чекан, подымаясь.
– Ничего, ничего не случилось. Вчера к тебе приехала гостья. Ее зовут Лида. Ты знаешь, как ее зовут! Она назвалась твоей женой, а я хотела выйти замуж за Алеху, потом от свадьбы убежала сюда.
– Ни черта не соображаю, – мотнул головой Чекан. – Снится, что ли? Ну-ка, ущипни меня…
Аганя засмеялась над ним, такой он сонный, неуклюжий, не понимающий, и не ущипнула, а поцеловала в щеку.
– Теперь все ясно, – окончательно пришел в себя Федор. – Ты здесь. В Малый Брод приехала Лидочка. Непрошеная. Незваная. Бросила мужа и отправилась искать другого. Тогда ты решила отомстить мне и скорее кинулась под венец. Ну и как? Хорошо ли?
– Это не от мести, а с горя.
– И сюда прибежала с горя?
– Куда же еще бежать: ты здесь и я здесь! Если уж вместе, то на веки веков! Или прогонишь?
– Прогоню! Иди, ложись спать! И не вставай, пока не выспишься, не станешь веселая. Ну, марш в постель!
Она видела в нем так много радости, что невольно улыбнулась.
– Не прогонишь. Иначе не пришла бы сюда.
– Ну, и ладно, ложись, поспи хоть немного, – сказал он более строго. – Хорошо, нашлась и не наделала глупостей. А Лидочка когда-то была. Теперь ее давно нет. Приезжала женщина, мне неизвестная, чужая, лишь с прежним именем. И забудь про нее!
Он надел гимнастерку, поцеловал Аганю и вышел во двор, прикрыв дверь в амбарушку. Раздеваясь, Аганя невольно подслушала его разговор с хозяйкой.
– Должно, женушка явилась к тебе? – спросила хозяйка. – Наверно, недавно живете? Эт, как добивалась она!
– Еще зимой поженились, – соврал Чекан. – А я дома документ один очень важный забыл, так она привезла.
«Ну и врун! – уже засыпая, радостно подумала Аганя. – Небось, покраснел со стыда!» И все же это была хорошая неправда, даже необходимая сейчас, чтобы люди не сомневались ни в чем, и потому, что наступило последнее девичье утро. И утро это тоже хорошо, и все хорошо, что есть на белом свете доброго, неизбывного!
Счастливая, умиротворенная проспала она почти до самого вечера.
А уж на другой день проснулась по обыкновению рано. В батрацкой жизни в эту пору надо было доить коров и отправлять их в пастушную. Сейчас она могла распоряжаться своим временем, как хотела. Но не вернулся сон. Только занемела немного рука, на которой, лицом к Агане, спал Федор. Свет, пробивавшийся в щели со двора в амбарушку, создавал тихую, милую полумглу, и обнаженное до пояса тело Федора казалось темноватым, загорелым на солнце. Небритая, колючая щека касалась Аганиного плеча, то место саднило, но неудобство и даже легкую боль можно было терпеть сколько угодно.
Так прошел час или, может быть, два часа, – и все это время Аганя боялась хотя бы пошевельнуться, лишь бы ничего не нарушить.
– Ты здесь? – спросил Федор, открывая глаза. – Это здорово! Я с трудом верю себе…
– Почему с трудом? – не поняла Аганя.
– А положение-то для меня непривычное! Был всегда один, теперь нас двое. Уже семья. И надо быстренько вставать с постели, спешить зарабатывать хлеб.
Он засмеялся.
– Я думала, ты серьезный, – сказала Аганя. – Но такого веселого я тебя люблю еще больше. Такой ты роднее и ближе. Ох, скукота, наверно, жить с человеком, который хоть и любит, но живого слова никогда не промолвит.
– Всему свое время! Вчера я вел разговор с местными богатеями, чтобы провели они посевы сполна и не замахивались на советскую власть. Пришлось обойтись без шуток.
– Я тебя люблю! – повторила Аганя. – Всякого!
– А разве можно любить на выбор? И говорить при этом: вот за это я тебя обожаю, за это ненавижу! В каждом из нас есть что-то свое. Нет совсем идеальных. Только в одном хорошего больше, а в другом меньше. И если любишь, то прежде помоги человеку избавиться от плохого. Вот ты у меня мужественная, и за это я тебя сильно люблю, но за то, что растерялась и засомневалась во мне и чуть не поменяла на Алеху, хочется поколотить.
– Поколоти!
– Не стану! Никогда не дождешься!
Проверив часы, он вскочил с постели и заспешил одеваться.
– Куда ты? – спросила Аганя. – Сначала позавтракай!
– Потом! Потом!
– Зарабатывать хлеб идешь? – тоже пошутила Аганя.
– Надо! Ты у меня не одна! Всему народу хлебушко нужен…
Проводив его, Аганя пошла умываться на речку. Вода еще не прогрелась, по обрывистым берегам виднелись следы весенних промоин, а на песчаной отмели у моста парнишки ловили на удочки пескарей. Сквозь голые вершины берез на горе проглядывало яркое и жаркое солнышко, пылали стекла в окнах домов, дымились на крышах трубы. И все это, весь окружающий мир, словно узорами, золотыми венцами, украшал первый день ее замужней жизни.
Чтобы не создавать лишних толков в деревне, не ставить мужа в неловкое положение, Аганя через три дня возвратилась в Малый Брод и переселилась в дом Лукерьи. Гурлев еще продолжал в поле посевные работы, а приехал только в субботу вечером попариться и помыться в бане. Его не удивило ничуть, что Аганя тут стала хозяйкой.
– Экие вы, бабы, – сказал он добродушно, – все ждете, когда вас припечет!
33
Почти все предлетье стояла сухая, прохладная погода. Засеянная семенами земля под ветрами начинала пылить, на суглинках появились мелкие трещины, зато леса рано и буйно зазеленели.
Согрин наломался в эту вёшну на пашнях. Пахал один, в две упряжки: коням давал отдых, а сам работал без роздыху. Ухватывал для сна только пору от вечерней зари до утренней, совсем короткую, но убивался так не ради наживы, исполнял дело бросовое: ни себе, ни людям! Для отвода глаз, для видимости. Чтобы никто не мог поставить ему в вину злонамеренное сокращение посевов. Пусть будет их больше, а за урожай не ручался: сколько бог даст! И заранее знал – не вырастет нормального урожая. Не с чего быть, даже если дожди падут вовремя и начнет парить земля в благодатной истоме. Мелко пахал, почти поверху, всего на два-три вершка в глубину, а раскидывал семенное зерно так: где густо, где пусто, где нет ничего! Только обочины пашен, на случай проверки, которой грозился Гурлев, не портил. С краю проверят, а вдоль и поперек поля вряд ли. Да и осенью оправдаться не сложно: не всякое поле ровно родит! Поэтому не побоялся рискнуть обидеть землю, на которой вырос. Отверг себя от нее, как лишенный наследства сын: уходя из дома, со зла плюнул родной матери в лицо!
Пыльные ветры и холодное предлетье словно угождали ему. Да рановато порадовался! Перед исходом весенних дней погода вдруг изменилась. Сначала пронеслись грозы с ливневыми дождями, потом установилось переменчивое, теплое затишье. И полезли, поперли вверх всходы, стойкие и могутные. Любо-дорого стало по закраинам согринских пашен, только дальше хоть плюнь: сплошное редьё да проплешины. Даже маломальский севак ткнет пальцем и скажет: нагрешил хозяин поля, не постыдился небрежности.
– Это таков-то ты культурный хозяин, гражданин Согрин, – сурово промолвил Гурлев, прищуренными глазами осматривая раскинутые по пашне зеленя. – Таков-то!
Вместе с ним ездили для проверки посевов с поля на поле Бабкин и двое членов комиссии: Савел Половнин и Михайло Сурков. На слово никому из богатых владельцев не верили, по наглядности судили об отношении к советской власти и уже заранее прикидывали, сколько осенью взыскать хлебных излишков.
– Не меня вините, землю, – чувствуя в теле воровскую дрожь, прикинулся смиренным Согрин.
– Так земля-то по всей пашне одинаковая, но пошто же тута, возле межи, ни одного огреха нету и зеленя как зеленя? – заметил Михайло Сурков.
– Пошто? – переспросил Согрин. – По то это, что тут пашня немного в заветрии, у леса под боком.
– Не спорьте, – распорядился Гурлев. – Ну-ко, ты, Михайло, поковыряй пахоту здесь, какая у нее глубина, и сосчитай, сколь ростков приходится на один мерный аршин, а ты, дед Савел, пройди по пашне эвон туда, шагов на пятьдесят вперед, и то же самое сделай там. Сравним, и все станет ясно!
– Ловишь? – не вытерпел Согрин.
– Ловлю! – признал Гурлев. – Теперь я знаю, как с тобой обходиться!
Еще старался оправдать себя Согрин, выискивал причины до безнадежного крика о том, что Гурлев намеренно хочет его погубить, а про себя сознавал: оступился!
– Судить тебя будем, гражданин Согрин! – сухо предупредил Гурлев. – Нельзя тебя не судить!
– Я не виноват, – снова присмирел тот. – Конечно, ваше право судить и миловать, а не виноват я ни перед богом, ни перед совестью. Надо же принять во внимание: отвык я сам-то пахать и с лукошком по пашне ходить. Кажин год трудом работников обходился. И нарочито худа себе не желаю! Ведь не вам же худо, а мне самому: столь поту пролил, но получу-то всего ничего!
– Ты на нашей земле живешь!
Бабкин составил акт обследования посевов, дал расписаться членам комиссии. Согрин даже карандаш в руки не взял.
– Не имею желания. Жалобиться на вас не стану, некуда на вас жалобиться, никто мой голос не будет слушать, но и никакой вины за собой не признаю!
Суд мог состояться еще не скоро, и Согрин рассчитал, что сидеть смирненько, дожидаться, как волку в капкане, пока кто-то придет и расшибет башку, нет смысла. Отгрызает же волк застрявшую в капкане лапу, на трех ногах уползает в чащу и так, трехлапым, живет. А ведь на Малом Броде свет клином не сошелся, велик Урал, еще более велика Сибирь, раскиданы по ним тысячи дорог, и попробуй-ка сыскать в лесах и в горах песчинку! Притом вспомнилось ему, как говаривал Барышев: найдутся мастаки и за хорошие деньги любой документ смастерят, на любую фамилию, на любое происхождение!
Так и определился решительно: все к черту бросить, нагрузить на подводы самое необходимое, забрать семью, как-нибудь в ночь, без свидетелей уехать подальше. Но о своем намерении даже Аграфену Митревну не предупредил: получит команду – поедет. Коней стало жалко, коров и овец, а продавать их не соблазнился, лишь бы не привлекать внимание. Маловато оказалось в наличии бумажных денег. Потратил их на Барышева, не думал, что самому так приспичит. Поэтому и пошел к попу поменять часть золотых десяток царской чеканки. Поп свой человек, не растрезвонит.
Отец Николай провел Согрина в горницу, пригласил за стол, а насчет обмена сказал:
– Где уж мне, Прокопий Екимыч! Скудна и велико неприглядна становится жизнь священнослужителя. Существовать не на что! Источники церковных доходов иссякли. После обедни на блюде одни пятаки и копейки. Молодых лиц в церкви я уже не замечаю теперь, одни старцы стоят перед алтарем, сами зависимые.
Настроение у попа было подавленное, вид недостойный, как с похмелья, и одежда надета мужицкая: сапоги, шаровары, рубаха-косоворотка.
– Что же ты, батюшко, совсем расхлябился? – спросил Согрин.
– Собираюсь слагать с себя сан, – принужденно выдохнул отец Николай. – О сем уже с владыкой, отцом Золотавиным, все обусловлено. Некуда деваться, Прокопий Екимыч! Теперь веру православную ничем не поправить. Представь себе, мужики слушают радио. А бог безгласен. Нематериален. Невидим. Бог – это пустота. Так кто же станет ближе к душе человека? Притом, бог – это бесконечные посты, призывы к воздержаниям, к скудости, к покорности перед судьбой, а глас, вопиющий из радиоящика, раздвигающий мужику мир до бесконечных пределов, каждодневно поясняет разные события и явления в государстве, услаждает слух музыкой и, конечно, более привлекателен. Избач потому и поставил радио, что это сила необоримая, неподвластная нам, как гром небесный.
– Значит, струсил, отец Николай?
– Разумное отношение к действительности – не есть трусость, Прокопий Екимыч! А у меня дочери на выданье, и о них позаботиться надобно.
На троицын день колокола звонили как-то необычно, не сладко; бухали и тявкали вразнобой, словно пономарь был изрядно выпивши. Но никого это не смутило. Слух о решении отца Николая успел обежать село, и народ повалил в церковь толпами. Не усидел дома и Согрин. Отправился туда в будничном: не молиться пошел, а укрепить себя в безысходности.
Отец Николай вышел на амвон в самом богатом сверкающем одеянии, как при великих служениях, вроде пасхи и рождества. Лицо у него было строгое, а глаза потухшие, совсем невидящие глаза.
– Граждане! – подняв правую руку, громко и чуть дрогнув в голосе, сказал он, обращаясь к плотно столпившимся по всей церкви людям. – Как священник я всегда принимал у вас исповеди и прощал грехи. Наступило время, когда я хочу исповедаться перед вами и просить всепрощения.
Громко завопили старухи, старики, вскинув бороды, застучали клюшками, кто-то бросил в Николая шапкой, а мужики и бабы каменно молчали, уставившись ему в лицо.
– Бога нет, граждане, – глухо произнес Николай, когда волнение немного утихло. – Веками религия порабощала ваши умы. Я признаюсь вам, единственный бог – жизнь и ее правда! Не хочу вас дальше обманывать. Простите меня!
Он поклонился людям; снова начались старушечьи вопли и снова кто-то бросил в него, но уже не шапкой, а палкой. Николай скинул ризу, взял ножницы и остриг ими спадающую с головы жидкую, рыжеватую косичку, потом снова поднял руку, как в торжественной клятве.
– Отрекаюсь от своего сана навсегда! И вы, кто еще пребывает в темноте, проснитесь!
Согрин не мог поверить ни в искренность отрешения, ни в призывы попа, хотя был поражен его мужеством. Неужели только ради семьи выбрал он себе такую казнь и пошел на нее добровольно? Протолкавшись спиной вперед, отступил к выходу. На паперти тоже было людно: мужики курили табак, матерились к слову, словно работники, дослужившие у хозяев до срока и ожидающие расчета.
День блистал и ярился во всю мочь. Полагалось бы справить троицын день, отгулять с гостями, а Согрин посрывал с тесовых ворот вывешенные Аграфеной Митревной березовые ветки и затоптал их ногами.
– Осподи милостливый! – ударила та руками по бедрам в испуге. – Ты что эт, Прокопий Екимыч, сам не свой?
– Отстань! – прикрикнул на нее. – Не бабья забота!
И начал готовить две телеги в отъезд. Ночи теперь были короткие, за озером заря с зарей сходились, но времени на выжидание не оставалось. Отзвонили колокола, замолкла церковь, и ни единого проблеска впереди! Земля под ногами стала совсем чужой. Появилось такое странное ощущение: будто не здесь, не на этой земле родился и вырос Согрин, тут он жилец только временный, а где его родина – ничего не известно, как потерявшему самого себя.
Желание уехать немедленно и по возможности дальше, начать где-то жить заново, пока не заставили, не приневолили к этому, – стало неодолимым.
На сборы ушло два дня. Сложил на телегу самую исправную одежду и обувь, посуду и постели, все приданое Ксении, взял в запас четыре мешка муки, пуда три солонины, чай и сахар натолкал в пустой самовар и, укрыв возы холщовыми пологами, увязал новой варовиной, витой из конопли. Золотые десятирублевки царской чеканки велел Аграфене Митревне зашить в подол сарафана, под кружевные оборки, а сарафан надеть и носить как исподнюю юбку. Бумажные червонцы заделал в голенища своих сапог: так сохраннее и надежнее! Только замурованный в подполе наган Холякова оставил пока на месте, решив достать его и взять с собой при выезде со двора.
Так в сборах и хлопотах ни разу не выходил на улицу, не смотрел и не слушал, что творится в селе, особенно в сельском Совете. А в полдень, когда уже все было готово к отъезду, судьба все же настигла. Настойчиво, требовательно постучали в малые ворота. Открыл их Согрин и обмер: стоит милиционер Уфимцев, двое понятых – Аким Окурыш и Фома Бубенцов.
– Гражданин Согрин, – сказал Уфимцев, протягивая бумагу, – ты арестован по предписанию суда. Прошу следовать с нами!
– За что? – еле выговорил Согрин. – В чем я виновен?
– Суд скажет. Он уже прибыл и станет тебя судить открытым показательным процессом.
– А возы-то куда наготовил, Прокопий Екимыч? – заглянув в ограду, спросил Бубенцов. – Кажись, собрался тикать.
– Возы не трогать! – коротко приказал Уфимцев. – До решения суда. Ты, Фома, оставайся здесь у ворот, доглядывай, чтобы во дворе ничего не случилось!








