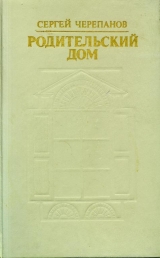
Текст книги "Родительский дом"
Автор книги: Сергей Черепанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
– Ну, и милый сын, – бормотал Чернов. – Пустил мать по миру. Отца без куска хлеба оставил.
– И что же дальше, Петро Евдокеич? – спросил Чекан, отослав Ахмета во двор задать голодной корове сена и наносить в избу для мельничихи дров и воды. – Развязать тебя или снова начнешь буянить?
– Развяжи, – попросил Чернов. – Не люди ограбили. Свой сын. А Россия велика. С деньгами уедет, подлец, не разыскать. Все спуталось, все смешалось в жизни. Не дети, а выродки. Один отца кончил, другой заживо схоронил. Куда ж мне теперич деваться? Заново начинать вдвоем с бабой – интересу уж нет. Да ведь и припаяют, наверно, мне?
– Поглядим прежде, как себя поведешь! – сказал Уфимцев. – Ведь зря нас морочишь. Весной снег стает, ящик найдем. Небось, в сугроб сунул?
– Не надолго! – рассеянно ответил Чернов. – Не загадывал такого исхода. Евтей Лукич велел Барышеву передать.
– Что было-то?
– Патроны винтовочные…
Его прервал Ахмет. Открыв дверь настежь, радостно возбужденный и торжествующий, Ахмет погрозил пальцем Чернову:
– Кто врет-та? Айда смотреть!
– Нашел?
– В поленница дров лежит.
Это он пошел брать дрова, как велел Чекан, и заметил, что поленница с угла обвалилась. Аккуратный старик не стерпел беспорядка, стал поправлять и наткнулся на ящик.
– Айда смотреть!
– Неси, – согласился Чернов, не подымаясь с лавки.
– Теперь рассказывай, – распорядился Уфимцев, приготовляясь составлять протокол. – Что делать хотели?
– За нашу прежнюю жизнь мстить!
Уже пришибленный, Чернов еще нашел в себе наглость сказать об этом смачно, подчеркнуто. Признаваясь, не хотел себя унижать. Ведь не жулик, дескать, не вор!
– А о себе не подумали?
– Когда нутро жжет, то и холодной воды напьешься! Сначала умри ты, потом я. Кто кого! Выбору не осталось.
– Ишь ты, слова какие! – удивился Уфимцев. – Мудрено. А что тебе Прокопий Екимыч говаривал?
– С Согриным у нас согласия нет, – сказал Чернов.
– Каковы его связи с Барышевым?
– Ничего точно не знаю! – Чернов понюхал табаку, взял еще более откровенный тон. – Свиданье с Барышевым у меня состоялось короткое, пришлося гнать к Лукичу…
– Где теперь Барышев?
– Не знаю. Разошлись мы с ним. Вы забрали меня у Окунева, а Барышев-то в ту пору дожидался в брошенной избе Половнина. Куда потом подевался, мне неизвестно…
Чернова вернули в камеру. Ящик с патронами Уфимцев закрыл в свой железный шкаф. Ахмет, довольный, что честность не пострадала, ушел получать расчет.
26
Ульяна была уверена, что наговоренный Лукерьей банный веник помог. Еще в тот день, когда Павел Иванович вернулся из поездки в райком, не раз замирала и трепетала вся от предчувствия, если не разлуки, то какого-то другого несчастья. А в субботу сходила с мужем в баню, попарила его, пошептала над ним и как-то сразу ей полегчало. Да и тревога поулеглась: Барышев словно сгинул! Соврал, значит, Егор Горбунов, посмеялся над дурой-бабой. «Зайди еще ко мне в избу со своим подлым языком, так я тебя скалкой в лоб угощу!» – пригрозила Егору в мыслях.
Павел Иванович продолжал пропадать по ночам, зато хоть немного помог по хозяйству: вывез из ограды снег, поправил ворота у пригона. Уж не ладился спать в одиночку. Иногда жалел: «Страдалица ты, Уля! Не захворала бы!» Тело у нее было здоровое, выносливое. Это она только лицом подурнела. И потому не понимала: к чему клонит муж?
Упала Ульяна на колени перед божницей и прокляла свою бабью долю, когда вслед за происшествием в доме Окунева донеслось, что Гурлев вместе с милиционером и избачом гоняли в Межевую дубраву на розыск ее венчанного мужа. Ничто теперь помочь не могло. Думала ведь – просто так явился Павел Афанасьич, нагулялся, вдоволь пошатался по белому свету, а оказалось: не с добром пришел! Не останется Гурлев жить дальше, сочтет за позор коротать век с бывшей женой бандита. «Не останется, – в горе своем, словно в огне, горела Ульяна. – В одночасье бросит! Все здеся было ему чужое, а теперич и подавно!» Потом догадалась: «Вот к чему называл он страдалицей! Я-то от него таилась всяко, а он знал уже все про все!»
И еще днем достала из сундука, перештопала, погладила и связала в узел все белье Гурлева, как в дальний путь собралась отправлять.
Узел положила к дверям: бери и уходи, куда хочешь!
Но Гурлев его не заметил. Сразу от дверей прошел к столу, сбросил одежду и обувь, устало навалился на столешницу.
– Дай, Уля, поесть! Экая погода чертова разыгралась.
После ужина залез на печь греться и там уснул.
Ульяна залезла туда же, всю ночь просидела рядом. Новое горе взяла добровольно: сама отказалась от прав мужней жены, от всех потраченных забот и хотела быть к Гурлеву справедливой. Пускай уходит! Силой к себе не привяжешь. Впереди в ее жизни не виделось хоть бы крохотной полоски просвета, а только тьма и холод пустого, безрадостного одиночества. Она и на это решилась.
Гурлев встал на рассвете, слез на пол, налил воды в рукомойник.
– А куда мое белье приготовила? – спросил он, кивнув на узел.
– Сразу возьмешь с собой, – сухо сказала Ульяна.
– Из дому гонишь?
– Жить ведь не станешь, Паша!
– Не дури!
– Да уж какая дурь! Позор-то со мной терпеть…
– А-а, – сообразил Гурлев. – Эвон о чем! Иной бы мужик тебе деру дал. Не бери себе лишнее. Не живи мыслями врозь. Зря-то не мучайся.
– Боялася…
– Зато меня оконфузила. Думаешь, легко было слышать от посторонних людей, что бывший твой муж объявился? Ты-то знала давно?
– Давненько.
– Небось, он же, твой Барышев, меня поджидал. Помнишь, когда я следы за пригоном нашел и говорил тебе, что смерть приходила?
– Я узнала уж после того.
– Кто передал?
– Егорка Горбунов. Встречал-де…
– Врет! Тут что-то не так.
– Может, соврал…
– Послушай, Ульяна! – Гурлев плеснул в лицо воды из рукомойника. – Давай побаям начистоту. Сошлась бы ты с Барышевым?
– Скорей умерла бы! – страстно ответила та. – Я ведь не по своей воле замуж пошла. Родители сговорились, как корову в чужой двор продали. А если бы ты ушел и того Павла вместо себя тут оставил, на том конец…
– Я бросить не могу. Нельзя! Не стану греха таить: иной раз жить с тобой неохота. А бросить, да еще теперь – в трудную пору, бесчестно! Я тебя за первого мужа не виню.
Его спокойный разговор и понимание ее беды Ульяна приняла с благодарностью.
– Но что же мне делать?
– Развяжи узел, уторкай барахло обратно в сундук. Да перестань страдать. Попробуем нашу совместную жизнь наладить.
– Так прости меня!
Припала к его плечу.
– А такие нежности лишние, – сказал Гурлев, отстраняясь. – Ну, ну, не обижайся! Не могу я пока никакой ласки сердцем принять.
«Виду не хочет оказывать, а ведь моргует мной, – горестно решила Ульяна. – Тоже и его надо понять: живет с бабой при живом ее муже, да еще и ловить того вынужден. Хоть бы поймал, прикончил как-нибудь невзначай, снял бы с моей совести экую тяжесть. О, господи, помоги ему!»
А в тот день, когда стало известно про Холякова, старалась она даже близко не подходить к Павлу Ивановичу, ступала по полу тихо, не гремела ухватами и посудой. Гурлев пришел ужинать, но к еде не притронулся: сидел перед столом в угрюмом молчании, теребил бровь. Мучился. Всегда при больших переживаниях он молчал и теребил бровь, а было ли это к худшему или к лучшему, Ульяна никогда не знала. В том узком, скудном мире, где находились все ее мысли, не существовало таких понятий, как ответственность перед партийной совестью, перед обществом земляков и товарищами. Словно через порожистую реку жизни, смотрела она на Гурлева, а помочь не умела.
– Не ты виноват, Паша! Не казнись зря. Ладно хоть сам-то цел!
– Именно я! – промолвил Гурлев.
– Да в чем же?
– Тебе знать не положено. Дело наше, партейное…
«Все врозь, все врозь норовит, – вздохнула Ульяна. – Так и не сойдемся, наверно, всяк при себе останемся. Увял алый цветочек».
И опять поплакала немного в чулане над тем алым цветочком – над пропащей любовью. Ужин остыл на столе, нетронутый. Она подоила в пригоне корову, задала корму, успела процедить и разлить молоко по крынкам, пока Гурлев поднялся наконец, выпил из ковшика холодной воды и начал переобуваться.
– Ты опять куда-то уходишь? – терпеливо спросила Ульяна.
– Надо! – устало ответил он. – Нельзя иначе! Нестерпимо. К людям пойду.
Три дня и три ночи он домой не показывался. От соседей узнавала Ульяна, как ветром носился он по селу. Сам не смыкал глаз и никому из партийцев роздыху не давал. Снова, уж который раз, обшарили все проруби на льду озера, проверили колодцы, перерыли навозные кучи в загумнах.
Побывать в сельском Совете Ульяна не решалась, посылала туда соседского парнишку с узелком хлеба для мужа, а страдание свое снова и снова выкладывала, стоя на коленях, перед божницей: «Вразуми же ты, господи, как дальше жить?»
Зато уж и встретила Гурлева не хуже любой доброй жены. Ни слова упрека. Помогла снять сапоги. Поспешила налить воды в рукомойник, подать на стол сытный обед. Присев с краю к столу, дождалась, когда Гурлев отложил ложку, вытер губы и тогда тихо спросила:
– Чем же все кончилось, Паша?
27
В последних числах марта, хоть с опозданием, начала пробиваться весна. Закурились сугробы, сверкали под солнцем ослепительной белизной, высвечивая захудалые плетни, засоренные навозом дороги, прогалы в березняках. Изредка несмело и чуть приметно пробегала по твердому насту поземка, примораживало из заозерья, но в затишках плавилась тонкая наледь, вызванивала пахучая капель.
Ранним утром на последний промысел зайчатины ушел Иван Добрынин в леса близ Чайного озерка. Кружил по заячьим тропам, проверял настороженные проволочные петли, поругивая свою невезучую, суровую долю. В одной петле зайца дотла сожрал волк, в другой источили и порвали заячий мех горностаи, в третьей к дохлой тушке добралась ворона, тоже напакостила, испортила матерого русака. Так и остался Иван с пустыми руками, а устал хуже, чем от тяжелой работы: спину не разогнуть, под шапкой волосы взмокли. Потому и не пошел он обратно по своим следам, а выбрал путь в обход озерка, по березовым колкам, где наст показался прочнее, а сугробы помельче. Этим-то путем и дошел он до полевой загородки Гурлева. Затем припала ему охота забраться в полевую избушку, разжечь костер в очаге и отдохнуть. Ничего ему тут попервоначалу не бросилось в глаза ни под навесом, ни у закрытой двери, а когда толкнул ее плечом и перешагнул порог, сразу же отпрянул назад. Мертвым, немигающим глазом смотрел на него из полумглы убитый Кузьма Холяков.
Не помня себя, потеряв где-то шапку, прибежал Добрынин в сельский Совет и еще с крыльца стал кричать:
– Он там! Вот-те крест, не поблазнило!..
Никогда не бывал Гурлев таким страшным на вид, нетерпеливым и быстрым. Как крутым порывом ветра кинуло его с крыльца до пожарки. Там он схватил под уздцы неоседланную дежурную лошадь, взлетел на нее и с места рванул внамет. Чекан и Бабкин, а вслед за ними верховой Уфимцев еле догнали его за выгоном.
Возле полевой избушки Уфимцев строго предупредил всех:
– Ничего не трогать, ни к чему не касаться!
И не позволил переступать порог.
Кузьма Холяков лежал на земляном полу, головой к очагу, напряженно выгнув залитую запекшейся кровью шею, а его убийца Барышев, дохлый, валялся на сбитых из жердей нарах, сжимая в руках обрез. Может быть, он хотел застрелиться, но в обрезе осталась одна и то уже порожняя гильза.
Гурлев, Чекан и Бабкин стояли у раскрытых дверей, пока Уфимцев исследовал, что же произошло тут? По всем признакам Барышев не сразу убил Кузьму, а о чем-то они разговаривали. Потом Барышев, выбрав момент, когда Холяков присел к очагу на чурбак, выстрелил ему прямо в затылок. О содержании их разговора можно было догадаться по найденной в руке Холякова старой, потрепанной газете, где в воспоминаниях партизана гражданской войны была упомянута фамилия Барышева, колчаковского карателя. Но казалось странным, как эта газета появилась у Холякова, почему он прежде ничего не сообщал о ней ни Уфимцеву, ни Гурлеву? А еще более непонятной была пропажа револьвера. Со своим наганом Холяков обычно не расставался. И как же мог он решиться в ночную пору, в лесу, встретиться с Барышевым без оружия?
К вечеру приехали из Калмацкого районный прокурор, начальник милиции и врач-эксперт. Они тоже внимательно осмотрели место преступления, затем врач поковырялся в Барышеве и сказал, что бандит был безнадежно болен чахоткой, вдобавок осложненной двусторонним воспалением легких. Значит, сделал Барышев свой выстрел уже при последнем дыхании. Вполне логично выглядело и появление Барышева в полевой загородке Гурлева. Он ведь явился не куда-нибудь, а на свое бывшее владение и мог тут поджидать Гурлева, не приедет ли тот проведать избушку или за оставленными в зиму дровами.
По версии Уфимцева, основанной на показаниях мельника и на фактах, обнаруженных после гибели Окунева, Барышев не успел завести обширных связей с местным кулачеством, а действовал преимущественно один. Таким образом, волей-неволей, приходилось дальнейшее следствие остановить на неопределенное время, в ожидании каких-нибудь новых, пока неизвестных деталей. Но так и не удалось выяснить: откуда же взял Холяков газету и куда подевал наган?
С почестями, с ружейными залпами похоронили партийцы товарища. Тело Барышева, без гроба, завернутое в старую рогожу, братья Томины вывезли из избушки за озерко, сбросили в волчью яму и сровняли с землей.
Когда гроб Кузьмы партийцы несли на руках вдоль Первой улицы, вышел из своего дома Согрин, обнажил голову, трижды истово перекрестился, чтобы все видели, как он сочувствует. А дня через три после того снова пришел в правление сельпо требовать плату за поездку в город. Намеренно подгадал к часу, когда в правлении оставался один счетовод, простодушный и далекий от мирских дел, подслеповатый Осип Гурьяныч. Неразговорчивый старик обычно отвечал посетителям скупым кивком, но от вопроса, заданного Согриным, возмутился:
– Такое, пока я здесь нахожусь, невозможно!
И спросил-то Согрин осторожно, вроде бы ненароком, дескать, чем же теперь покроется растрата, что осталась Кузьмой Саверьянычем? Поговаривают люди, будто бы прошлой осенью потерял он в городе немалые деньги. Так успел ли погасить растрату или же придется списывать ее на убытки?
Оказалось, чист был Холяков.
– Тогда уж ты меня извини, Осип Гурьяныч, – попросил Согрин. – Значит, слушок ползал зазря, дай бог доброй памяти Кузьме Саверьянычу…
А втайне порадовался: не обмануло чутье!
Так-то разрешив сомнения, Согрин в тот же день справил поминки по убиенному Холякову и усопшему Барышеву, выпив стакан самогона. Ночью, когда все семейство уснуло, взял он лампу, залез в подполье и там замуровал в фундамент дома холяковский наган, не подумав, однако, срезать с черенка нацарапанный шилом знак: «К. С. Х.». Ведь не надолго прятал, только до особой встречи с Гурлевым, один на один, на последний с ним разговор…
28
После проводов веселой масленицы вечерки ни в банях, ни в избах не собирались. Матери усадили девок за кросны ткать холсты и половики. С раннего утра допоздна Катька Панова не разгибала спины у станка. Учила ее Василиса ткать холстину узорчатую для продажи на сторону. Полуодетая и лишь на минутку выбегала Катька в избу к Дарье повидаться с Аганей да на пути хоть бы словом перемолвиться с Серегой Курановым, который всегда в сумерках терпеливо поджидал ее за углом сарая.
Аганя поселилась у Дарьи сразу же, когда получила расчет от нового хозяина осиротевшего дома. Из денег она немного потратилась на покупки необходимых вещей для девичьего обихода, остальные отдала Дарье на сохранение, затем снова пошла наниматься в люди. Уже не манила ее к себе родная деревня Грачевка. Нежданная, неодолимая любовь приковала, не отпускала из Малого Брода. Каждую ночь снился Федор Чекан, в папахе, в распахнутом полушубке, светлоглазый и добрый. Заскучала по нему, по вечерам тревожно сидела у окошка, прислушиваясь, не хрупнет ли снег под каблуками, не скрипнут ли ступеньки на оледенелом крылечке. А он не приходил почти две недели подряд, словно дорогу забыл. И не выдерживала иногда Аганя, сама решалась побывать в сельсовете, несмело заглядывала через узенькую щель чуть приоткрытой двери. Но так ни разу и не переступила туда порог; бывало там полно людей, собрания какие-то, разговоры и споры. Только тем и оставалась довольна, что хоть издали повидала.
Принял ее к себе на работу отец Николай за десять рублей в месяц на готовых харчах. Привычная ко всякому делу, Аганя легко управлялась с хозяйским скотом, сама ездила в поле за сеном, носила из колодца воду, помогала попадье готовить еду. А ночевать уходила в Дарьину избу. И ждала Федора. Нередко со скуки пела песни. Все про любовь. Однажды Дарья, приметив в ней тоску, пристала с расспросами, и Аганя не утерпела, призналась.
Сама Дарья еще не испытала замужества. На круглом цветущем лице не обозначалось еще ни единой морщинки, крупное тело, налитое здоровьем, носила она проворно и по всем видам была бы хорошей женой, но никто ее ни разу не сватал. Не мельника Чернова осудила деревенская молва, а именно Дарью за то, что приняла она на себя позор: добровольно, ради куска хлеба голая плясала на мельнице перед толпой мужиков и перед самим Черновым. Не полагалось девке обнажать себя перед сборищем гогочущих жеребцов.
Теперь Дарья числилась в перестарках.
Поругала она сначала Аганю: «Этак счастье свое проглядишь, если сама не станешь парня приманивать. Боишься, что ли, его? Жди, покуда он догадается!» Затем взялась помогать. Побывала в доме Лукерьи, выведала у старухи: не оставил ли Чекан в городе жену или невесту, не бывают ли у него здесь по ночам любовницы и чем он занят, что не может оторваться от дел? Этих сведений показалось ей мало, так не постеснялась, зашла в сельский Совет, убедилась лично – не до любовных утех пока избачу. Ружейный залп над свежей могилой Кузьмы Холякова все еще не затихал над селом. Уфимцев продолжал следствие, а партийцы каждый день проводили собрания бедноты и середняков, призывали не колебаться, не клонить головы перед вражьей угрозой, держаться друг с другом кучнее. На том собрании, куда угодила Дарья, сначала выступал с речью Гурлев, за ним взял слово Чекан, и Дарья невольно заслушалась, настолько правильными и справедливыми показались его слова. Как жить дальше? То ли порознь, то ли вместе? До каких же пор нужду терпеть и с оглядкой ходить, опасаясь кулацкой мести? А потом мужики высказывали свои мысли, сходились все к одному: не пора ли наконец попросить советскую власть силу проявить и переселить кулачество из села в иные места; пусть-ка богатые хозяева попробуют обойтись без батрацкого труда. Разволновалась Дарья, пробралась от дверей в гущу мужиков, встала рядом с Иваном Добрыниным, но тут волнение охватило еще сильнее, и она уже не смогла удержать свой язык.
– Вот меня «нагишатницей» прозвали, – сказала громко. – А то ли я виновата, что хотелось отца от голодной смерти спасти? Пошто надо мной Чернов издевался?
Мужики сразу притихли, потому что еще не было ни разу так, ни одна женщина не решалась выступить на собрании.
– Они, угнетатели наши, почитают себя людьми, – дальше вырвалось у нее из души, – а мы, значит, не люди! Я вот у Согрина в стряпках жила. Не дай бог никому такого хозяина!
Что-то еще было в ее речи, от волнения она не запомнила, зато мужики в ладони похлопали, а под конец выбрали в женотдел. Поначалу не поняла она, какой он, женотдел-то, для какой цели, и согласилась, когда Чекан пояснил:
– Ты, Дарья, бойкая, тебя бабы слушаются. Поэтому надо тебе браться за нужное дело – подымать женщин и девушек от их униженности к равноправию со всеми советскими гражданами.
Так и не удалось Дарье в тот вечер наедине перемолвиться с избачом, поспособствовать Агане в ее сухоте. Зато на другой вечер приодела ее понаряднее, взяла с собой. А еще немного погодя, наступила на крутой нрав Василисы Пановой, выдрала из-под ее власти Катьку, да еще с десяток девок из околотка чуть не силой притащила в клуб. Кричала на нее Василиса:
– Поди-ко, ты, Дарья, с ума свихнулась? Великий пост, а ты гулянки затеяла. Не порочь мою девку!
– А мы с малых лет уж довольно напостовались, – отругнулась Дарья. – И не заедай Катьке век! Не то возьмуся за тебя, Василиса…
Табунок девок, смущенных новизной и непривычкой к месту, наверно, разбежался бы из клуба, но вскоре Серега Куранов привел парней, а Чекан заиграл на гармони кадриль. Разохотились девки плясать, петь песни, рукодельничать на таких посиделках в клубе, и уже не стало отбоя от них, не могли их удержать ни родительские угрозы, ни былое правило молиться да поститься перед христовой пасхой.
Сразу и навсегда поверила Дарья в свою надобность людям. То скупое, скучное и бесцельное существование, в котором она прозябала, стало ей в тягость. Словно человек исстрадавшийся, жадно припала она к освежающему роднику, изумляясь своим открытиям. Гурлев и Чекан, и все остальные партийцы, казавшиеся ей прежде чуждыми, недоступными и неравными, вдруг вошли в ее жизнь как друзья.
Такие же перемены замечала Дарья в Агане. Но у той была еще и любовь. Не по-за углам где-то, не бесстыдная, как на вечерках и в предбанниках, а уважительная и чистая, ни с чем не схожая.
Позднее Федор признался, что приглянулась ему Аганя при первой же встрече, но сказать ей об этом не мог. Думал, не поверит Аганя, снова сочтет его за «неровню», а где же взять равенство, если действительно разное у них положение: он приехал из города, она деревенская; он избач, она сирота и батрачка; он кое-чему учился, она умеет лишь читать и писать. Вот и песню он слышал однажды такую:
Не люби, ученый, глупую,
Не люби, румяный, бледную,
Не люби, хороший, вредную,
Золотой – полушку медную!
А он не хотел никаких сомнений. Но и не собирался от Агани отказываться. И если бы не пришла она с Дарьей в клуб, все равно разыскал бы, непременно добился бы у нее доверия и убедил, что в любви никакого неравенства нет. Когда оба любят, значит, все хорошо!
– Ну, вот, оказывается, больше ничего не понадобилось! – сказал он счастливой Агане, когда впервые поцеловал ее в губы.
Обходился он с девушкой осторожно, всматривался в глаза и все как будто не верил удивительному сочетанию жгуче-черных бровей и ресниц с излучением мягкого, спокойного света глаз.
– Ты меня научи. Я понятливая, – говорила Аганя. – Эвон сколько у тебя книг в читальне. Ты, наверно, все прочитал. Я тоже их прочитаю.
Ее милая наивность и желание как можно скорее постичь огромный мир человеческих судеб, войти в незнакомое, где, по ее понятию, жил любимый, приводили Чекана в восторг. Так он любил бы малышку, сделавшую первые шаги по земле, сложившую из звуков первые слова. И отныне брал на себя ответственность за нее.
Разумеется, Аганя не была «малышкой», жизнь уже порядочно пооткрывала перед ней всякого добра и зла, поэтому ее желания только казались наивными. Любовь пробудила в ней и природные дарования. Уже после двух репетиций в созданном наконец драмкружке Кирьян Савватеич сказал Чекану:
– А ведь она умница, эта твоя Аганя!
Не только Кирьян Савватеич, но и Гурлев, и Дарья, и Катька, и даже Серега Куранов называли ее Чекану «твоя Аганя». Как жену. Но Аганя еще не была готова к замужеству.
– Да как же без ничего я стану твоей женой? – искренне недоумевала она, когда Чекан предложил ей зарегистрироваться в сельском Совете и начать жить вместе. – Люди осудят. Невенчанная-то как гулящая.
С той же твердостью, какую она показала, защищая Сашку Окунева, не поддавалась никаким уговорам. И не бросала работу в поповском дворе. Свадьбы весной не играют, а пока подойдет время свадеб, надеялась подготовить приданое.
Аганя покорно и терпеливо каждый вечер приходила в читальню, читала книги, вникала в их смысл. Это был единственный путь искоренить в ней предрассудки, но для него требовалось время, притом немалое. Дарья тоже посоветовала не торопить девушку.
– Успеешь выпить первую рюмку! Дай одуматься. Сама деваха доберется до смыслу.
Апрельская талица за две недели источила снежные сугробы, прошумела ручьями, обнажила жухлые проплешины на угорах, залила прозрачной студеной водой лога и распадки. Сиреневой дымкой закурились леса, глубоко высветилось заозерье, только озеро еще ослепляло белизной, как огромная плоская льдина, зажатая изжелта-темными песчаными берегами. Земля пробудилась от зимней спячки и, наверно, не узнавала многих своих хлеборобов, переживших за прошедшие месяцы столько событий. Одни еще больше прозрели и уже стали тяготиться одиноким житьем, рвались из душевной своей темноты; другие, еще не осознавшие иных путей к справедливости и возмездию кулацкой жестокости, затаили отмщение. На страстной неделе, перед пасхой, кто-то поджег маслобойню Прокопия Согрина, выбил камнями окна в доме Казанцева.








